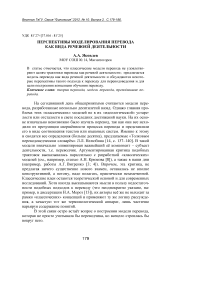Перспективы моделирования перевода как вида речевоей деятельности
Автор: Яковлев Андрей Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечается, что классические модели перевода не удовлетворяют целям трактовки перевода как речевой деятельности; предлагается модель перевода как вида речевой деятельности и обсуждаются некоторые перспективы такого подхода к переводу для переводоведения и для цели построения концепции обучения переводу.
Теория перевода, модель перевода, преподавание перевода
Короткий адрес: https://sciup.org/146120963
IDR: 146120963 | УДК: 81’27+[37.016
Текст научной статьи Перспективы моделирования перевода как вида речевоей деятельности
На сегодняшний день общепринятыми считаются модели перевода, разработанные несколько десятилетий назад. Однако главная проблема этих «классических» моделей не в их «идеологической» устарелости или отсталости в свете последних достижений науки. На их основе изначально невозможно было изучать перевод, так как они все исходили из презумпции свершённости процесса перевода и представляли его в виде соотношения текстов или языковых систем. Именно к этому и сводятся все определения (больше десятка), предлагаемые «Толковым переводоведческим словарём» Л.Л. Нелюбина [14, с. 137–140]. В такой модели изначально элиминирован важнейший её компонент – субъект деятельности, т.е. переводчик. Аргументированная критика подобных трактовок высказывалась параллельно с разработкой «классических» моделей (см., например, статью А.Н. Крюкова [8]), а также в наши дни (например, работы А.Г. Витренко [3; 4]). Впрочем, эта критика, не предлагая ничего существенно нового взамен, оставалась не вполне конструктивной, а потому, надо полагать, практически незамеченной. Классические идеи остаются теоретической основой и для современных исследований. Хотя иногда высказываются мысли в пользу недостаточности подобных подходов к переводу (что неоднократно указано, например, в диссертации Н.А. Мороз [13]), их авторы всё же не выходят за рамки «классических» концепций и применяют ту же логику рассуждения, а зачастую тот же терминологический аппарат, лишь частично варьируя содержание понятий.
В этой связи остро встаёт вопрос о построении модели перевода, которая не просто учитывала бы переводчика, но всецело строилась бы вокруг него.
Основываясь на знаменитых идеях Л.В. Щербы о трояком аспекте языковых явлений, мы предлагаем отказаться от абсолютной дизъюнкции «перевод как процесс – перевод как продукт (текст)» и разграничить все переводные явления на три аспекта: перевод как вид речемыслительной деятельности, перевод как вид общения, перевод как продукт, т.е. текст перевода, иногда рассматриваемый в его соотношении с текстом оригинала [16].
Перевод мы понимаем как речемыслительную деятельность переводчика по нахождению способа передачи смысла исходного текста средствами языка перевода. Соответственно, модель перевода как вида речевой деятельности должна включать в свой состав одного индивида – субъекта деятельности. Сюда не должно относиться рассмотрение социального, группового или межкультурного взаимодействия индивидов, которое, в свою очередь, находит своё место в модели перевода как вида общения.
Каковы же основания для трактовки перевода как особого вида речевой деятельности? Разумеется, что, трактуя перевод как вид речевой деятельности, мы исходим из общих теоретических предпосылок теории речевой деятельности и деятельностного подхода в психологии.
Начнём с указания на то, что в понимании речи мы следуем за И.А. Зимней, определяющей речь как процесс формирования и формулирования мысли [6, с. 33]. Итак, во-первых, перевод всегда является воспроизведением мысли. Если в случае с речью реализацию получает собственная мысль говорящего, то при переводе мысль, подлежащая передаче, переводчику изначально не принадлежит. В процессе, скажем, пересказа, говорящий излагает содержание текста так, как он сам его понял, т.е. выражает уже свою мысль; переводчик же стремится выразить содержание текста таким образом, который позвол бы максимально приблизиться к тому, какой смысл в текст вкладывал автор.
Во-вторых, перевод опосредован элементами не одного, а двух языков, которые играют неодинаковые роли в структуре деятельности. Здесь требуются некоторые пояснения. На эту особенность перевода указывает И.А. Зимняя [6, с. 18–19], которая называет перевод как бы «вторичным» образованием, основывающимся на других видах речевой деятельности. Однако далее она пишет: «… умение говорить и слушать ещё не означает умение переводить» [6, с. 43]. В силу первой особенности перевода нельзя сказать, как это часто делается, что переводчик сначала выступает как слушатель, а потом как говорящий. Характер и способ выполнения действий определяются потребностью, мотивом и целью деятельности, которые изначально различны у слушающего (читающего) и переводчика. К тому же, хотя перевод в определённой степени основан на слушании и говорении (или чтении и письме), эти виды речевой деятельности входят в структуру перевода в качестве функцио- нальных или даже операциональных компонентов, не составляющих его сути.
В-третьих, А.В. Бондарко, обобщая предлагаемую им модель перевода, пишет, что «…речевой акт начинается со смысла… и кончается смыслом…» [2, с.126], для речевого акта важен смысл, который находится на «концах» предложенной им модели, так как в эту модель входят не только говорящий, но и слушающий. Для перевода также важен именно смысл, но при изменении последовательности порождения-восприятия в обратную последовательность (переводчик сначала воспринимает текст, а затем порождает другой текст, содержательно идентичный первому) смысл оказывается «в середине» модели. Таким образом, можно заключить, что перевод – это как бы «вывернутый наизнанку» речевой акт.
Итак, можно констатировать три характерные особенности перевода как вида речевой деятельности: содержательная (первая из названных), формальная (вторая из названных) и структурная (третья).
Перевод-речь входит в состав и структуру перевода-общения в качестве функционального компонента: внеязыковая цель общения может быть достигнута только посредством перевода.
Предлагаемая нами модель является моделью перевода как вида речевой деятельности, в которой за основу берутся три модели порождения речевого высказывания и речевого акта: модель, предлагаемая А.В. Бондарко [2], модель С.Д. Кацнельсона [7] и модель А.А. Леонтьева [10]. К этим моделям добавляется уровень восприятия текста. Данная модель представляет собой совокупность четырёх уровней действий и операций: уровень восприятия, уровень осмысления, уровень переработки и уровень реализации.
Мы стремимся всячески подчеркнуть, что перевод не может быть представлен в виде линейной последовательности элементов, а потому сознательно отказываемся от понятий типа «этап» или «шаг» и оперируем понятием «уровень» по двум причинам. Во-первых, на разных уровнях переводчиком осуществляются различные операции и действия. Во-вторых, результаты и продукты действий и операций предыдущего уровня являются во многом «отправным пунктом» для операций и действий следующего уровня (хотя о последовательности в строгом смысле здесь приходится говорить лишь условно).
Первый уровень – уровень восприятия – представляет собой совокупность операций и действий по восприятию текста оригинала. Каким бы линейным ни казался процесс восприятия текста при переводе, восприятию подвергаются не отдельные следующие друг за другом слова, а контекст в целом. Конкретные, чувственно данные характеристики текста переходят в его идеальный, мыслительный образ, и дальнейшее оперирование идёт уже с образами, а не с предметами. В результате в сознании переводчика содержание текста синтезируется в подвижные семантические блоки и системы таких блоков [12, с. 232-233].
На мыслительном уровне содержание воспринятого текста полностью «отрывается» от его языковой формы и переходит в форму мыслительную. Здесь трудно говорить о каком-либо языке, но скорее о универсальном предметном коде, по Н.И. Жинкину, или о внутренней речи, по Л.С. Выготскому. Это:
«… то более общее и в определённом смысле сокровенное, маскируемое поверхностными структурами: не вопрос, не утверждение, не отрицание, не констатация, не инверсия актантов, даже не язык вовсе - некое абстрактное надъязыковое бессознательное. Мысль в чистом виде» [9, с. 92].
Упомянутые выше смысловые блоки интегрируются в структуру смыслов уже воспринятой части текста и в общую структуру психической деятельности переводчика (память, мышление, эмоции и т.п.).
На уровне переработки переводчик вновь возвращается к языку, но уже к языку перевода. Здесь ему нужно «перевыразить» воспринятое содержание. Это уровень формирования обшей структуры высказываний, распределения содержания текста по пропозициям. Здесь переводчик принимает решения о том, какие элементы содержания необходимо выразить вербально, а какие будут ясны из контекста.
Уровень реализации - это уровень построения линейной структуры высказываний, когда содержание текста выражается в цепи последовательных графических или фонационных элементов. Действия и операции этого уровня напрямую зависят от результатов действий и операций предыдущего уровня и от принятых на нём решений, так как, во-первых, подчинены общим целям деятельности, во-вторых, потому что «формальная синтаксическая структура… является производной от семантической структуры предложения» [7, с. 104-105]. Нужно принимать во внимание, что этот уровень может быть «отсрочен» во времени, что наблюдается на примере устного последовательного перевода.
В результате различных по характеру и составу операций над содержанием текста, это содержание проходит следующую цепь преобразований:
«тело» ИТ→содержание ИТ→смысл→содержание ПТ→«тело» ПТ
Таким образом, процесс собственно перевода включён одновременно в две системы координат: «внешнюю» и «внутреннюю». Во-первых, как было указано выше, перевод-речь является частью перевода-общения, последний невозможен без первого, однако и существование перевода-речи автономно, без включения в состав более широкой деятельности индивида является случаем исключительным, искусственным. Во-вторых, перевод-речь рассматривается нами не независимо от других психических процессов, но как часть общепсихического, имею- щая тесную взаимосвязь с другими аспектами психической деятельности индивида.
В рамках переводоведения при такой трактовке перевода следует критически пересмотреть основные понятия теории перевода. От некоторых из них, возможно, следует вообще отказаться, так как они (например, трансформации, единица перевода) трактуются весьма разнородно и противоречиво и чаще всего относятся лишь к плану выражения. Также зачастую элементы «классических» моделей имеют дело то с переводом как речью, то с переводом как общением.
При попытке учесть многоаспектность и многогранность перевода такие модели вносят путаницу в ясное представление о специфике перевода как части речевой деятельности индивида и как части общественного взаимодействия индивидов. Следует, значит, разрабатывать две модели двух процессов, хотя и пересекающихся и взаимосвязанных, но всё же неидентичных.
Перевод-общение – это примерно то, что принято понимать под переводом как видом речевого посредничества. Одной из наиболее перспективных моделей именно перевода-общения мы считаем модель, предлагаемую В.Н. Базылевым [1], который очень широко дифференцирует участников перевода. Характер взаимоотношений между переводом-речью, переводом-общением и переводом-продуктом ещё предстоит выяснить.
При понимании перевода как особого вида речевой деятельности существенно меняется подход к его преподаванию, открывается простор для создания интегративной концепции преподавания перевода, в центре которой находился бы говорящий (а точнее, учащийся переводить) индивид. Несостоятельность в этом отношении общих положений «классических» моделей показана нами в небольшой статье [18]. Более того, как показал наш специальный анализ, основные учебные пособия по практике перевода не отвечают требованиям, которые в них самих предъявляются к современным переводчикам [17]. Во всех пособиях преобладает узко эмпирический подход: рассмотрение одного частного лексико-грамматического вопроса сменяется рассмотрением другого частного же вопроса. Действия переводчика (пока ещё только учащегося) носят не характер дедукции и не характер индукции, но характер трансдукции – перехода от частного к частному [11, с. 309]. Получаемые при этом знания являются лишь простой количественной прибавкой, надстройкой над уже имеющимися знаниями по грамматике и стилистике изучаемого языка, ничего содержательно нового для учащегося они не открывают. По-видимому, такая картина наблюдается из-за того, что авторы пособий понимают перевод как набор формальнограмматических преобразований некоторых (небольших по объёму)
элементов текста (но не его содержания), т.е. исходят из «классической» трактовки перевода.
Если же понимать перевод как особый вид речевой деятельности, то и предлагаемая нами модель не вполне подходит. В этом случае необходимо построение модели (вполне возможно, на основе уже существующих), описывающей не действия переводчика по передаче смысла текста средствами языка перевода, но условия и процесс формирования таких действий (т.е. умений). Тогда следует выявить специфику и содержания этих предметных действий, а в соответствии с этим либо модифицировать модель перевода, либо создать новую модель формирования переводческих умений. К тому же обучение переводу не может ограничиваться лишь обучением переводческим действиям. В обучение переводу необходимо включить компоненты развития личности и мышления. Исследования здесь должны идти по трём направлениям: экспериментальному, методологическому и общетеоретическому.
В «классических» трактовках перевода каждое предложение или каждое грамматическое явление выступают как самостоятельные реальности, а не как способ проявления другой внутри некоторого целого [5, с. 313]. Тогда взаимоотношения общего и частного (содержания и формы) в принципе не могут быть предметом мышления и действия, так как их попросту нет. Именно по этой причине обучение лишь технике перевода ничего, кроме набора техник, конкретных операций, дать не может. И если мы хотим создать последовательную и методологически обоснованную теорию или концепцию обучения переводу, то объектом нашего пристальнейшего внимания должен стать процесс формирования переводческих умений; «… не усвоение информации, фактов, не заучивание правил и формул как готовых результатов, а сам поиск, процесс формирования знания, правила, формулы и т.д.» [15, с. 94].
По всей видимости, после многолетних попыток переводоведе-ния отмежеваться в специальную область науки пришло время для интеграции, объединения с другими областями. Подобный интегративный подход к переводу должен исходить из понимания языковых средств именно как средств перевода, для этого в него должны быть включены соответствующие положения функциональной грамматики.
Данные психолингвистики в таком подходе к переводу соответствуют трактовке языка (и, в частности, слова) как достояния индивида , а не как самобытной системы знаков. Ориентация на содержание может получить развитие в свете контенсивной типологии языков. Из таких наук, как психология и философия, интегративная концепция перевода почерпнула бы направленность на общее развитие мышления и личности, на рассмотрение перевода как части общественного взаимодействия индивидов в целом.