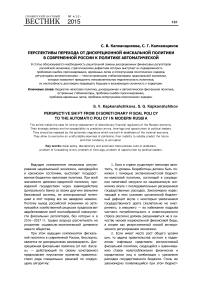Перспективы перехода от дискреционной фискальной политики в современной России к политике автоматической
Автор: Капканщикова Светлана Викторовна, Капканщиков Сергей Геннадьевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Экономика и менеджмент
Статья в выпуске: 4 (22), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается необходимость решительной замены дискреционных финансовых регуляторов российской экономики, стратегическими дефектами которых выступает их подверженность проблемам ошибок прогнозирования, временных лагов и оппортунизма политических лидеров, регуляторами автоматическими - теми встроенными стабилизаторами национальной экономики, которые позволяют преодолеть непозволительную медлительность политиков, их неспособность достоверно предвидеть будущее и вызывающую склонность к коррупции.
Бюджетно-налоговая политика, дискреционная и автоматическая фискальная политика, встроенные стабилизаторы, проблема ошибок прогнозирования, проблема временных лагов, проблема оппортунизма политических лидеров
Короткий адрес: https://sciup.org/14114148
IDR: 14114148
Текст научной статьи Перспективы перехода от дискреционной фискальной политики в современной России к политике автоматической
Ведущим компонентом механизма регулирования национальной экономики, находящейся в кризисном состоянии, выступает государственная бюджетно-налоговая политика. При всей значимости денежно-кредитной политики, проводимой государством через взаимодействие Центрального банка со всеми другими звеньями банковской системы, ее антикризисный потенциал в этот период все же заведомо невелик. Поэтому вывод российской экономики из затянувшейся хозяйственной рецессии предполагает задействование всей многообразной совокупности фискальных регуляторов, без которых и в 2016—2017 гг. трудно всерьез рассчитывать на ускорение социально-экономической динамики нашего общества.
При этом ведущим компонентом фискальной политики в современной России, бесспорно, является ее дискреционная разновидность. Дискреционная фискальная политика (от лат. discre-cio — действующий по своему усмотрению) предполагает неустанное принятие правительством ряда специальных решений по следующему алгоритму:
-
1. Если в стране существует неполная занятость, то уровень безработицы должен быть понижен с помощью экспансионистской бюджетно-налоговой политики, состоящей в сокращении налоговой нагрузки на национальную экономику вкупе с последовательным расширением государственных расходов. Закономерно нарастающий в этих условиях циклический бюджетный дефицит вкупе с некоторым увеличением государственного долга (желательно не внутреннего, а внешнего — во избежание подрыва частного потребительского и инвестиционного спроса россиян) должен расцениваться не в качестве некоей национальной финансовой беды, а скорее как результативный способ антикризисного регулирования экономики.
-
2. Если имеет место рост общего уровня цен, то задача правительства состоит в подавлении инфляции средствами рестриктивной фискальной политики, сводящейся к взвинчиванию ставок налогообложения физических и юридических лиц в комбинации с урезанием расходов государственного бюджета. Столь же закономерно появляющийся при этом бюджет-
- ный профицит, помимо своего антиинфляционного воздействия (коль скоро значительные финансовые ресурсы перекачиваются от домохозяйств и фирм в распоряжение Минфина), обеспечивает своевременное погашение накопившегося государственного долга во избежание дефолта.
Накопленный к настоящему времени мировой опыт показывает, что реализация дискреционной фискальной политики способна продемонстрировать как бесспорные успехи финансовых властей, так и, вполне возможно, их серьезные просчеты. Данное обстоятельство делает необходимым последовательное включение в механизм бюджетно-налогового регулирования российской экономики инструментов недискреционной (автоматической) политики. Качественное отличие дискреционного типа фискальной политики от ее автоматической разновидности состоит в том, что, если в первом случае государством делается акцент на комплекс мер по сознательному регулированию совокупного спроса (т. е. проводится политика тонкой настройки), то в последнем воздействие на спрос осуществляется при опоре на механизмы встроенных в финансовую систему стабилизаторов (реализуется политика строгих правил).
Оценивая результаты воздействия российского правительства на хозяйственную жизнь, многие российские и зарубежные экономисты апеллируют к обширному опыту реализации фискальных реформ по дискреционному образцу, усматривая в них зримые проявления коррупции (как проявления оппортунизма политических лидеров), ошибок в выработке прогнозов, запаздывания властей при принятии и реализации затрагивающих бюджетно-налоговой сферу решений (проблема временных лагов). В результате весьма типичными становятся ситуации, когда деятельность налогового ведомства или тех звеньев государственной машины, которые ответственны за проведение бюджетной политики, вместо улучшения состояния экономической конъюнктуры, напротив, ухудшают его, ввергая национальное хозяйство в резко нестабильную колебательную динамику. Бывает и так, что, избыточно применяя методы «ручного управления» там, где роль государства должна быть сведена к минимуму и где рыночный механизм способен самостоятельно отладить ситуацию (например, в сфере производства частных благ малым и средним бизнесом, который фискальные власти зачастую просто «кошмарят»), Российское государство игнорирует те проблемы, которые без него попросту не- разрешимы, — например, формирование бюджетно-налогового механизма результативной структурной политики.
В этом плане несравненно более привлекательными выглядят попытки властей посредством осознанного конструирования некоего перечня финансовых механизмов встроенной стабильности гарантировать надежную защиту отечественной экономики от некомпетентности, излишней медлительности, а то и от откровенного преследования политиками своих собственных, зачастую диаметрально противоположных национальным интересов и целей. Несравненно более высокий уровень финансовой безопасности России может быть обеспечен путем четкой и заблаговременной фиксации правил игры, нарушение которых неминуемо влечет за собой серьезную ответственность членов кабинета министров. Это выражается прежде всего в установлении предельного порога бюджетного дефицита, за который фискальные власти по определению не могут вывести финансовую систему страны, а потому в преддверии предстоящих выборов органов законодательной власти ни при каких условиях не станут склоняться к сугубо популистским шагам по наращиванию государственных расходов или рассеиванию по отраслям и регионам тех или иных налоговых преференций. Если фундаментальной основой фискальной политики Российского государства стала бы ее недискреционная разновидность, то государство заведомо не смогло бы противостоять общественной потребности усиления трансфертной поддержки социально уязвимых категорий граждан в обстановке нарастания кризисных потрясений национальной экономики и, следовательно, массовой нищеты. На законодательном уровне ему были бы предписаны действия по наращиванию масштабов правительственных закупок избыточной продукции, не находящей в условиях кризиса перепроизводства своего покупателя — сразу после того, как возобладает тенденция к запредельному сокращению уровня цен на нее. Решение о восстановлении прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц (которая несет в себе скорее не социально-перераспределительную, а именно регулирующую нагрузку) могло бы стать неким гарантом от попыток нарастить налоговые изъятия из личного дохода тех домохозяйств, которые в условиях спада национальной экономики оказались за порогом прожиточного минимума. Напротив, поступления в бюджет от них в виде прямых налогов в этот период стали бы закономерно сокращаться, что способ- но благотворно сказаться на покупательной способности населения.
Реализуя дискреционную фискальную политику, правительство в целях расширения (сжатия) совокупного спроса регулярно принимает специальные решения в области налогов и государственных расходов. При этом сознательное регулирование объема ВВП, занятости населения и общего уровня цен обеспечивается, как отмечалось выше, путем целенаправленного создания либо бюджетного дефицита (в фазе кризиса), либо бюджетного профицита (в фазе подъема). Если же фискальные власти делают выбор в пользу недискреционной политики, то эти два противоположных типа бюджетного неравновесия (дефицит государственного бюджета или бюджетный излишек) с определенной регулярностью возникают в национальной экономике как бы автоматически — посредством заблаговременного включения парламентом в экономическую систему страны некой совокупности стабилизаторов, своего рода «автопилотов», неизменно возвращающих данную систему в устойчивое состояние при любом изменении внешних условий. Встроенный стабилизатор — финансовый механизм, позволяющий сглаживать амплитуду циклических колебаний уровня занятости и выпуска без частых корректив экономической политики, без регулярного вмешательства законодательной власти в хозяйственную жизнь страны. В роли таких антициклических стабилизаторов выступают действующие в обществе правила, нормы, которые предусмотрены властью заранее и введены в законодательные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность.
В настоящее время возможности широкого использования совокупности встроенных стабилизаторов в российской практике фискального регулирования заметно ограничены в силу:
-
— пропорциональной ставки подоходного налогообложения физических лиц, степень реагирования которой на рыночную конъюнктуру становится в таком случае близкой к единице;
-
— чрезвычайно низкой величины необлагаемого минимума доходов населения;
-
— невысокого уровня социальных трансфертов, выплата которых (например, детских пособий) к тому же нередко задерживается;
-
— нечастого использования инструмента госзакупок излишней на данный момент продукции, аргументируемого нежеланием правительства даже в условиях невысокой конъюнктуры допустить сколько-нибудь заметный дефицит бюджета [1].
Поэтому можно сказать, что немаловажной причиной того, что «российская экономика оказалась гораздо менее устойчивой к внешним шокам, чем экономики других крупных стран», что в обстановке глобального кризиса 2008— 2009 гг. «падение ВВП от пикового докризисного уровня до минимальной отметки в мае 2009 года превысило 11 %» [2], является крайне невысокая степень встроенной стабильности отечественной экономики. Думается, что и в 2015 году игнорирование российскими финансовыми властями многих апробированных мировым опытом встроенных стабилизаторов обрекает экономику нашей страны на продолжение затянувшейся стагнации.
Использование инструмента государственных инвестиций и трансфертов, налоговых ставок, гибко меняющих свои очертания и целевые ориентиры, конечно, существенно расширяет производственные возможности и укрепляет антиинфляционный потенциал российского общества. Однако опора бюджетно-налоговой политики на ее дискреционную разновидность, последовательное осуществление политики точной настройки усиливают риск непопадания в цель, поскольку адекватные их природе инструменты, построенные по принципу «действуй по своему усмотрению», чреваты в случае недостоверных представлений о будущем страны серьезными ошибками в макроэкономическом регулировании. Хроническая нехватка знаний об объекте фискального регулирования зачастую приводит к задействованию на практике весьма уязвимого метода проб и ошибок. Между тем каждое конкретное действие властей нуждается во всесторонней предварительной экспертизе на предмет выявления вероятных выгод и потерь. Кроме того, при принятии управленческих решений крайне желателен анализ не одного, а нескольких вариантов достижения поставленных целей с выбором среди них оптимального. Это требует не только оперативного получения достоверной информации, но и ее обработки методами математической статистики с использованием мощных компьютеров с соответствующим программным обеспечением. Необходима, наконец, подготовка большого количества квалифицированных специалистов в области экономики, математики, статистики, программирования и др. Если же финансовым властям не хватает объективных данных, позволяющих с достаточной достоверностью прогнозировать результаты регулирующих воздействий на социально-экономическую жизнь, ему следует воздерживаться от чрезмерного расширения зоны своей ответственности. В противном случае неизбежна ситуация типа «хотели как лучше, а получилось как всегда». Наглядным проявлением подобной ситуации в нашей стране явилось принятие в недалеком прошлом закона относительно так называемой монетизации льгот. Проявленная правительством крайняя легкомысленность при его разработке выразилась не только во внесении депутатами Госдумы 1300 поправок в законопроект, но и в неадекватном учете истинной цены вопроса, действительных финансовых затрат государства на претворение закона в жизнь, что не могло не отразиться на рейтинге популярности действующей власти.
Поэтому повышение уровня финансовой безопасности немыслимо без включения в российскую модель бюджетно-налоговой политики ее автоматического компонента, основанного на действии совокупности механизмов встроенной стабильности финансовой системы, тех автоматически действующих стабилизаторов, которые самопроизвольно запускаются сразу же вслед за перепадами в циклическом развитии и которые не делают столь уж обязательными анализ и прогнозирование экономической конъюнктуры.
Особая ценность автоматического бюджетно-налогового регулирования определяется традиционно присущей российской государственной «машине» излишней медлительности как при принятии судьбоносных хозяйственных решений, так и в ходе их практического осуществления. Например, лаг признания в нашей стране традиционно является продолжительным по причине несовершенства многих исследований (в том числе из-за неполноты статистических данных и отставания в сфере информационных технологий), распространения в высших эшелонах власти склонности к волевым, не опирающимся на выводы экономической науки, решениям [3], приверженности к разного рода идеологическим стереотипам, надолго заслоняющим осознание сложившейся ситуации (заявлений типа «в плановой экономике не может быть инфляции и безработицы!»). Демографический кризис и масштабная утечка мозгов протекают в России уже много лет. Так почему же финансовые власти лишь недавно обратили внимание общества на их зловещие симптомы? Длительность лага решения особенно заметна при оценке степени своевременности запуска реформы налогообложения, нацеленной на сокращение налогового бремени россиян. Хотя насущная потребность в ней была очевидна специалистам уже в середине 1990-х гг., однако принятие второй части Налогового кодекса
(причем в весьма деформированном сравнительно с первоначальным замыслом виде) свершилось лишь в ХХI веке. В преддверии глобального кризиса 2008—2009 гг. фискальные органы настойчиво навязывали высшему политическому руководству представление о российской экономике как некоем «островке стабильности», защищенном «волнорезом» Стабилизационного фонда от всего комплекса кризисных потрясений. Всерьез утверждалось о переходе от внешних источников экономического роста к источникам внутренним (связанным с неуклонным расширением совокупного внутреннего спроса) как о свершившемся факте, явно недооценивалась реальная степень влияния конъюнктуры мирового рынка энергоносителей на прирост российского ВВП.
Присутствие в механизме дискреционной политики проблемы временных лагов признания, решения и воздействия ставит под серьезное сомнение способность правительства добиваться своевременных корректив в реализуемом ими стратегическом курсе фискальных преобразований. Между тем хорошо известно, что запоздалое управленческое решение зачастую оказывается несравненно хуже отсутствия всяких решений, особенно в том случае, если стихийно действующий механизм самокоррекции воспроизводства продолжает функционировать в стране, будучи не сильно деформированным избыточным вторжением государства в хозяйственную жизнь. Именно поэтому встроенные в финансовую систему стабилизаторы оказываются намного более оперативными сравнительно с дискреционными мерами регуляторами, гибко реагирующими на внезапные перепады в динамике российского общества под воздействием внешних и внутренних обстоятельств.
Слабость Российского государства в сочетании с силой бюрократии проявляется в высочайшем уровне коррупции, т. е. использования должностных полномочий для получения личной выгоды. Расцвет коррупции в нашей стране в немалой степени обусловлен именно доминированием дискреционной политики над политикой автоматической, что проявляется, в частности, в господстве разрешительного принципа во многих хозяйственных новациях (например, при открытии малого предприятия), которые в других странах требуют всего лишь уведомления общества. Российский бизнес по сей день сталкивается с чудовищным избытком всевозможных регламентаций, которые к тому же применяются выборочно и часто меняются, что в сочетании с несовершенством судебной системы постоянно воспроизводит коррупцию. Последняя поглощает в настоящее время никак не менее 15—20 % средств, выделяемых из федерального бюджета по линии государственного заказа. Согласно оценке организации Транспе-ренси Интернешнл по индексу коррупции Россия занимала в 2014 году 136 место (располагаясь рядом с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном) среди 175 анализируемых по этому признаку стран. Причем масштабы коррупционной деятельности вряд ли заметно сокращаются после очередного резкого повышения уровня заработной платы административно-управленческого аппарата, которое аргументируется как раз необходимостью борьбы с данным социальным злом. Например, не секрет, что внешний долг Российской Федерации периодически неожиданно возрастает. И дело здесь не только в том, что, будучи номинирован (хотя бы частично) в евро, он регулярно ощущает на себе укрепление данной валюты по отношению к доллару. Немаловажное значение имеет здесь и явное пристрастие некоторых российских чиновников к признанию сомнительных долгов нашей страны перед государствами, не входящими в Парижский клуб (например, Чехией, Словакией, Венгрией). Подобному признанию обычно предшествует скупка ими российских долгов по бросовым ценам на вторичном рынке. После признания Россией такой задолженности котировки облигаций мгновенно взлетают до невиданных высот, и российские налогоплательщики оказываются вынужденными оплачивать конкретным физическим лицам крупные суммы.
Следует подчеркнуть, что коррупция может выполнять как ограничительную, так и стимулирующую экономический рост функцию. Последняя может реализоваться ею в процветающих странах, где коррумпированные чиновники по понятным причинам «не замечают» нарушений фирмами действующих избыточных правовых ограничений их деятельности, способствуя тем самым дальнейшему наращиванию рейтинга экономической свободы в обществе. Но если взяточничество распускается пышным цветом в странах, где эффективное государственное регулирование (например, выстраивание таможенных барьеров) является — как в современной России — насущной потребностью, где господствует монополизм и многие активы принадлежат государству, то широкомасштабное мздоимство, еще более ослабляющее конкуренцию и лишающее рынок необходимой гибкости, становится дополнительным тормозом хозяйственного прогресса.
Процветание коррупции в современной России не случайно: наиболее благоприятные условия для нее формируются в странах, экономика которых базируется на задействовании не столько человеческих, сколько природных ресурсов, где деньги создаются как бы из воздуха, а, точнее, выкачиваются из-под земли. Делиться этими сверхдоходами с основной массой жителей страны недропользователям совсем не хочется, благо есть коррумпированные чиновники. Невысокий уровень жизни населения нашей страны во многом объясняется именно коррупционностью власти, коэффициент корреляции благосостояния от уровня которой составляет, по оценке В. Бобкова, 0,93 [4].
Наглядным подтверждением оппортунистического поведения российских политиков стало решение о переходе от прогрессивной шкалы подоходного налогообложения физических лиц к пропорциональному по единой ставке в 13 %. Принимая его, правящая политическая элита, конечно же, стремилась к увеличению своего собственного располагаемого дохода: кому же из состоятельных людей хочется платить налоги по нарастающим по мере роста дохода ставкам? Однако аргументировалась эта асоциальная акция необходимостью обеспечения эквивалентности, жесткой увязки налогового бремени граждан с тем количеством общественных благ, которые они получают в обмен на свою готовность перечислять часть доходов в бюджет (в русле концепции получаемых выгод). А поскольку польза от государственных затрат на оборону, безопасность, социально-культурную сферу, транспортные магистрали для материально обеспеченных налогоплательщиков оказывается ничуть не большей, чем для их относительно бедных сограждан, постольку утверждалось о недопустимости налоговой дискриминации первых во благо вторых.
Но дело здесь не только в дискредитации системой налогообложения нашей страны важнейшего его принципа — справедливости. В случае восстановления прогрессии в налогообложении физических лиц произошло бы смещение акцентов в фискальной политике — от дискреционной ее разновидности во всем многообразии присущих ей негативных черт (включая коррупционную составляющую) к автоматической, и реальное влияние встроенных стабилизаторов на хозяйственную динамику российского общества, бесспорно, заметно бы возросло. Известно, что ликвидация в России прогрессивной шкалы подоходного налогообложения помимо нарушения принципа справедливости при- вело к изъятию из арсенала фискальных органов этого наиболее значимого встроенного стабилизатора экономики, в результате чего стали еще более благоприятными условия для перманентного воспроизводства известных дефектов политики тонкой настройки. Если обложение домохозяйств по прогрессивным ставкам объективно содействует сокращению масштабов безработицы в обстановке хозяйственного спада и замедлению темпов инфляции на фазе подъема национальной экономики (посредством опережающего темпы колебаний последней увеличения или сокращения потребительского спроса), то использование плоской, пропорциональной ставки налога какого-либо саморегулирующего компонента в себе не заключает. В таком случае и кризис, и подъем экономики закономерно влекут за собой обострение наиболее социально значимых проблем национального хозяйства — расширение вынужденной незанятости и набирающей все большие обороты динамики общего уровня цен. Подобно тому, как налоговые реформы Дж. Буша-младшего привели к дальнейшей поляризации американского общества, так и результатом принятия Налогового кодекса в России явилось еще большее отдаление в ней богатых от бедных. Исходя из этого, восстановление сдержанно-прогрессивной шкалы подоходного налогообложения физических лиц следует считать важнейшим способом ослабления той мощной угрозы сжатия покупательной способности населения, которая идет сегодня от продолжающейся в отечественной экономике хозяйственной рецессии. Только используя данную шкалу, можно не допустить стремительного самопроизвольного скольжения российского ВВП по нисходящей траектории конъюнктурного цикла.
Действенным встроенным стабилизатором отечественной экономики могло бы стать и введение разумной прогрессии в налогообложении дохода предприятий, функционирующих в различных отраслях. Думается, что подобную новацию (учитывающую факт нынешней размытости отличий между прибылью и рентой как качественно неоднородными разновидностями дохода компаний) в случае ее внесения в Налоговый кодекс едва ли оправданно расценивать как зримое проявление налоговой дискриминации товаропроизводителей. Не секрет, что сохраняемая поныне видимая «плоскость» ставок корпорационного налога во всех отраслях, независимо от их трудо-, капитало-, материалоемкости, скорости оборачиваемости оборотных средств, доли рентного компонента в доходе фирм и других отраслевых особенностей, на деле приводит как раз к их разительным отличиям в тяжести реального подоходного налогообложения. Откровенно дискриминируя отрасли с высокой долей добавленной стоимости и лишенные большинства рентных доходов, действующий доселе налоговый механизм вносит немалую лепту в механизм воспроизводства сырьевого типа экономического роста (который сегодня и вовсе сошел на нет). Поэтому только всесторонний учет отраслевой специфики при разработке прогрессивной шкалы подоходного налога компаний способен сформировать надежный алгоритм защиты отечественной экономики от ее развития в русле модели «сырьевого государства». И если в условиях впечатляющего роста мировых цен на энергоносители и металлы эта шкала, рассматриваемая как инструмент автоматической фискальной политики, будет содействовать перекачке в государственный бюджет все возрастающей доли доходов (включающих в этот период не столько прибыль, сколько ренту) предприятий топливно-энергетического и химико-металлургического комплексов, то в случае ухудшения ценовой конъюнктуры, что наблюдается в последнее время, возможен даже обратный процесс скрытого налогового субсидирования последних за счет обрабатывающих отраслей, получающих временные ценовые преимущества в своем развитии.
Повышение степени встроенной стабильности отечественной экономики достигается в настоящее время такими налоговыми инструментами, как НДПИ и тарифы на вывозимые из страны энергоносители. Сама методика исчисления пошлин на сырую нефть выстроена таким образом, что при понижении мировых цен их размер в течение одного месяца адекватно сокращается [5], что позволяет через серьезные потери государственного бюджета поддержать жизнеспособность нефтяного бизнеса, не допустив резкого спада его инвестиционной активности и покупательной способности занятых здесь работников. Не случайно А. Кудрин и О. Сергиенко подчеркивают серьезный вклад действующего механизма формирования ставок НДПИ и экспортных пошлин на нефть как автоматических стабилизаторов налоговой системы в смягчении последствий глобального кризиса 2008— 2009 гг. [6]. Но если нефтяные котировки начинают ползти вверх, вывозные пошлины как бы автоматически существенно увеличиваются. Такой механизм налогообложения позволяет на- ряду с компенсацией прежних жертв бюджетной системы оттянуть в нее те инфляционно опасные (и, по сути, сугубо рентные) доходы нефтяников, которые являются не результатом их производственных усилий, а скорее лишь следствием нарастающего отрыва мировых топливных цен от внутрироссийских.
Укрепление автоматического компонента фискальной политики российского правительства предполагает трансформацию не только механизма поступления налогов в государственный бюджет, но и алгоритма расходования аккумулированных в нем финансовых ресурсов. Традицией отечественной бюджетной политики является существование у власть имущих права, как говорится, с «барского плеча» сбрасывать немалый объем бюджетных средств, руководствуясь исключительно своими, зачастую сиюминутными представлениями об общественной или личной (не только экономической, но и политической) выгоде. В результате многомиллиардные расходы на инвестиционные или социальные цели, на расширение госзакупок или компенсацию подорожавших банковских кредитов, на субсидирование неких внезапно ставших приоритетными отраслей или получивших статус депрессивных регионов, осуществляемые без должного анализа социально-экономических последствий принимаемых решений, становятся ярким проявлением нерациональной бюджетной политики дискреционного типа. Расширяющиеся после старта избирательного марафона (даже если в тот момент российская экономика, и без того зараженная вирусом инфляционности, вовсе не нуждается в бюджетном подстегивании своего роста), эти траты финансовых ресурсов обычно заметно ослабевают в период после успеха предвыборных кампаний, — хотя, возможно, именно на этой фазе объективно разворачивающегося конъюнктурного цикла как раз и требуется дополнительные инъекции в экономику. В результате использования такого дискреционного механизма колебания экономической конъюнктуры, и без того ставшие в нашей стране отчетливыми в связи с ее переходом к рыночным отношениям, наносят еще более разрушительный удар по национальному хозяйству (подчиненному в этом случае сугубо политическим целям). И лишь его замена на бюджетные механизмы автоматического типа способна кардинально демонтировать многочисленные случаи злоупотребления политиками своей немалой властью и обеспечить несравненно более стабильное функционирование финансовой системы.
Важным резервом повышения встроенной стабильности отечественной экономики способен стать Резервный фонд РФ (предшественником которого был, как известно, Стабилизационный фонд). Алгоритм использования составляющих его конъюнктурных доходов необходимо четко подстраивать под необходимость оперативного сглаживания циклов экономической активности. В результате он должен постепенно трансформироваться из подобия фонда финансовых ресурсов авторитарного государства с фактически несменяемой властью (каким он является, например, в Кувейте, Омане, Венесуэле) в фонд демократического государства (как в Норвегии, американском штате Аляска и др.). Вывод данного резерва финансовых средств из перечня инструментов дискреционной политики (когда его использование является произвольно-волюнтаристским орудием оппортунистически настроенных властей) и включение в арсенал автоматически действующих орудий бюджетной политики явится мощным рычагом обеспечения быстродействия реакции последней на те или иные колебания в динамике ВВП. В этом случае расходование фонда на правительственные трансферты или массированные закупки не находящей покупателя продукции (а возможно, и на финансовую компенсацию назревших налоговых новаций) становится не следствием принятия скоропалительных, не просчитанных по своим последствиям решений, а результатом самодействия определенного, заранее сформированного алгоритма, в котором определены некие пороги, выход уровня жизни определенных социальных групп или уровня цен на определенные товары за которые безальтернативно влечет за собой четко определенные траты вне зависимости от субъективного мнения на сей счет со стороны конкретных чиновников Минфина.
Известно, что функционирование Медного стабилизационного фонда Чили, организованного в 1995 году, протекало в строгом соответствии с теорией встроенной стабильности: пополнение этого фонда или, напротив, изъятие средств из него осуществлялись в жесткой зависимости от превышения (недостижения) текущей мировой ценой на медь ее долгосрочного установленного уровня [7]. Именно в контексте формирования встроенных стабилизаторов и обеспечения равномерности распределения нефтегазовых бюджетных доходов на протяжении всего периода эксплуатации месторождений рассматривался механизм использования Стабилизационного фонда Российской Федерации А. Кудриным, признающим в качестве ключевой задачи бюджет- ной политики «поддержание устойчивого уровня государственных расходов и частного потребления в длительной перспективе, а также предотвращение колебаний таких макроэкономических показателей, как инфляция, обменный курс, величина государственного долга, процентные ставки на финансовых рынках» [8].
Расходование Стабфонда (как накопленной части, так и дохода от инвестирования его средств) на финансирование дополнительных государственных расходов дает эффект лишь в случае нахождения оптимального соотношения приращения последних с динамикой валового внутреннего продукта на каждом этапе развития общества. Причем в фазе подъема коэффициент опережения заведомо должен быть ниже единицы, коль скоро самой необходимости чрезмерной поддержки госбюджетом совокупного спроса в стране не ощущается. Когда же национальная экономика оказывается ниже трендовой точки, то опережающая динамика правительственных расходов относительно изменения ВВП должна существенно превосходить единицу, а при движении к дну спада эти индикаторы могут изменяться в противоположных направлениях.
Запуск алгоритма использования фонда финансовых резервов в качестве встроенного стабилизатора опирается на детальный количественный анализ. Ведь если расходование ресурсов фонда в условиях относительно благоприятной конъюнктуры окажется избыточным из-за чрезмерно высоких бюджетных обязательств, принятых на себя правительством, то исчерпание фонда может оказаться столь серьезным, что власти лишатся способности компенсировать за счет него свои выпадающие при неблагоприятной конъюнктуре доходы. Поэтому недопустимость траты финансовых ресурсов до тех пор, пока они не достигли минимальной отметки, предохраняет российское общество не только от угрозы ускорения инфляции, темпы которой, бесспорно, стали бы заметно выше при полном отказе от «стерилизации» части поступающей в страну избыточной ликвидности от экспорта энергоносителей. Это позволяет усилить «подушку безопасности» на случай резкого ухудшения финансовой ситуации в нашей стране. Отметим, что до недавнего времени минимальный размер Стабфонда, до достижения которого финансовые власти не имели права расходовать его ресурсы, находился на отметке в 500 млрд руб. Но в ходе его разделения на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния планка «неприкосновенного запаса»
первого поднялась до 10 % ВВП. Это решение, по-видимому, явилось результатом стремления Минфина (поддержанного депутатами Государственной Думы) законодательно защитить себя от поступающих многочисленных просьб о преждевременной финансовой поддержке тех или иных отраслей и регионов. Сыграл свою роль и сам по себе рост российского ВВП, соотношение с которым очерчивает порог финансовой безопасности государства, ниже которого Резервный фонд желательно не выводить.
Известно, что в 2013 году в России вступило в силу бюджетное правило, в соответствии с которым доходы федерального бюджета, образующиеся при мировой цене нефти свыше 91 долл./баррель в 2013 году и 92 долл./бар-рель в 2014 году (таково современное значение цены отсечения, расчет которой основан на средней цене за пять последних лет), подлежат безусловному зачислению в Резервный фонд. И если он достигнет порогового значения в 7 % ВВП, то в дальнейшем сэкономленные бюджетные средства (из-за принципиальной невозможности направления их на государственные расходы) станут пополнять уже Фонд национального благосостояния. Такое правило опять-таки позволяет наращивать суверенные фонды даже при отсутствии бюджетного профицита. Однако «бюджетное правило обладает выраженным контрциклическим эффектом только по отношению к рискам, связанным с падением цен на нефть. По отношению к изменению темпов экономического роста, вызванному иными факторами, оно работает проциклически (снижение динамики ВВП требует сокращения расходов и наоборот)» [9]. Иначе говоря, введение бюджетного правила в очередной раз обеспечивает краткосрочный эффект укрепления устойчивости финансовой системы российского государства за счет подрыва долговременного стабильного роста реального сектора отечественной экономики. Думается, что именно осознание проциклического характера бюджетного правила побудило финансовые власти к его существенной корректировке уже в 2013 году, когда для своевременной компенсации выпадающих из федерального бюджета доходов в интересах предотвращения стагнации им пришлось урезать пополнение Резервного фонда с 800—900 млрд руб. всего до 200 млрд руб. [10]. Чтобы в дальнейшем не нарушать принятые законы, нужно уже сегодня признать, что бюджетное правило препятствует использованию фондов финансовых резервов в качестве встроенного стабилизатора отечественной эко- номики, а потому нуждается к незамедлительной отмене.
Одним из наиболее значимых индикаторов, детерминирующих производительное использование резервных средств, должен стать некий комплексный показатель состояния обрабатывающих отраслей национального хозяйства. Если соотношение темпов их роста начнет отставать от скорости расширения топливно-энергетического и сырьевого комплексов, свидетельствуя об интенсификации рецидивов «голландской болезни», то форсированное наращивание правительственных инвестиций из финансового резерва должно нейтрализовать столь мощную угрозу выхолащивания структуры российской экономики, эволюции последней в направлении опережающего развития отраслей с низкой долей добавленной стоимости. Масштабные инвестиции государства приведут к заметному сокращению издержек производства в базовых отраслях высокотехнологического сектора и тем самым повысят их ценовую конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках. Такой бюджетный механизм, повышающий степень встроенной стабильности национального хозяйства, одновременно мог бы стать мощным резервом осуществления структурной политики, узость инструментария которой выступает в качестве главного дефекта механизма государственного регулирования отечественной экономики.
Встроенные стабилизаторы не делают столь обязательным прогнозирование экономической конъюнктуры, освобождают правительство от необходимости излишне торопиться с принятием стабилизационных мер, зачастую становящихся в этом случае ошибочными. Несомненным их достоинством является то, что внутренний лаг (лаг распознавания вместе с лагом решения) равен нулю, а значит, сглаживание циклических колебаний экономики происходит намного быстрее, чем при использовании арсенала средств дискреционной политики. Высокий уровень экономической безопасности страны гарантируется установлением строгих правил поведения финансовых властей, несоблюдение которых чревато немалой ответственностью представителей исполнительной и законодательной власти. Так, несмотря на приближающиеся выборы, последние в случае фиксации предельно допустимого уровня бюджетного дефицита заведомо не смогут поддаться соблазну предоставления налоговых льгот регионам, где не ощущается их поддержка, или же выдачи чрезмерного госзаказа тем отраслям, которые в предыдущий период страдали от несовершенств фискальной политики, проводимой в стране. При господстве автоматической политики государство в любом случае не сможет не выплачивать трансферты населению при наступлении кризиса перепроизводства и массовой безработицы. Как только в стране обозначатся ощутимые признаки дефляции, увеличение циклического дефицита бюджета станет естественным результатом наращивания госзакупок или уменьшения потока налоговых поступлений в казну от тех семей, чей доход вышел за черту необлагаемого минимума.
Дефектом дискреционной фискальной политики выступает комбинация относительной легкости запуска ее стимулирующих инструментов в фазе спада и чрезвычайной сложности (в том числе по политическим причинам) смены их инструментами ограничительными после вступления национальной экономики в фазу подъема. Но подобный недостаток напрочь отсутствует в алгоритме политики недискреционной, где повышение, например, экспортной пошлины на вывозимую из России сырую нефть при восходящей динамике мировой хозяйственной конъюнктуры происходит как бы автоматически, что сразу же нейтрализует инфляционный эффект стремительного роста доходов отечественных нефтеэкспортеров. При задействовании автоматических стабилизаторов регулирующий развитие российской экономики «пилот» может спокойно дремать вплоть до наступления некой форс-мажорной ситуации.
Таким образом, только решительное движение от дискреционной фискальной политики к ее автоматической разновидности, осуществляемое через сознательное проектирование все новых и новых встроенных стабилизаторов (в единстве их качественных и количественных характеристик), может стать надежной защитой финансовой системы российского общества от медлительности, изощренной некомпетентности фискальных властей, не способных просчитать долгосрочные последствия предпринимаемых ими действий и зачастую четко сориентированных на преследование вовсе не общественных, а лишь своих собственных узкогрупповых интересов.
-
1. Правда, при угрозе резкого повышения цен на продовольствие после неурожая 2010 г. власти развернули в первой половине 2011 г. довольно активную продажу зерна из интервенционного фонда в объеме до 500 тыс. т ежемесячно, что позволило удержать цены в диапазоне от 6000 до 7500 руб./т.
-
2. Акиндинова Н. В., Алексашенко С. В., Ясин Е. Г. Сценарии и альтернативы макроэкономической политики. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 7.
-
3. Например, ежегодные экспертные заключения Центра финансовой стратегии и денежно-кредитной политики Института экономики РАН на проекты государственного бюджета, которые носят высокопрофессиональный характер, традиционно игнорируются законодательной властью ( Абалкин Л. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и демократии // Вопр. экономики. 2006. № 12. С. 7).
-
4. Бобков В. С. Уровень социального неравенства // Экономист. 2006. № 3. С. 8—9.
-
5. Кудрин А. подчеркивает важность такого встроенного стабилизатора, при действии которого «в период замедления экономического роста в мире налоговая нагрузка на нефтяной сектор значительно уменьшается, поскольку снижаются цены на энергоносители, к которым привязаны основные сборы в нефтяном секторе» ( Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопр. экономики. 2009. № 1. С. 22).
-
6. Кудрин А., Сергиенко О. Последствия кризиса и
перспективы социально-экономического развития России // Вопр. экономики. 2011. № 3. С. 15.
-
7. Тот факт, что чилийский стабфонд оказался в значительной степени опустошенным, объясняется вовсе не несовершенством технологии его использования, а скорее вступлением мировой экономики в длительный период невысоких цен на медь. В существовании именно этой реальной угрозы заключается беда любого фонда финансовых резервов. Впрочем, сыграло немалую роль направление части средств рассматриваемого фонда на погашение внешнего долга Чили, а также на субсидирование внутренних цен на бензин. Между тем подобные фонды не должны бездарно проедаться, ведь они призваны решать не краткосрочные задачи затыкания бюджетных дыр, а нацелены на перспективу.
-
8. Кудрин А. Механизмы формирования ненефтегазового баланса бюджета России // Вопр. экономики. 2006. № 8. С. 4.
-
9. Акиндинова Н., Кузьминов Я., Ясин Е. Российская экономика на повороте // Вопр. экономики. 2014. № 6. С. 10—11.
-
10. Идрисов Г., Синельников-Мурылев С. Формирование предпосылок долгосрочного роста: как их понимать? // Вопр. экономики. 2014. № 3. С. 5.
Список литературы Перспективы перехода от дискреционной фискальной политики в современной России к политике автоматической
- Акицдинова Н. В., Алексашенко С. В., Ясин Е Г Сценарии и альтернативы макроэкономической политики. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 7
- Абалкин Л. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и демократии//Вопр. экономики. 2006. № 12. С. 7
- Бобков В. С. Уровень социального неравенства//Экономист. 2006. № 3. С. 8-9
- Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию//Вопр. экономики. 2009. № 1. С. 22
- Кудрин А., Сергиенко О. Последствия кризиса и перспективы социально-экономического развития России//Вопр. экономики. 2011. № 3. С. 15
- Кудрин А. Механизмы формирования ненефтегазового баланса бюджета России//Вопр. экономики. 2006. № 8. С. 4.
- Акиндинова Н., Кузьминов Я., Ясин Е. Российская экономика на повороте//Вопр. экономики. 2014. № 6. С. 10-11.
- Идрисов Г., Синельников-Мурылев С. Формирование предпосылок долгосрочного роста: как их понимать?//Вопр. экономики. 2014. № 3. С. 5.