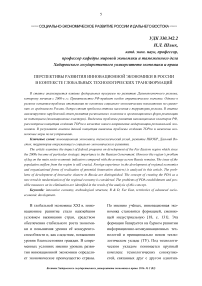Перспективы развития инновационной экономики в России в контексте глобальных технологических трансформаций
Автор: Шлык Н.Л.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Социально-экономическое развитие России и Дальнего Востока
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние федеральных программ по развитию Дальневосточного региона, которому начиная с 2000-х гг. Правительство РФ придает особое стратегическое значение. Однако в регионе остается проблема отставания по основным социально-экономическим показателям по сравнению со средними по России. Остро стоит проблема оттока населения с территории региона. В статье анализируется зарубежный опыт развития региональных экономик и организационных форм реализации их потенциала (инновационные кластеры). Выделены проблемы развития инновационных кластеров РФ, рассмотрена концепция создания ТОРов в качестве нового направления модернизации региональной экономики. В результате анализа данной концепции выявлены проблемы создания ТОРов и намечены возможные меры по их устранению.
Инновационная экономика, технологический уклад, развитие ниокр, дальний восток, территории опережающего социально-экономического развития
Короткий адрес: https://sciup.org/14319433
IDR: 14319433
Текст научной статьи Перспективы развития инновационной экономики в России в контексте глобальных технологических трансформаций
В глобальной экономике XXI в. инновационное развитие стало важнейшим условием выживания стран, средством обеспечения стабильного роста экономики и повышения уровня её конкурентоспособности и, как следствие, повышения уровня благосостояния граждан. В современных условиях именно уровень развития инновационной экономики определяет экономическое преимущество страны.
По мнению учёных, инновационная экономика становится формацией, сменяющей индустриальную [18, с. 131]. Эта формация базируется на бурном развитии информационно-коммуникационных технологий и принципиально новом технологическом укладе (ТУ). Под технологическим укладом понимается крупный комплекс технологических совокупностей, связанных друг с другом однотип- ными технологическими целями, образующими технологическую основу экономики [5]. По оценке учёных, период доминирования ТУ в мировой экономике составляет примерно 40–60 лет, однако по мере ускорения научно-технического прогресса (НТП) этот период постепенно сокращается. В литературе за всю историю человечества учёные выделяют пять последовательно сменяющих друг друга ТУ. Пятый ТУ получил развитие с конца XX в. и, по оценке учёных, продлится первые два десятилетия XXI в. [5, с. 15]. Ключевым фактором современного ТУ является развитие микроэлектроники и программного обеспечения, которые приближаются к пределу своего роста. Признаками завершающей его фазы являются резкие колебания цен на энергоносители, образование и крах финансовых пузырей (90-е гг. прошлого столетия) и современный мировой финансовый кризис (2008– 2009 гг.). Закладываются основы структурной перестройки экономики на основе шестого ТУ, который будет доминировать на протяжении нескольких последующих десятилетий.
Мировому технологическому развитию экономики свойственна преемственность, то есть каждый новый ТУ основывается на достижениях предыдущего. Следовательно, не имея сильной технологической базы предыдущего уклада, сложно осуществить прорыв в условия нового ТУ, и с каждым очередным «пропущенным » периодом технологическая отсталость государства нарастает.
По мнению учёных, для России пропущенным периодом является пятый ТУ. Академик С.Ю. Глазьев полагает, что ос- новными тенденциями мирового технологического развития до 2020 г. будут следующие: развитие атомной энергетики повышенной безопасности и термоядерной энергетики, достижение технологиями альтернативной энергетики экономически приемлемых параметров (энергии ветра и солнца, водородная энергетика); переход от микроэлектроники к нанооптоэлектронике; внедрение материалов с заранее с заданными свойствами; формирование глобальных коммуникационных сетей; использование биотехнологий, которые изменят не только аграрный сектор, но и станут базой для развития высокотехнологичных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Соответственно с учётом достижений в течение пятого ТУ ключевыми направлениями развития шестого ТУ, по мнению учёного, станут следующие: биотехнология, основанная на открытиях в области молекулярной биологии и генной инженерии; нанотехнологий; системы искусственного интеллекта; интегрированные высокоскоростные транспортные системы; глобальные информационные сети.
Как свидетельствует мировая практика, все меняющиеся технологии прежде всего проявляются в развитии промышленности мирового хозяйства. Определяющей чертой её развития в XXI веке является увеличение доли наукоёмких производств по изготовлению инновационных и, как правило, дорогостоящих видов продукции. Именно промышленность, её структура в значительной мере формируют ВВП и определяют уровень экономического развития страны. Более того именно в промышленности сосредоточе- ны наибольшие возможности подъёма экономики в случае технологического обновления и перехода к высокоэффективной и прогрессивной структуре национального хозяйства. В частности, в России, по расчётам академика А.Г. Аганбегяна, за счёт промышленности формируется около 30 % ВВП, работают более 13 млн человек и около 20 % всех занятых в народном хозяйстве. Здесь сосредоточенно более четверти всех основных фондов (около 20 трлн руб.), а объём инвестиций в основной капитал составляет около 40 % от их общего объёма [1, с. 4–5].
Важным здесь является структура промышленности, так как от этого зависят такие показатели, как производительность труда и экономическая эффективность, энергоёмкость, материалоёмкость и фондоотдача.
В мировом хозяйстве в целом наметилась тенденция роста обрабатывающей промышленности. В России, по имеющимся данным, доля обрабатывающей промышленности составляет около 50 % ВВП (самый низкий показатель по сравнению с развитыми странами). Производительность труда в этом секторе также самая низкая: в 2013 г. она составляла 42,4 тыс. дол. США (в 2008 г. – 36,7 тыс. дол.), в то время как самый высокий показатель в США – 136 и 109,9 тыс. дол., в Германии – 95,0 и 84,8 тыс. дол., в Японии – 87 и 76,1 тыс. дол., в Канаде – 78,2 и 81,3 тыс. дол. США [6б, с. 26]. Из семи ведущих стран только в Канаде отмечается снижение производительности труда в обрабатывающей промышленности, доля которой в ВВП составляет 51 % (близка к доле в РФ). Что касается добывающей промышленности, то в текущем столетии наметилась тенденция к её снижению в ВВП мирового хозяйства, в то время как производительность труда, которая во многом зависит от уровня использования достижений НТП, имеет разнонаправленную тенденцию. В частности, самая высокая производительность труда в добывающей промышленности отмечается в Канаде – 293,7 тыс. дол. США в 2013 г., что ниже показателя 2008 г. (361,6 тыс. дол. США). Рост производительности труда в добывающей промышленности отмечается и в США: 260,1 тыс. дол. США в 2013 г. и 232,6 в 2008 году. Это связано с ростом технологической добычи сланцевой нефти и газа. В России также наблюдается рост производительности труда: 111,3 тыс. дол. США в 2013 г. и 86,5 тыс. дол. США в 2008 году. Однако это самый низкий показатель, он в 2,6 раза меньше, чем у лидера – Канады, и в 2,3 раза меньше, чем в США. Для России, которая специализируется на добыче и экспорте полезных ископаемых, прежде всего энергоносителей, это тревожная ситуация, которую надо решить, прежде чем переходить к развитию обрабатывающих производств в промышленном секторе страны.
Как отмечалось выше, общей тенденцией в развитии промышленности мирового хозяйства является снижение доли добывающего сектора и рост отраслей обрабатывающей промышленности с приоритетом тех отраслей, которые определяют пятый технологический уровень глобальной экономики.
В этом направлении большой интерес представляет работа экспертов компании «The Boston Consulting Group», которые проанализировали уровень издержек в обрабатывающей промышленности 25 ведущих стран мира, включая Россию, по четырём ключевым факторам за период 2004–2014 гг.: уровню заработной платы, производительности труда, энергетическим издержкам и обменным курсам [9, с. 8].
Все страны были разделены на четыре группы, отличающиеся характером изменений в уровне конкурентоспособности издержек. В первую группу вошли страны, которые находятся под давлением издержек (Китай, Россия, Бразилия и др.). США вошли в группу растущих глобальных лидеров. Впоследствии все страны по отмеченным выше факторам сравнивались с показателями США (США = 100 %).
Так, по фактору заработной платы авторы отметили огромные межстрановые различия в условиях почасовой зарплаты занятых в обрабатывающей промышленности. В частности, за анализируемый период наиболее высокие темпы отмечались в России, где ежегодный рост составлял 20 %, а уровень почасовой заработной платы с поправкой на производительность труда вырос почти в три раза, достигнув в 2014 г. 21,9 дол., в США она увеличилась только на 27 %, составив 22,32 доллара.
В США ситуация коренным образом изменилась в связи с развитием сланцевой революции с применением новых технологий. Добыча более дешёвых по затратам сланцевых нефти и газа оказала разностороннее позитивное влияние на американскую экономику и в целом на развитие энергетического сектора мировой экономике.
Что же касается России, то здесь при снижающейся производительности труда и росте трудовых затрат страна по трудозатратам приблизилась к уровню США. Неутешительными оказались и энергетические издержки в производстве РФ: за период 2004–2014гг. они выросли на 132 %, а рост потребления природного газа составил 202 %. Такие данные свидетельствуют о неблагоприятной ситуации, учитывая, что Россия является ведущим мировым экспортером газа и нефти, в то время как США вплоть до первого десятилетия 2000-х гг. являлись ведущим импортером.
Ситуация на мировом рынке энергоресурсов коренным образом изменилась за счёт новых сланцевых технологий, позволивших резко снизить себестоимость добычи газа в США до 35 % (в то время как на внутреннем европейском рынке они оказались выше более чем в 2 раза, а на азиатских рынках, в частности Японии, почти в 4 раза).
С 2009 г. США стали крупнейшим производителем газа в мире, обогнав по этому показателю Россию, ранее бессменного лидера на мировом энергетическом рынке. В 2013 г. в США было добыть 687 млрд. куб. м газа, а в России – 604,8 млрд. куб. м (с последующим снижением в 2014–2015 гг.) По имеющимся данным, США впервые с 1949 г. стали чистым экспортером нефтепродуктов и теснят Россию как лидера в сфере производства углеводородов [15, с. 7].
Снижение энергетических издержек в США положительно сказалось в целом на развитии обрабатывающей промышленности и в первую очередь на развитии энергоёмких видов деятельности – химической, чёрной и цветной металлургии, производства цемента, стекла и пищевой промышленности. Эксперты отмечают, что максимальную выгоду за счёт снижения цен на газ получают химическая промышленность и машиностроение.
Помимо появления новых возможностей для развития отмеченных отраслей в обрабатывающей промышленности создаётся база для укрепления технологического лидерства США в производстве нового, сложного оборудования для нефтедобычи и его экспорта в другие страны. С ростом поставок оборудования открывается возможность экспорта услуг по его обслуживанию, включая научнотехнологические (лицензированные) и инжиниринговые.
С ростом добычи сланцевого газа и нефти сверх внутренних потребностей американские компании ищут новые рынки сбыта, обостряя тем самым конкуренцию на мировом энергетическом рынке, что самым непосредственным образом затрагивает интересы России. Известно, что в нашей стране по-прежнему делается ставка на добычу традиционного природного газа и нефти, стоимость которой дорожает, что сказывается на производительности труда в добывающей промышленности. Снижение мировых цен на углеводородное сырьё, которое обеспечивает около 70 % валютной выручки страны, негативно сказывается на её экономике в целом, что подтверждается падением темпов роста ВВП начиная с 2013 года.
По мнению российских учёных, для подъёма экономики страны необходимо увеличить производительность труда в добывающей промышленности, прежде всего в отраслях энергетического блока, как в развитых странах, что даст синерги- ческий эффект для развития производственного блока в обрабатывающем секторе, включая и машиностроение. Помимо отмеченных выше факторов, эксперты отмечают, что конкурентные преимущества обрабатывающих отраслей России ослабляются за счёт действия и других факторов. В частности, согласно международным рейтингам, РФ занимает 62-е место в мире по качеству предпринимательской среды, 90-е место – по развитию логистики, а в целом по конкурентоспособности – 64-е место [9, с. 9].
Приведенные данные свидетельствуют о слабом включении экономики нашей страны в общий тренд развития глобальной экономики, где решающую роль играет инновационный фактор. В текущем столетии этому фактору уделяется приоритетное развитие не только в развитых, но в развивающихся странах, в частности КНР. Об этой тенденции свидетельствует растущий рынок наукоёмкой продукции, который, по имеющейся оценке, составляет 2 300 млрд дол. США. Из этой суммы 39 % приходится на США, 30 % – на Японию, 16 % – на Германию, на Россию – около 0,3 % [10, с. 42].
По мнению исследователей, причиной низкого уровня в России являются прежде всего макроэкономические факторы: неопределённость, противоречивость и непоследовательность экономической политики страны, отсутствие эффективных механизмов стимулирования инновационной деятельности, неблагоприятный инвестиционный климат. В стране наблюдается хроническое недофинансирование развития науки (в 2012 г. затраты на НИОКР составляли 1,2 % к ВВП, в за- рубежных странах – 4 %), разрушена кооперация науки и производства, продолжается процесс старения научных кадров.
Не способствует решению отмеченных проблем проводимое в настоящее время реформирование российской науки. Как отмечает академик С.Ю. Глазьев, эта реформа не затрагивает основные проблемы управления НТП, не предусматривает совершенствование институциональных форм и методов организации прикладных исследований, не ориентирована на развитие и внедрение «высокоэффективных наукоемких технологий» [7, с. 59].
Вызывает тревогу кадровая проблема. По данным ЮНЕСКО, на ноябрь 2015 г. во всем мире в научных исследованиях было занято 7,5 млн человек. С 2007 г. их число выросло на 20 %. В настоящее время больше всего ученых – 22,2 % находится в ЕС, в Китае – 19,1 %, в США – 16,7 %. В России за этот период (2007– 2015 гг.) количество ученых сократилось с 7,3 % до 5,7 % [2, с. 3].
Положение усиливается и такой тревожной ситуацией, когда молодые исследователи не видят для себя научных перспектив. Это подтверждается опросом, проведенным в Сибирском отделении РАН, где 40 % опрошенных при первой же возможности готовы уехать за рубеж (США, Китай, ЕС) и укреплять там научный потенциал [10, с. 3]. К сожалению такая ситуация имеет место и в другом крупном отделении РАН – Дальневосточном, учитывая, что в последние годы желание покинуть восток страны преобладает среди молодых, образованных людей, и такой настрой приобрел устойчивый характер [8, с. 94].
Согласно оценкам экспертов, с середины прошлого века объем знаний, которыми располагает человечество, удваивается каждые 20 лет. Эти знания, воплощаясь в человеческом капитале и в первую очередь его интеллектуальной составляющей, становятся стратегическим ресурсом развития инновационной экономики. Этому ресурсу в глобальной экономике уделяется первостепенное значение, невзирая на возможные конъюнктурные колебания мирового хозяйства. В ЕС, например, за 2007–2011 гг. количество исследователей увеличилось с 2 170 тыс. до 2 545 тыс., их доля среди занятых – с 0,99 % до 4,17 %. В отличие от развитых стран, в России, независимо от состояния экономической конъюнктуры, включая и период экономического подъема, численность исследователей неуклонно снижалась: с 426 тыс. в 2000 г. до 375 тыс. 2011 г. [21, с. 7]. Научная общественность обеспокоена тем, что продолжающаяся реформа РАН угрожает катастрофическим сокращением ее рядов, а на «возрождение» этого важнейшего ресурса потребуются десятилетия. По мнению специалистов, чтобы перейти к экономике инновационного типа, необходимо решить следующие задачи: наладить цепочку фундаментальная наука (включая отраслевую) – коммерциализация достижений прикладной науки – серийное производство; сформировать кадры, необходимые для разработки технологий и выпуска продукции; кардинально обновить производственные мощности предприятий и организаций [19, с. 48]. Однако, чтобы решение этих задач дало ожидаемый результат, важным представляется выбор организационных форм реализации инновационного потенциала. Здесь важно учитывать, что потребности экономического развития стран с разным набором конкурентных преимуществ требуют разработки разнообразных путей, которые соответствовали бы их национальным возможностям. Вместе с тем в мировой практике наработан ряд организационных структур для реализации инновационного потенциала. Так, в начале 50-х гг. прошлого века активно развивались технопарки, технополисы. Первые из них появились в США, а в настоящее время их насчитывается более 160 (30 % от общего числа технопарков в мире).
Позднее, в 70-е годы, технопарки появились в Европе, повторяя модель технопарков США. По оценке специалистов, особенность таких технопарков заключалась в наличии одного учредителя, а основной вид деятельности заключался в сдаче земли в аренду собственникам наукоемких форм [16, с. 4].
Позднее, в 90-е гг., в связи с активным развитием процесса глобализации, появилась необходимость в новой структуре, призванной ускорить экономическое развитие на основе разработки и использования инноваций. На смену технопаркам и технополисам пришла эра кластеров, а технопарки функционально стали их частью. Под кластерами понимается группа компаний, сконцентрированных в определенном регионе, взаимосвязанных между собой, с включением в кластер специализированных поставщиков сырья, комплектующих, товаров и услуг; а также академических учреждений и государственных органов, которые производят и реализуют взаимосвязанные и взаимодополняющие товары и услуги. Успех функционирования инновационного кластера предполагает совпадение интересов его основных участников: государственных организаций, частных компаний, региональных некоммерческих организаций, научных институтов и лабораторий. Как отмечается в работах российских исследователей, самым важным в указанной четверке является сотрудничество между государственным и частным секторами, так как функционирование кластеров должно отвечать не только коммерческим, но и социальным задачам развития региона [16, с. 6].
Как показывает международный опыт, важной особенностью развития инновационных кластеров является активное включение в их функционирование представителей малого бизнеса. Способность малого бизнеса внедрять инновации имеет решающее значение для конкурентоспособности экономик в развитых странах. В частности, в США с 2010 г. реализуется новая программа поддержки малого бизнеса – региональная кластерная инициатива. Эта первая межведомственная программа, направленная на развитие местных региональных экономик США [7, с. 24]. Принятые в США законы и созданные комиссии по поддержке и организации кластеров позволили укрепить позиции малого и среднего бизнеса, вывести его на конкурентоспособный международный уровень. Малые предприятия создают новые рабочие места и, благодаря кооперации с крупными предприятиями, имеют возможность представлять свою продукцию на внешних рынках.
Концепция кластерного подхода позволяет увеличить темпы роста товарооборота высокотехнологичной продукции и способствует развитию страны в целом [17, с. 27].
В текущем столетии кластерный подход к развитию территорий и инновационной деятельности получил широкое распространение во многих странах.
По имеющимся данным, полностью охвачены кластеризацией промышленность Дании, Норвегии и Швеции. Распределение кластеров по отдельным странам выглядит следующим образом: США – 380, Италия – 206, Великобритания – 168, Индия – 106, Дания – 34, Германия – 32 [17, с. 21]. Широко создаются кластеры и в Китае, они представляют собой высокую концентрацию предприятий одной отрасли на определенной географической территории. Подобная организация производства позволяет снизить себестоимость товаров, повысить эффективность и уменьшить срок производства, повысить гибкость в выполнении запросов клиентов, повысить инновационность производства [16, с. 9].
В последнее десятилетие и в России широко обсуждаются возможности применения кластерного подхода при формировании и осуществлении национальной промышленной политики. В ряде регионов началась практическая работа по созданию инновационных кластеров. Для поддержки этого начинания в 2008 г. Министерством экономического развития РФ была принята Концепция проведения кластерной политики в РФ. О необходимости и значении инновационных кластеров упоминается в разработанной стратегии социального и экономического развития России до 2020 года. Согласно имеющимся данным, в 2012 г. был объявлен конкурс программ развития инновационных кластеров. Из 94 поступивших заявок (из 50 регионов страны) были отобраны 25, из них только 13 вошли в 1-ю группу и могли рассчитывать на финансовую поддержку в виде субсидий из федерального бюджета (среди отобранных: кластер Зеленоград, кластер нанотехнологий в Дубне, биомедицины в г. Обнинске и др.) [11, с. 24]. Однако, по имеющимся оценкам, анализ состояния и перспектив развития территориальных инновационных кластеров в стране не даёт оснований для оптимизма, так как ни один из них не отвечает тем требованиям к классическим кластерам, о которых говорилось выше. Основными проблемами территориальных инновационных кластеров в России являются следующие: игнорирование открытого конкурса, директивный («сверху») способ выбора кластеров, доминирование государства над наукой и бизнесом; отсутствие горизонтальных связей, в том числе с активным включением малого бизнеса; низкий уровень взаимного доверия между основными субъектами экономической деятельности, острота кадрового обеспечения инновационных кластеров. Без решения перечисленных проблем возникает опасение, что в рамках осуществляемой в настоящее время в стране политики по модернизации экономики развитие инновационных кластеров может свестись к очередной модной кампании, как это уже не раз имело место (создание территориально-производственных комплексов в 70-е гг., свободных экономических зон в
90-е гг., особых экономических зон в начале 2000-х гг.). В настоящее время активно продвигается в качестве нового и, безусловно, эффективного инструмента развития концепция создания территорий опережающего развития как локомотива модернизации экономики России [13, с. 8]. Для внедрения нового экономического института был выбран Дальневосточный федеральный округ, который выделяется среди других регионов России не только самой большой территорией и самым низким уровнем заселенности, но и значительными минеральными, биологическими и лесными ресурсами. Этот регион имеет особое стратегическое значение для экономики страны, что неоднократно подчёркивал В.В. Путин в своих посланиях Федеральному собранию. Дальневосточный регион призван выполнять такие важнейшие функции, как внешнеэкономические, логистические и геополитические, что придаёт ему особый статус и значимость в современном и перспективном развитии Тихоокеанской России. Это особенно актуально с точки зрения национальной безопасности страны, учитывая продолжающиеся экономические санкции со стороны США и ЕС. Для реализации выдвинутой идеи было создано Министерство экономического развития по Дальнему Востоку, принят Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» № 473-ФЗ от 29 декабря 2014 года.
Согласно принятому Закону, целью создания новых институтов (ТОР), является комплексное решение и всесторонне обеспечение задач опережающего соци- ально-экономического развития Дальнего Востока. Задачи крайне сложные, учитывая, что, как отметил глава Министерства А. Галушка, серьёзной проблемой в развитии Дальнего Востока было хроническое недофинансирование, несмотря на ряд принятых целевых федеральных программ (до 2013, 2018, 2025 гг.).
В результате по таким ключевых проблемам социально-экономического развития региона, как здравоохранение, в 2015 г. на душу населения выделялось средств в 3,5 раза меньше, чем в среднем по России, образование – в 17,6 раза ниже среднероссийского уровня, культура – почти вдвое меньше [3]. Нерешённость перечисленных проблем является главной причиной оттока населения с Дальнего Востока, о чём отмечалось выше. С учетом этих и других факторов назрела острая необходимость разработки новых инструментов экономической политики на Дальнем Востоке. Первоначально в регионе было выделено шесть наиболее перспективных территорий, три из которых приняты к реализации в 2015 г. (одна в Приморском крае, две в Хабаровском крае: ТОСЭР «Ракитное», ТОСЭР «Комсомольск»).
По имеющейся информации, за прошедший 2015 г. (этот год был объявлен, как «год ТОСЭРов») в Хабаровском крае было подано 12 заявок на открытие ТОСЭРов, для развития которых поступило 110 заявок от потенциальных инвесторов, готовых вложить более 442 млрд рублей. По предварительным расчетам, от реализации этого грандиозного плана в бюджеты разных уровней к 2025 г. может поступить около 200 млрд руб. в виде налогов. Пока из всех заявок действующими остаются две ранее утвержденные.
По утверждению первого замминистра по развитию Дальнего Востока А. Орлова, при отборе приоритетных ТОСЭРов в первую очередь учитывалось наличие инвестиционного спроса со стороны частных инвесторов; второе условие – экспортная ориентация выпускаемой в ТОРе продукции; третье условие – явный экономический и социальный эффект, который предполагается получить в виде роста ВРП, создания новых современных рабочих мест с высокой зарплатой, прироста бюджетных доходов, развития местного и регионального рынков [4].
По наличию этих условий лидером является ТОСЭР «Комсомольск». По имеющимся данным, было подано более 20 заявок от инвесторов, желающих участвовать в развитии этих двух «точек роста» Хабаровского края. Однако из поданных заявок на ТОСЭР «Комсомольск» было подано около ¼, в то время как на ТОСЭР «Хабаровск» оставшиеся ¾ заявок от общего количества. Причём, как отметил губернатор Хабаровского края В. Шпорт, из поданных заявок «железно» будут работать только десять. Оставшиеся инвесторы остаются в стадии ожидания [20]. Как подчеркнул Ю. Трутнев, их сдерживают финансовые возможности и прежде всего необходимость затрат на создание необходимой производственной инфраструктуры, с одной стороны, с другой стороны, недостаточная степень взаимного доверия, учитывая сохранение тенденций недофинансирования со стороны федерального правительства и ограниченность финансовых возможностей региональных властей. В такой ситуации, видимо, недостаточно призывать к взаимному доверию госорганов и бизнеса, учитывая опыт прошлых подходов к ускоренному развитию Дальнего Востока.
Как отмечает академик П.А. Минакир, определяющим условием для привлечения предпринимателей является уверенность в их длительном прибыльном функционировании [13, с. 8]. Проводимая в настоящее время практика привлечения такой уверенности у предпринимателей не вызывает.
У научной общественности Дальнего Востока особую тревогу вызывает проводимая политика на привлечение трудовых ресурсов из западных регионов России, в то время как нарастает отток из региона высококвалифицированных специалистов на запад РФ и за пределы страны. По мнению ученых, при решении данной важнейшей проблемы необходимо перенести акцент на закрепление дальневосточных специалистов, на поощрение внутрирегиональной миграции путем создания социальных условий (как минимум, сравнимых с теми, что предлагаются приглашенным западным специалистам). В Хабаровский край планируется привлечь 7000 человек из других регионов России.
Подводя итог рассмотрению затронутых проблем, которые, несомненно, требуют дальнейшего глубокого исследования, необходимо, прежде всего, разработать меры по формированию высокого уровня доверия между основными субъектами во взаимоотношениях бизнеса и власти; стимулировать развитие малого и среднего бизнеса; активно привлекать представителей науки и образовательных структур; поддерживать у жителей региона жизненные стратегии, связанные с Тихоокеанской Россией, и одновременно способствовать усилению их ощущения пребывания в едином социальнокультурном пространстве страны [12, с. 25].
Список литературы Перспективы развития инновационной экономики в России в контексте глобальных технологических трансформаций
- Аганбегян А. Г. О новой промышленной политике/А. Г. Аганбегян.//ЭКО. 2012. № 6. С. 4-22.
- Аргументы недели. 2016. 26 февраля.
- Аргументы недели. 2015. 5 марта.
- Аргументы недели. 2014. 4 декабря.
- Глазьев С. Ю. Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях структурных изменений мировой экономики: научный доклад ГУУМ/С. Ю. Глазьев//Институт новой экономики. 2008. С. 13-15.
- Горлевская Л. Э. Производительность труда в промышлености России и стран «большой семерки»/Л. Э. Горлевская, А. М. Чубуков//Международная экономика. 2015. № 10. С. 24-28.
- Глазьев С. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития/С. Глазьев//Российский экономический журнал. 2015. № 5. С. 3-62.
- Глазырина И. П. Еще раз о «восточном векторе»: производительность труда в приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока/И.П. Глазырина, И. А. Забелина //ЭКО. 2016. № 16. С. 93-107.
- Кондратьев В. Мировая обрабатывающая промышленность: сдвиги в конкурентных издержках/В. Кондратьев//МЭМО. 2015. № 7. С. 5-15.
- Королев В. И. Инновационный потенциал: содержание, организационные формы его реализации российскими и зарубежными компаниями/В. И. Королев, Е. Н. Королева//Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 5. С. 40-47.
- Королев В. И. Инновационные территориальные кластеры: зарубежный опыт и российские условия/В. И. Королев//Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 11. С. 20-27.
- Ларин В. Стратегические приоритеты Тихоокеанской России/В. Ларин//МЭМО. 2015. № 6. С. 18-27.
- Минакир П. А. Новая восточная политика и экономические реалии/П. А. Минакир//Пространственная экономика. 2015. № 2. С. 7-11.
- Международная экономика. 2010. № 9. С. 27.
- Маликова О. М. Энергосырьевые факторы и перспективы индустриализации экономики США/О. М. Маликова, С. А. Повываев, С. А. Толкачев//США, Канада: экономика -политика -культура. 2015. № 9. С. 3-21.
- Орлова Г. А. Создание и развитие инновационных кластеров в мировой экономике./Г.А. Орлова, А. К. Марков, А. В. Хвальневич//Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 10. С. 3-11.
- Попова М. Л. Кластеры в США: роль и место малого бизнеса/М. Л. Попова//Международная экономика. 2015. № 9. С. 22-27.
- Соловьева Ю. Формирование и развитие трансферта технологий в России и за рубежом/Ю. Соловьева//Вопросы экономики. 2015. № 4. С. 131-141.
- Соколов А. В. МакроЭКОномическая политика государства и перспективы развития обрабатывающих производств в России/А. В. Соколов//ЭКО. 2015. № 11. С. 47-64.
- Хабаровский край сегодня. 2015. № 51 (57).
- Цапенко И. Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий: состояние и эффективность использования/И. Цапенко//МЭМО. 2014. № 4. С. 3-15.