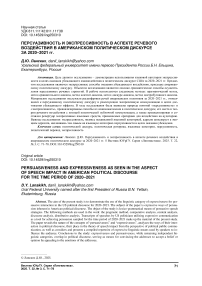Персуазивность и экспрессивность в аспекте речевого воздействия в американском политическом дискурсе за 2020–2021 гг.
Автор: Ланских Д.Ю.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Зеленые страницы
Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель данного исследования - демонстрация использования языковой категории экспрессивности в целях оказания убеждающего взаимодействия в политическом дискурсе США за 2020-2021 гг. Предметом исследования являются экспрессивные способы оказания убеждающего воздействия, присущие американскому политическому дискурсу. Объектом исследования являются лексико-грамматические способы осуществления персуазивных речевых стратегий. В работе используются следующие методы: прагматический метод, метод сравнительного анализа, метод контент-анализа, метод дискурс-анализа, метод дистрибутивного анализа. Материалом исследования послужили расшифровки речей американских политиков за 2020-2021 гг., относящиеся к персуазивному политическому дискурсу и реализующие экспрессивную коммуникацию в целях достижения убеждающего эффекта. В ходе исследования была выявлена природа понятий «персуазивность» и «экспрессивность», проанализированы способы их взаимонаслоения в политическом дискурсе, его места в теории речевого воздействия с позиций политической публичной коммуникации, а также проанализирован и составлен репертуар экспрессивных языковых средств, применяемых ораторами для воздействия на аудиторию. Выводы исследования: экспрессивность, являясь независимой языковой категорией, адресно аппелирует к эмоциям адресата, наслаиваясь тем самым на языковую категорию персуазивности в целях оказания убеждения.
Политический дискурс, политическая риторика, языковые категории, персуазивность, политический перевод, экспрессивность
Короткий адрес: https://sciup.org/147252058
IDR: 147252058 | УДК: 811.111'42:811.111'38 | DOI: 10.14529/ling250310
Текст научной статьи Персуазивность и экспрессивность в аспекте речевого воздействия в американском политическом дискурсе за 2020–2021 гг.
Политический дискурс – это совокупность речевых актов, направленных на реализацию политических целей, играющая важную роль в формировании общественного мнения и принятии политических решений [15]. Всепроникающая роль политической коммуникации в жизни современного информационного общества свидетельствует об актуальности данного исследования. В ходе ситуации отправления убеждающего политического сообщения неизбежно возникает персуазивный контекст, важной составляющей которого является модусная категория экспрессивности.
Среди современных зарубежных исследователей языковой категории персуазивности и процесса убеждения как такового, следует упомянуть Богдану Хумэ, профессора кафедры лингвистики Амстердамского Свободного университета, изучающую персуазивность как в лингвистическом аспекте, так и в аспекте бихевиористики реализации определённых стратегий и тактик убеждающей коммуникации в условиях так называемых холодных звонков в сфере продаж [17].
В данной работе мы придерживаемся более контекстуализированного, практикоориентированного определения понятия « персуазивность» в аспекте устного перевода убеждающего политического дискурса США. Персуазивность рассматривается как представляющая интерес для политического оратора инструментальная категория речевого воздействия на адресата сообщения, имеющая своей целью изменение его точки зрения, системы взглядов и воззрений в угоду интересам отправителя сообщения. Подобные свойства свидетельствуют о необходимости выявления режима взаимодействия между категориями персуазивности и неизбежно присущей речи политика экспрессивности, оказывающей, в свою очередь, воздействие на эмоциональную составляющую. Перспективным представляется дальнейшее применение результатов исследования в качестве пособия для практикующих переводчиков в сфере устного политического перевода, оперирующих в условиях временных ограничений, значительно усложняющих переводческую деятельность. Таким образом, настоящее исследование не только обладает высоким уровнем перспективности для будущих исследований в области политической лингвистики, но и представляет интерес как часть практической прикладной деятельности профессионального переводчика.
По мнению Е.А. Гончаровой, персуазивность является «одной из возможных составляющих коммуникативной стратегии текста» [2, с. 120]. Данная категория междисциплинарна, поскольку рассматривается исследователями не только как языковая категория, но и психологическая, и активно изучается исследователями в области межличностной коммуникации. Так, в 1980-х гг. в лингвистике сформировалась область, называемая «новой риторикой». В отличие от классической риторики как искусства красноречия, «новая риторика» в большей степени фокусируется на построении высказываний и суждений человека и их репрезентации в речи. Е.А. Гончарова отмечает, что «новая риторика» не ограничивается строго лингвистическими рамками, а «является также междисциплинарной, ...так как соприкасается с психологией и социальной психологией, культурологией, семиотикой и др.» [2, с. 120]. С другой стороны, персуазивность обнаруживается в коммуникативных ситуациях, связанных с коммуникативной стратегией «убеждения, манипулирования сознанием речевого партнера и его поведением», выражаясь теми средствами языка, которые направлены на «соблазнение речевого партнера к изменению определенной поведенческой социально-индивидуальной позиции, к принятию им определенного решения» [2, с. 123].
А.В. Голоднов, в свою очередь, полагает, что категория персуазивности реализует «попытку воздействия адресата на реципиента с целью добиться от него принятия самостоятельного решения о необходимости, желательности либо возможности совершения действия» [1, с. 22], определяя персуазивную коммуникацию как исторически сложившуюся, закрепленную в общественной и коммуникативной практике особую форму ментально-речевого взаимодействия индивидов, осуществляемую на базе определенных типов текста и реализующую попытку речевого воздействия одного из коммуникантов (адресанта) на установку своего коммуникативного партнера/партнеров (ре-ципиента/аудитории) с целью ненасильственным путем (посредством коммуникативных стратегий убеждения и «обольщения») добиться от него принятия решения о необходимости, желательности либо возможности совершения/отказа от совершения определенного посткоммуникативного действия в интересах адресанта. В работе Е.В. Шеле-стюк [14] приводится следующее определение: «речевое воздействие в узком смысле предстает как влияние, которое адресант оказывает на адресата с помощью вербальных, экстралингвистиче-ских и символических средств во время коммуни- кации, отличающееся конкретными предметными установками говорящего, которые направлены на изменение личностного смысла того или иного объекта в отношении реципиента, процесса категоризации и переформирование имеющихся категорий его сознания, влияние на поведение, психическое состояния или психофизиологические процессы». Достижение этих целей предполагает решение адресантом ряда задач: преодоление защитного барьера реципиента, «навязывание» тех или иных образов и мыслей, эмоций и установок (эмоционально-установочное внушение). Как и в случае речевого воздействия в широком смысле, речевое воздействие в узком смысле имеет обратную сторону: это изменение смысловых структур, оценок, поведения и психофизиологических процессов реципиента в результате речевого воздействия субъекта коммуникации. В теории речевого воздействия О.С. Иссерс отмечается, что персуа-зивность применима в любой коммуникативной ситуации, подразумевающей убеждение адресата, не являясь исключительным явлением для политического дискурса [6, с. 74–100]
Перейдем к рассмотрению другой неотъемлемо присущей политическому дискурсу языковой категории, играющей важную роль в процессе политической коммуникации, – к экспрессивности . Целью любого политического актора является убеждение потенциальных избирателей в своей правоте, побуждение их к принятию выгодной повестки дня, вследствие чего неизбежно появляется прагматическая необходимость апеллировать к эмоциональному настрою адресата. Как отмечал В.И. Шаховский, «…оценка в любой момент может превратиться в эмоционально окрашенную, эмоциональная не может существовать без семантической доли рационального» [12].
А.П. Чудинов, комментируя прагматическую составляющую элементов политического дискурса, отмечает, что «экспрессивность высказываний предполагает максимальное использование выразительных средств, что делает восприятие текста интересным для адресата, придает тексту эстетическую значимость» [11]. Традиционно театрализованная природа американской политической коммуникации и уже упомянутая необходимость адресного обращения к эмоциям адресата, связанным с ценностным кластером избирателя, позволяют сделать вывод об исключительной важности умелого использования категории экспрессивности для политического оратора в Соединённых Штатах.
В.И. Шаховский в своей статье «Проблема разграничения экспрессивности и эмотивности как семантической категории лингвостилистики» [13] обращает внимание на различие внешне кажущихся схожими категорий экспрессивности, эмоциональности и эмотивности. Экспрессивность прежде всего усиливает впечатление от высказывания, но может апеллировать к проявлениям объективной реальности, в то время как эмотивность слу- жит главным образом средством выражения субъективной оценочности. По убеждению исследователя, эмоциональность не всегда экспрессивна, и «экспрессивность и эмотивность необязательно сосуществуют в пределах одной языковой / речевой единицы»; факт же их частого пересечения в рамках слова, словосочетания или предложения «может быть назван отношением взаимоинтенси-рования» [13, с. 22]. В качестве аргументов исследователь приводит: 1) несовпадение восприятия экспрессивного и эмоционального адресантом и адресатом речи; 2) наличие языковых маркеров эмоциональности, не содержащих экспрессии; 3) возможность порождения экспрессии на основе эмоционально немаркированного образа.
Экспрессивность, по мнению таких исследователей, как О.И. Графова и М.И. Рогов [3], подразумевает возможность порождаемого сообщения оказывать определенное воздействие на сознание и поведение реципиента, выступая как более широкая, нежели эмоциональность, образность либо интенсивность, языковая категория. Она специально предназначена для усиления воздействия, оказываемого содержанием текста, что позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на независимость и иерархическое превосходство над эмоциональностью, языковая категория экспрессивности позволяет эффективно оказывать убеждающее воздействие, наслаиваясь на персуазивность как категорию убеждения.
Подобное взаимоналожение названных языковых категорий достигается благодаря использованию различных языковых средств, относящихся к различным речевым стратегиям и тактикам, выделенным и классифицированным в своей работе О.Н. Паршиной [9, с. 48]. Яркими представителями (и, безусловно, относящимся к числу важнейших) таких языковых средств представляются не-ологизация и окказионализация, позволяющие ораторам порождать различные экспрессивные неологизмы и окказионализмы, зачастую пользующиеся немалой популярностью и широко представленные в Интернет-пространстве. Неоло-гизация как явление, которое Т.Г. Добросклонская [5], А.Д. Михельсон [8, с. 460] и А.Н. Чудинов [10, с. 565] определяют как процесс образования неологизмов и их привнесения в узус, выступающий фактором своевременного пополнения политического вокабуляра новообразованиями, отражающими изменчивые реалии, неизбежно присуща политическому дискурсу. Экспрессивные новообразования не только передают информацию об объектах реальности, но также заключают в себе субъективное отношение неологизатора к таковым, выступая средством вторичной номинации. Точность передачи политических реалий при помощи экспрессивных неологизмов и окказионализмов порой нарушается в переводе ввиду недостаточной эквивалентности либо полной безэквива-лентности, возникающей ввиду неизвестности тех или иных реалий зарубежной действительности получателю сообщения в силу объективных различий политического климата в разных государствах, культурно-языковых различий, а также спонтанной и узкоконтекстуализированной природы порождения окказионализмов, создаваемых отправителем специально для конкретной ситуации и целевой аудитории и вовсе необязательно входящих впоследствии в узус, трансформируясь в неологизмы. Данный факт указывает на неперлокутивный характер большинства политических неологизмов.
Основываясь на результатах предыдущих исследований [7], можно судить о преобладании пейоративной (то есть, негативной) оценочности над мелиоративной (то есть позитивной) в политических неологизмах и окказионализмах, что позволяет сделать вывод об их преимущественно критическом характере по отношению к враждебным политическим реалиям. В ходе работы с материалами политического дискурса исследователю неизбежно придется столкнуться со сравнительно нейтральными по своей природе номинативными неологизмами и окказионализмами, функция которых прежде всего заключается в наименовании реалий.
В целях иллюстрации приведенных выше теоретических положений, рассмотрим неологизм infodemic («инфодемия», «информационная пандемия») , обозначающий внезапную (носящую характер «инфекционной вспышки») массовую истерию и поток дезинформации в инфополе, связанной с ней. Термин был придуман еще в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии, однако в активное употребление вошел лишь в 2020 году во время пандемии COVID-19 и сопутствующих ей событий в информационном поле. Оценочность данного неологизма явно пейоративна по своей природе, поскольку обозначает нежелательную, негативную реалию. В свою очередь, примером неологизма-номинатива, выступающим в большей степени средством обозначения новых реалий, нежели средством экспрессивности, является emoticonomy («эмотикономика», «эмоциональная экономика») , впервые употребленный в газете The New Statesman от 20 октября 2021 года, обозначающий гипотетическую экономическую систему, все участники которой «работали бы над тем, чтобы сделать мир лучшим местом для жизни» [16].
Персуазивность как языковая категория является средством оказания убеждения и внушения. Ниже приводится репертуар наиболее наглядных примеров речевых стратегий и тактик, представленных в ходе предыдущего исследования по данной тематике [4], составленный в соответствии с классификацией речевых стратегий и тактик, разработанной О.Н. Паршиной [9, с. 48], с использованием материалов речей американских политиков. В частности, в нижеприведенном репертуаре приводятся стратегии и тактики, обнаруженные в речах таких политических деятелей, как экс-президент США Дональд Трамп и действую- щий Президент США Джо Байден). Общий объем речей и расшифровок, взятых из таких источников, как официальный сайт Белого дома whitehouse.gov, видеохостинг YouTube, а также сайты крупных и респектабельных американских новостных изданий, таких как Washington Post, New York Times и др., составил 17 часов видеозаписей речей и 100 страниц расшифровок.
Стратегия формирования эмоционального настроя адресата.
Тактика единения (объединение слушателей как «единого народа») Топоним как общий ценностный кластер и объект прозопопеи
Прозопопея – риторическая фигура; представление неодушевленных предметов одушевленными. В нижеприведенных примерах объектом прозопопеи выступает топоним «Америка» как общий ценностный кластер, объединяющий и мобилизующий избирателей.
Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. America is rising anew.
America’s moving, moving forward. But we can’t stop now.
For America, nothing is impossible.
Наречия-интенсификаторы
В данных примерах используются наречия-интенсификаторы, многократно усиливающие эмоциональную окраску высказывания и придающие ему большую субъективность.
They work. They’re overwhelmingly supported by educators and their unions. And I might note parenthetically, that does not violate any trade agreement.
It’s been the law since the ’30s, buy American. American tax dollars are going to be used to buy American products, made in America, to create American jobs.
We are aggressively sheltering those at highest risk – especially the elderly– while allowing lower-risk Americans to safely return to work and school.
Парентеза - метатекстовое вкрапление; вставная конструкция, введенная в другое (зачастую грамматически несвязанное) предложение, усиливающее или дополняющее контекст; выделяется знаками препинания. Рассматриваемые мета-текстовые вкрапления позволяют оратору концентрировать и удерживать внимание слушателей.
The third piece of my plan is keeping – and maybe the most important – is keeping our children safe and our schools open. Данный пример демонстрирует пример использования эпексигезиса – разновидности парентезы, выполняющей функцию пояснения смысла основной фразы.
We’ll see more technological change – and some of you know more about this than I do – we’ll see more technological change this the next 10 years than we saw in the last 50. Используя так называемый. ано- податон, т. е. протяженную парентезу, оратор апеллирует к публике, адресно указывая на осознанность и профессионализм избирателей, тем самым благостно настраивая их по отношению к себе.
We developed, from scratch, the largest and most advanced testing system in the world. В данном примере наблюдается так называемая парэмбола , т. е. вид парентезы, при котором наблюдается очень тесная тематическая связь между главной и вставной фразами.
But what we can never have in America – and must never allow – is MOB RULE. В данном случае мы наблюдаем модально-оценочную парентезу, которая может обладать оценочно-комментирую-щим, усилительным и субъективно-оценочным значением. В этом конкретном примере наблюдается ярко выраженная усилительная коннотация, применяемая Трампом для подчеркивания и постановки смыслового ударения на важности недо-пущенияохлократии в Америке.
But before turning to the topic I want to discuss today – I hope you’ll indulge me – I want to talk a little bit about the people – the crisis people are facing in Florida right now. – Данный пример демонстрирует использование оратором так называемой парэмболы - разновидности парентезы, отличающейся тесной тематической связью между главной и вставной фразами. Более того, в этом конкретном примере мы можем судить о наличии двойной, т. е. кластерной парэмболы , используемой оратором для двойной концентрации внимания слушателей, как и для логического подведения их к теме дальнейшего высказывания.
Лексические средства выражения экспрессивности
Фразеологизмы вносят в текст интонацию живой разговорной речи, вызывают наглядночувственное представление о предметах действительности. В их основе лежит метафора или образное сравнение . Данное средство реализации персуазивности представляет повышенный интерес для оратора, поскольку благодаря образной природе фразеологизмов возможно построение речи эмоциональным и интересным для реципиента путем.
He has spent his entire career on the wrong side of history . Данным примером Дональд Трамп обращает внимание реципиента на бессмысленность карьеры своего политического противника, по мнению говорящего, потраченной впустую во имя неверных идеалов, не выдержавших проверку временем.
Biden is a Trojan horse for socialism. Дональд Трамп, используя мифологический образ Троянского коня, обличает Джо Байдена, обвиняя его в негласных симпатиях к левым идеям и попыткам их скрытного привнесения в американский истеблишмент, что, по мнению г-на Трампа, представляет серьезную угрозу для американского политического устройства и образа жизни.
When Congresswoman Ilhan Omar called the Minneapolis police department a cancer that is "rotten to the root ," Biden wouldn't disavow her support and reject her endorsement – he proudly displayed it on his website. Цитируя речь конгрессвумен Ильхан Омар, Трамп обвиняет Байдена в попустительстве и потакании публичному оскорбительному поведению в отношении департамента полиции города Миннеаполис, штат Миннесота. Метафоричное приравнивание полицейского департамента Миннеаполиса к «насквозь прогнившей» раковой опухоли , - сильное уничижительное сравнение со стороны Омар, направленное на дальнейший подрыв авторитета местного департамента полиции в глазах избирателей.
Экспрессивный эпитет
В данных примерах содержатся эмоционально коннотированные эпитеты, обладающие оценочным компонентом в своем значении, либо позитивным (мелиоративным), либо негативным. К примеру, эпитет soul-crushing («душераздирающий», «уничтожительный»), применяемый оратором по отношению к явно несимпатичному для него конформизму, обладает ярко выраженной негативной коннотацией. В то же время мы можем наблюдать позитивно окрашенный эпитет tremendous , подчеркивающий и усиливающий значимость заслуг учителей и необходимость отдать им дань заслуженного уважения.
If Joe Biden doesn't have the strength to stand up to wild-eyed Marxists like Bernie Sanders and his fellow radicals and there are many, many. If the Radical Left takes power, they will apply their disastrous policies to every city, town, and suburb in America. - В данном примере негативные эпитеты wild-eyed (в данном контексте можно перевести как «бесноватые» , «буйнопомешанные» , «исступлённые» или «неистовствующие» ) и disastrous («катастрофическая», «разрушительная» ) выполняют роль интенсификаторов отрицательной оценки идеологии ряда членов Демократической партии как радикальной и деструктивной, способной, с точки зрения Трампа, привести к губительным последствиям.
Использование местоимения we (как и его формы притяжательного падежа our ) и наречия together в качестве агенсов предложения способствует в некоторой степени единению отправителя дискурса и его адресатов, создает чувство сближения на почве разделяемого ценностного кластера - совокупности установок, взглядов, идеалов и интересов, представляющих ценность для избирателя как для гражданина той или иной страны, а также внушает ощущение сопричастности к тем или иным действиям, направленным на отправление политического волеизъявления гражданина:
We will appoint prosecutors, judges, and justices who believe in enforcing the LAW – not their own political agenda.
We will ensure equal justice for citizens of every race, religion, color and creed.
We will uphold your religious liberty, and defend your Second Amendment right to keep and bear arms.
This is the unifying national agenda that will bring our country TOGETHER .
Стилистически окрашенная лексика сниженного регистра
Нередко в политическом дискурсе встречается лексика сниженного регистра и сленговые выражения, выступающие в качестве интенсификаторов эмотивности и экспрессивности высказывания. Подобная лексика передает накал эмоций автора и призвана убедительно продемонстрировать публике серьезность отношения речеотправителя к общему делу и важность предприятия определенных политических действий как для него лично, так и для всех избирателей, его поддерживающих:
Nobody knows what the hell is going on.
He’s got guts . He fights, he fights
It damn well better not.
К общим (неспециализированным) тактикам (являются общими для нескольких стратегий) относятся:
тактика акцентирования (намерение говорящего подчеркнуть, выделить определенный момент своей речи);
эмфатические конструкции
It’s imperative that we support developing nations so they can be our partners in this effort. В данном примере мы наблюдаем использование вводной фразы It’s imperative (может быть переведена как «Для нас обязательно» , «Нам надлежит» , «Совершенно необходимо» ), подчеркивающей исключительную важность поддержки развивающихся стран со стороны США для обеспечения партнерства с их стороны в дальнейшем.
Нижеприведенные примеры демонстрируют использование оратором вспомогательных глаголов в убедительных предложениях для расстановки смысловой эмфазы.
And I do believe that our leadership has been guided by a set of fundamental principles – cooperation, security, ambition, and public trust – which is the recognition, of course, that space can and must be protected for the benefit of all people.
And what they did in many cases is, they did fraud.
Because of the vision of President Kennedy; because of the commitment of President Johnson – a champion of the American space program since his days in the United States Senate; and because of the hard work and ingenuity of thousands of Americans, our nation, in fact, did achieve that goal.
Парцелляция - конструкция экспрессивного синтаксиса, подразумевающая собой намеренное расчленение связного текста на несколько пунк-туационно и интонационно самостоятельных отрезков
“If only I had gotten vaccinated.” “ If only .”
Thousands more African-Americans are victims of violent crime in these communities Joe Biden and the left ignore these American Victims. I. NEVER. WILL . - В данном примере Трамп как оратор прибегает к парцелляции как средству интонационного выделения важной персуазивной единицы WILL, подчеркивающей его намерения не оставлять афроамериканское население проблемных округов один на один с проблемами, на которые, по мнению Трампа, демократы во главе с Джо Байденом не обращают никакого внимания; эмоционального усиления, создающего эффект «силы» и «живости» высказывания, а также выражения оценочного компонента без привязки к конкретной эмоции.
If you’re seeking care at a health facility, you should be able to know that thepeople treating you are vaccinated. Simple. Straightforward. Period.
You see our country loves our law enforcement. They really do. Love andrespect.
Look, think about it. There is simply no reason why the blades for wind turbines can’t be built in Pittsburgh instead of Beijing. No reason. None. No reason.
Таким образом, в результате рассмотрения взаимонаслоения языковых категорий экспрессивности и персуазивности в политическом дискурсе США мы можем прийти к следующим выводам: во-первых, в силу комбинации и одновременного использования ораторами нескольких способов манифестации персуазивности в своих речах, отнесение предложений, содержащих экспрессивные единицы, исключительно к одной конкретной тактике или стратегии не представляется в полной мере возможным. Поэтому вышеприведенная классификация основывается прежде всего на обнаруженном в ходе изучения отобранных материалов исследования репертуаре наиболее употребительных языковых средств выразительности, а также прагматической цели, которой руководствовался автор-отправитель, но не строгим языковедческим подходом к разделению и разграничению. Во-вторых, обе изучаемые языковые категории, являясь независимыми друг от друга, взаимона-слаиваются в политическом дискурсе благодаря различным языковым средствам, являющимся неотъемлемой характеристикой каждой из них. Пер-суазивность тем самым выступает как средство выражения категории экспрессивности в целях обеспечения эмоционального эффекта, равно как и средство оказания убеждения и внушения, побуждающих реципиента принять выгодную политику-отправителю точку зрения.