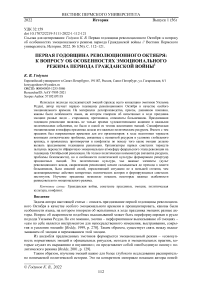Первая годовщина революционного октября: к вопросу об особенностях эмоционального режима периода гражданской войны
Автор: Годунов К.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: 1917: революция и социум
Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.
Бесплатный доступ
Используя подходы исследователей эмоций (прежде всего концепцию эмотивов Уильяма Редди), автор изучает первую годовщину революционного Октября в качестве особого эмоционального времени. На материалах делопроизводства, прессы, дневников показано, каковы были особенности языка, на котором говорили об испытанных в ходе праздника эмоциях разные люди - сторонники, противники, оппоненты большевиков. Празднования годовщин революции являлись не только яркими художественными акциями и важными политическими событиями, но были и одной из техник воспитания эмоций. Специфическая эмоциональная атмосфера праздника делала его важным политическим ресурсом. Вместе с тем праздник был напряженным временем для его организаторов: в ходе подготовки торжеств возникали логистические проблемы, связанные с нехваткой ресурсов в условиях глобального кризиса, и проявлялись противоречия и конфликты по поводу того какие эмоции должно вызвать празднование годовщины революции. Организаторы первых советских торжеств пытались перенести эйфоричную эмоциональную атмосферу февральского этапа революции на годовщину Октябрьской революции. Не только политическая конъюнктура (нехватка ресурсов, проблемы безопасности), но и особенности политической культуры формировали репертуар праздничных эмоций. Эта политическая культура, чьи важные элементы (культ революционного вождя, сакрализация революции) начали складываться до прихода к власти большевиков, была мощной силой, определяющей ситуацию не в меньшей степени, чем целенаправленные действия конкретных политических акторов и формирующихся советских институтов. Изучение праздника позволило показать некоторые важные особенности раннесоветского эмоционального режима.
Гражданская война, советские праздники, эмоции, политическая культура, конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/147246399
IDR: 147246399 | УДК: 32:159 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-112-121
Текст научной статьи Первая годовщина революционного октября: к вопросу об особенностях эмоционального режима периода гражданской войны
Задача автора настоящей статьи – описать празднование первой годовщины революционного Октября в качестве особого эмоционального времени и проанализировать, каковы были особенности языка, на котором говорили об испытанных в ходе праздника эмоциях разные акторы. Вопрос об искренности подобных высказываний может быть переформулирован в русле подхода Уильяма Редди. По его мнению, эмотив – перформативное высказывание об эмоциях – «сам по себе является инструментом для непосредственного изменения, выстраивания, сокрытия и усиления эмоций» [ Reddy , 1999, p. 270]. Таким образом, существует связь между высказыванием об эмоции и переживанием этой эмоции.
Из ансамбля предписанных эмотивов формируется эмоциональный режим – «совокупность нормативных эмоций и официальных ритуалов, методов и эмоциональных практик, которые служат их выражению и внушению»; он представляет собой «необходимую основу» политического режима [ Reddy , 2001, p. 129].
Таким образом, изучение эмоций важно для более глубокого исследования расширительно понимаемой политической истории. Это на конкретном материале показали авторы новей-
ших работ по истории российской революции: Б. И. Колоницкий продемонстрировал, что энтузиазм первых революционных месяцев способствовал формированию культа вождя [ Колониц-кий , 2017], а В. Б. Аксенов полагает, что «Первая мировая война впустила эмоции в социальнополитическую жизнь» [ Аксенов , 2020, с. 964], и без этой особой эмоциональной атмосферы трудно представить историю революции. Таким образом, история эмоций помогает по-новому посмотреть на важные историографические проблемы.
Несмотря на наличие обширной литературы по истории советских праздников, праздничные эмоции эпохи Гражданской войны не рассматривалась специально. Вместе с тем эмоции, проявившиеся в этот период, во многом определили дальнейшее развитие советского государства. Изучение эмоций Гражданской войны на материалах истории празднования годовщины Октября – «праздника основания» советского государства – представляется легитимным: в ходе различного рода церемоний, ритуалов, праздников эмотивы играют особую роль. Церемониал, масштаб аудитории, особое восприятие времени и пространства в праздничные дни поддерживают перформативный статус высказываний акторов различного уровня, использующих ресурс праздника.
Историки эмоций предлагают при их изучении особое внимание уделять противоречиям и конфликтам вокруг конкурирующих эмоциональных практик [ Плампер , 2018, с. 439]. Это особенно характерно для эпох радикальных перемен, когда эмоциональный канон рушится, а новый находится в процессе формирования. Этот подход важно учесть при анализе различных групп источников: делопроизводственных материалов, прессы, раскрывающих позиции различных групп, участвовавших в организации праздника, и дневниковых свидетельств, которые дают возможность учесть оценки, отличные от оценок организаторов торжеств.
Первая годовщина Октября: время отдыха или мобилизационная акция?
В середине сентября 1918 г. члены отдела народного просвещения Московского Совета постановили, что «дни годовщины должны явиться повторением переживаний Октябрьской революции», что «празднества отнюдь не должны носить официального характера, как 1 Мая, а должны иметь глубокий внутренний смысл: массы должны вновь пережить революционный порыв» [Советское декоративное искусство…, 1984, с. 56]. Уже на начальном этапе подготовки к празднованию организаторы торжеств поставили задачу воскресить воображаемые эмоции октября 1917 г. Конкретные механизмы воплощения этой задачи в жизнь могли меняться на разных этапах подготовки, но представление о празднике как о времени особой эмоциональности объединяло разные группы организаторов торжеств. Звуковые и цветовые эффекты, особая организация пространства, акции заботы должны были оказать сильное эмоциональное воздействие на участников торжеств в момент глобального кризиса.
Реконструкция восприятия праздника – чрезвычайно сложная задача, и едва ли можно дать точный ответ на вопрос, успешны ли были эти усилия организаторов торжеств. Для целей данной статьи важно понять, какой язык использовали разные акторы для описания праздничных эмоций.
Представитель комитета бедноты писал о своем впечатлении от праздника в Москве: «Поистине, казалось, что это было шествие всего русского пролетариата и крестьянства…. Да, мы теперь увидели, как наши товарищи рабочие любят социалистическую революцию, и мы, крестьяне, поймем, как надо нам защищать эту нашу святыню. Да здравствует же пролетариат!» (Впечатления делегатов, 1918). Для описания эмоций пролетариата и крестьянства автор заметки использовал язык класса, усиливая его сакральной метафорой. Этот же язык организаторы и участники торжеств в различных городах использовали для того, чтобы выразить недовольство поведением некоторых групп населения во время праздника. Так, корреспондент газеты «Беднота» писал о праздновании первой годовщины революции в Лобаскинской волости Симбирской губернии: «В дни празднеств ликовал пролетариат, скорбела в норах буржуазия» (Симбирская губ<ерния>, 1918).
По данным, поступившим в осведомительный отдел Московского окружного комиссариата по военным делам, в Смоленске «все рабочие, крестьяне, красноармейцы отнеслись к празднику с большим вниманием и энтузиазмом, принимая самое деятельное участие в выполнении программы торжества. Пассивным зрителем, как и следовало ожидать, был лишь буржу- азный класс и отчасти интеллигенция, ограничившая свое участие красными бантиками» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 79. Д. 66. Л. 1 об.).
Составители отчета ставили в вину отсутствие искренних эмоций при формальном участии в праздновании, которое ограничилось использованием революционной символики.
Описывая эмоции, корреспонденты формировали и поддерживали новые социальные иерархии: пассивное восприятие торжеств не соответствовало, по их мнению, ситуации праздника, и это являлось дополнительным свидетельством того, насколько буржуазии и части интеллигенции чужды были идеалы революции.
Эмоциональное поведение во время праздника должно было маркировать границы формирующихся сообществ. Это подводит к вопросу: выражения каких эмоций ожидали организаторы торжеств? Какие эмоции считались уместными, а какие – табуированными?
Исследователи по-разному отвечают на вопрос о том, какой была эмоциональная атмосфера ранних советских праздников. По мнению Е. М. Балашова, в годы Гражданской войны «в колоннах демонстрантов <…> обычно царила суровая и мрачная атмосфера» [ Балашов , 2013, с. 489]. Марк Стейнберг описывает эмоции празднующих по-иному: «Назойливое веселье оставалось отличительным знаком официальных уличных торжеств даже в самые мрачные дни Гражданской войны» [ Стейнберг , 2018, с. 249]. Важно рассмотреть, как сами организаторы торжеств видели желаемые эмоции празднующих.
Глава Центрального бюро по организации Октябрьских торжеств в Петрограде М. Ф. Андреева заявила на этапе подготовки торжеств, что «революция октябрьская – величайшее в мире событие, победа и праздник пролетариата, радость и твердая светлая уверенность в своем окончательном торжестве» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 10. Л. 1).
С другой стороны, отмечала Андреева, «бои еще не кончены, в мире еще льются потоки и нашей, и чужой крови, и потому праздник, как нам кажется, должен носить серьезный и строгий характер <…>. Праздник этот явится подсчетом сил, он выявит нашу мощь, он явится нашим смотром» (Там же). В описании Андреевой праздник представлял собой сложносоставное, многозначное сообщение.
Редактор газеты «Известия ВЦИК» Ю. М. Стеклов подводил итог празднования первой годовщины Октября в Москве: «Теперь, по окончании юбилея, праздничные украшения будут убраны, и мы вернемся к повседневным делам. Но и наш праздник был великим делом: он дал нам возможность подсчитать свои силы и вдохнуть новую бодрость и энергию в наши сердца» ( Стеклов , 1918).
Видные большевики описывали праздник в качестве смотра сил сторонников Октября, время торжеств должно было стать временем военно-политической мобилизация, частью войны, идущей с врагами революции, военный парад репрезентировался как важнейшая часть праздничных торжеств. При этом в процитированных текстах видно стремление совместить две функции торжеств: праздник должен был стать не только временем обострения борьбы с врагами, но и временем передышки между решающими сражениями. Это совмещение функций наглядно проявилось в заметке корреспондента «Известий Новгородского Губернского Совета», описывающего эмоции, которые должны были испытать участники праздника: «Станем веселиться, петь гимны революции. Выйдем на улицу, сомкнем свои ряды и покажем, что мы сумеем праздновать свой праздник – праздник классовой победы, праздник коммунистической революции. В этот день мы должны быть велики, грозны, сильны и веселы» (Праздник революции, 1918). Совмещение сильных эмоций должно было наглядно показать врагам Октября силу сторонников революции.
Авторы иных текстов не смешивали функции праздника. Поэт Н. Г. Полетаев писал в издании московского Пролеткульта о значении первой годовщины революции:
Не торжество, не ликованье,
Не смехом брызжущий восторг –
Во всем холодное сознанье –
Великий непреложный долг ( Полетаев , 1919).
При этом корреспондент того же издания давал иную характеристику эмоциям участников прошедшего в Москве торжества: «Море народной радости выступило из берегов, сбросило с себя заботы каждодневности, забыло обо всем. Творческая душа масс раскрылась и расцвела невиданным еще цветком опьяненного восторга, ликования, непосредственности. Вместо строгости сомкнутых колонн – безудержная гармония натиска, поражающая в беспорядочных движениях ритмичности их» (Родов, 1919). Корреспондент полагал, что ритуальные элементы праздника – демонстрация, церемонии открытия мемориальных досок и памятников – отошли на второй план, поблекли «перед всеобщим ликованием и непосредственным чувством радости», а «характерными оказались не митинги, не речи, не лозунги, а народные зрелища в театрах и цирках, хождение по улицам и площадям, глазение картин и панно, любование фейерверками» (Там же). Корреспондент давал общую характеристику торжеств: «Не празднованием годовщины, не памятью жертв и усилий, не восторгом грядущей победы и творчества, – радостным приятием революции, детски-веселым смехом великих масс, стал великим день Переворота» (Там же).
Сходным образом описывали эмоции праздника и комментаторы в провинции. «Ровно год прошел, как у нас правит своя народная власть, власть рабочих и крестьян. Как же не праздновать нам в этот день, как же не радоваться и не веселиться! И действительно все радовались и веселились», – писал корреспондент «Известий Новгородского Совета» (Праздник Великой годовщины…, 1918). В подобных характеристиках проявилось традиционное отношение к празднику как к времени отдыха, веселья и радости.
Эти эмотивы подкреплялись важными для большевиков и их сторонников событиями, совпавшими по времени с моментом организации и проведения торжеств. Н. М. Анцелович, лидер петроградских профсоюзов, сменивший М. Ф. Андрееву на посту главы Центрального бюро по организации Октябрьских торжеств, так подводил итог подготовки торжеств в Петрограде: «…если бы даже то, что происходит на западе, не происходило – и тогда бы наша годовщина октябрьской революции имела бы колоссальное историческое значение, но если учесть ту обстановку международную, которая наблюдается сейчас – ясно, что наша годовщина – это не простое веселье, не простой праздник, как понимает обыватель, а это год политических итогов, это целый год Всероссийской Коммуны, это год, как рабочий властвует и стоит у власти и поэтому советская власть, советы, поэтому пролетариат не может эту годовщину так отпраздновать, как он отпраздновал бы другое обычное явление» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 14. Л. 59–60). При этом в другом месте своей речи он говорил: «Мы знаем, что мы переживаем тяжелое время и жестокая борьба, может быть, еще предстоит нам и много опасности и испытаний впереди, но все-таки в нас сильна вера в наше завтра, мы сильно верим в нашу победу и мы уже начали побеждать, мы сильны и в первый год нашей пролетарской революции должны быть веселы и встретить с музыкой, песнями. Да здравствует радость, мы целый год прожили» (Там же. Л. 62–63). Видный петроградский большевик стремился совместить несколько функций праздника: с одной стороны, один из первых советских праздников противопоставлялся праздникам традиционным, описывался не только в качестве времени развлечений и отдыха, но и в качестве важной политической акции; в то же время в другом месте своей речи он говорил о том, что праздничное время должно стать временем радости.
Подобный эмотив был связан с актуальным политическим контекстом: нарастание революционного движения в Европе (прежде всего революционные события в Германии) осенью 1918 г. оказали воздействие и на подготовку празднования годовщины российской революции. Идея о скорой победе революции в мировом масштабе нашла отражение в пропагандистских материалах различного характера: в речах вождей, праздничных лозунгах, визуальных символах, резолюциях различного уровня. Особая, эйфоричная атмосфера октябрьских торжеств, которую стремились сформировать организаторы праздника, использовалась различными силами для тиражирования представления о наступлении новой эпохи в мировой истории (см. об этом [ Годунов , 2018]).
Представление о празднике как о времени эйфории и радости в концентрированном виде отразилось в статье корреспондента «Известий Олонецкого Губернского Исполнительного Комитета Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов». Он писал: «Как в великие дни христианской Пасхи подлинно верующие забывают и о своих недугах, и о своем горе и в приобщении к воскресшему Христу под малиновый звон праздничных колоколов ликуют целую неделю, точно такое же настроение должны мы вызвать в себе в дни октябрьского юбилея. <…> Дни 7–8 ноября должны стать днями всеобщего митингования. Крылатым праздником духа должны мы их сделать. Это дни смотра наших сил, и мы должны ревностно к ним подготовиться, употребляя церковный оборот, постом и молитвою. За дни 7–8 ноября мы все обязаны стать зрелыми. Кто чего не понимает, должен понять. В работе коллективной мысли должен найти свое успокоение. После 7–8 ноября не должно остаться никаких недоумений. Все должны быть приведены к одному знаменателю в эти дни великого братского обучения.
Но эти дни, помимо учебного их содержания, должны быть днями и великой радости. Так в пасхальные дни верующий разумом уподобляется воскресшему Христу и с чувством радуется под веселый звон праздничных колоколов торжеству Воскресшего Великого Сына» ( Рачков , 1918).
Корреспондент затронул несколько тем: праздник, по его мнению, должен был стать временем коллективного квазирелигиозного обращения, способствующего духовному преображению празднующих, что, в свою очередь, было связано с темой эмоций. Неслучайно автор заметки дважды использовал сравнение годовщины Октября с Пасхой: участники революционного праздника должны были испытать эйфорию, сопоставимую с эйфорией участников религиозного торжества.
Подобные описания не были уникальны: разные люди в разных частях страны независимо друг от друга характеризовали первую годовщину Октября в качестве «красной Пасхи», «пролетарской Пасхи» [Политизация языка…, 2018, с. 58–75].
Вероятно, на распространенность этого описания оказали влияние праздники февральского этапа революции 1917 г.: именно тогда получила свое развитие традиция восприятия революции как Пасхи. Февраль описывался и эмоционально переживался многими современниками как религиозный праздник, празднование же Пасхи, в свою очередь, политизировалось [ Колоницкий , 2012, с. 57–86].
Характерное для ранних советских праздников явление «переноса сакральности» можно описать и в качестве «переноса эмотива»: «пасхальные» эмоции переносились на новый политический праздник. Церемонии Февраля, способствовавшие сакрализации образа революции, оказали воздействие и на формирование советской праздничной традиции. Организаторы первых советских торжеств пытались перенести эйфоричную эмоциональную атмосферу на годовщину Октябрьской революции в иной политической ситуации.
Описание праздничного времени как времени сакрального было связано с формированием культа революционного вождя. Выступления В. И. Ленина в ходе празднований первой годовщины Октября в Москве были одними из первых появлений лидера большевиков на публике после покушения на его жизнь 31 августа 1918 г. Это оказало воздействие на представление о нормативных эмоциях, которые должны были испытывать празднующие.
«Чувство бодрости, уверенности в торжество нашего дела коммунизма вселяет нам то, что товарищ Ленин и теперь как всегда с нами, на своем славном посту главы первой в мире социалистической Республики», – писали составители телеграммы, направленной в честь годовщины революции от имени «всех пролетарских организаций Уральской области» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 10).
В «радостный для всех пролетариев день» празднования революционной годовщины представители профсоюза лекарских помощников Мценска писали Ленину: «Мы счастливы Твоим спасением» (Там же). Составители телеграмм использовали эмотивы радости и счастья от выздоровления вождя.
При этом подобный язык использовали не все комментаторы.
Апатия и скорбь
Характеризуя эмоции празднующих первую годовщину революции в Москве, историк Ю. В. Готье писал в дневнике: «Толпа на Тверской была демократическая, черная, мастеровая, половинчатая – истинное олицетворение того, что захватило власть. Как всякая русская толпа она была мрачна и скучна; на боковых улицах было темно и тихо, и даже флагов было немного» [ Готье , 1997, с. 194]. Автор не испытывал симпатии к большевикам, при этом, как и для некоторых организаторов торжеств, эмоции участников празднования он связывал с принадлежностью к социальной или профессиональной группе. Неслучайно и то, что в этом контексте Готье использовал понятие «демократическая» для характеристики «толпы»: под «демократией» в данном случае понимался, вероятно, союз городских низов с левыми радикалами.
Похожую оценку эмоциям празднующих годовщину революции в Москве дал Н. П. Окунев: когда играла музыка, «шествие манифестантов проходило стройно и оживленно, а в паузах им было скучно, и они казались вялыми, усталыми и недовольными» [ Окунев , 1997, с. 230].
Г. А. Князев, описывая первую годовщину Октября в Петрограде, отмечал: «Народ совсем устал. Даже и не смотрит. На улицах появились “контрреволюционные” прокламации. Возвещается общенародная власть и проч. Неужели нам предстоит испытать еще все ужасы Ярославля, Самары, Казани? Да минует нас чаша сия» [ Князев , 1993, с. 124]. Автор дневника пишет, с одной стороны, о пассивности тех, кому предназначался праздник, с другой – отмечает, что праздник был использован оппонентами большевиков для распространения «прокламаций», и выражает опасения в связи с этим.
«Праздник на селе унылый», – писал священнослужитель о праздновании годовщины революции в Михайловской Слободе [ Смирнов , 2008, с. 124].
Подобные оценки могут быть объяснены критическим отношением авторов этих свидетельств к большевикам, но тот факт, что праздник не достиг своей цели, отмечали и сторонники революционной власти. Театральный режиссер А. И. Пиотровский вспоминал об эмоциях участников празднования в Петрограде: «чужими и непонимающими шли манифестирующие колонны» по площадям, украшенным представителями авангарда [ Пиотровский , 1925, с. 51].
Важно учесть и мнения самих организаторов торжеств. На заседании конференции, целью которой было обсуждение подготовки празднования 1 Мая 1919 г. в Петрограде, подводились итоги октябрьских празднований. Н. М. Анцелович, оценивая характер прошедших торжеств, отметил, что «нельзя теперь устроить того, что было в Октябре. Внешний характер праздника должен быть более скромный». Представитель Пролеткульта Андреев заявил, что «Октябрьские торжества никого не удовлетворили», художник Рембулай-Попов, критикуя организацию торжеств, отметил: «Бухнули тогда несколько миллионов рублей. Между тем украшения вызвали только улыбку со стороны пролетариата. Город нужно украсить художественно, а не тряпками» (ЦГАЛИ. Ф. Р-283. Оп. 2. Д. 44. Л. 4–5).
Таким образом, организаторы торжеств, корреспонденты газет и журналов, пытающиеся осмыслить итоги праздника в разных городах, отмечали, что основными эмоциями участников торжеств были ирония (прежде всего по отношению к художественным экспериментам авангардистов) или апатия. Вероятно, подобные оценки можно объяснить и тем, что в феврале 1919 г. с критикой футуристов выступили некоторые видные большевики, эта критика была поддержана В. И. Лениным [ Geldern , 1993, p. 97–102]. Итогом данной кампании стало отстранение представителей художественного авангарда от подготовки праздничных торжеств. Как видно из приведенных выше цитат, именно футуристы объявлялись главными виновниками того, что праздник в качестве средства эмоционального воздействия не достиг своей цели. Представляется при этом, что за подобными оценками стояла не только борьба с футуристами, но и не менее важное политико-культурное противоречие.
Это противоречие выразил в своем дневнике литератор и юрист А. В. Жиркевич. Описывая ситуацию, сложившуюся к ноябрю 1918 г. в симбирском госпитале (холод, голод, массовые смерти), он спрашивал себя: «Могу ли я равнодушно видеть празднества на улицах, когда душа еще полна всеми этими сообщениями? Могу ли радоваться?» [ Жиркевич , 2007, с. 423].
Организаторы торжеств стремились соответствовать традиционным представлениям о празднике как о времени отдыха, веселья, радости. Это вступало в противоречие с конкретной ситуацией Гражданской войны: новые элиты организовывали праздничные торжества в момент экономической катастрофы, военных столкновений, споров о роли красного террора в революции.
Вероятно, это противоречие объясняет и смысл дискуссий, возникших при подготовке празднования первой годовщины революции в Петрограде между организаторами торжеств.
Секретарь Центрального бюро по организации октябрьских торжеств А. Ф. Оксюз и глава петроградских профсоюзов Н. М. Анцелович по-разному отвечали на вопрос о центре празднований. Если Оксюз предложил включить в качестве важнейшей топографической точки праздника Марсово поле, то Анцелович заявил, что главной особенностью праздника должно было стать «всеобщее радостное веселье» (Организация…, 1918). По его мнению, праздник должен был быть «не поминками, а устремленным в будущее торжеством революционных побед» (Там же). Разная локализация праздника предполагала разные эмотивы.
Организаторы праздника столкнулись с проблемой. С одной стороны, трагическая память о павших революционных героях, проявление скорби было неизбежно: важнейшим праздником свободы были похороны жертв революции 23 марта 1917 г. Эта церемония наделила Марсово поле сакральным статусом [ Колоницкий , 2012, с. 45, 52], игнорировать это особое пространство революционной политической культуры организаторы торжеств не могли. С другой стороны, такая эмоция, как скорбь, по мнению Анцеловича, не соответствовала ситуации праздника.
На заседании Петроградского совета 24 сентября 1918 г. М. Ф. Андреева изложила компромиссную позицию. Рассуждая о соотношении радости и траура во время праздника, она процитировала стихотворение американского поэта Уолта Уитмана: «Завтра милые могилы мы цветами уберем, а сегодня по могилам с ликованием пойдем» (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 10. Л. 1). Праздник Андреева предложила разделить на два дня, и посещение Марсова поля должно было стать важным пунктом праздничного маршрута в первый день торжеств. Организаторы праздника постарались совместить триумфальный характер празднования революции с трагической памятью о погибших. Таким своеобразным компромиссом петроградские большевики попытались решить вопрос о том, какая эмоция – радость или скорбь – должна доминировать в ходе празднований первой революционной годовщины.
В дальнейшем представление о 7 ноября как о времени поминовения менялось: по мнению Е. И. Красильниковой, изучившей празднования годовщин революции в Сибири, «к середине 1920-х гг. из дня памяти и скорби 7 ноября превращается в день торжества успехов современного развития экономики, общества и культуры» [ Красильникова , 2012, с. 71].
Итак, в ходе подготовки и проведения праздника отчетливо проявилось противоречие между эйфоричной памятью об Октябре и невозможностью проявлять подобную нормативную эмоцию в ситуации глобального кризиса. Это противоречие организаторы торжеств постарались снять, использовав традиционный элемент праздничной культуры – акции заботы и попечения (в частности, раздачи пайков в праздничные дни).
Восприятие этих акций не было однозначным. Москвич Н. П. Окунев писал в дневнике: «…главное расточительство народных денег последует завтра (7 ноября): предположены даровые обеды всем учащимся, всем солдатам, всем рабочим и служащим советских учреждений. Изведется продовольственных запасов сразу безумно много, а потом… настанут будни, будет не хватать того, другого еще в большей степени, и хлеб, мясо вздорожают до того, что будут многим уже совершенно недоступны. Кутнем! Но похмелье будет тяжкое» [ Окунев , 1997, с. 229].
Подобные опасения встречаются и в письмах во власть: «В то время[,] когда каждый лоскуток красной материи представляет из себя предмет насущности[,] вы растерзали эту материю на флаги. Без флагов, без фейерверков революцию творить можно, но без хлеба – серьезности революции не довершите. И как можно тратить такие суммы на то[,] без чего можно жить, без чего – отпущенную сумму использовать можно в наше благополучие. Для меня тогда празд-ник[,] когда я в довольствии, но где оно. Быть может, не удастся допраздновать, а вы начинаете: ведь дело требует нас на пост! Кто смеет отвлекаться? Мы гибнем в смертельных муках, а нам серенаду играют. Я недоволен праздником; был бы я богат знанием, хлебом, вообще благополучием. Вспомните истину большевиков» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 140. Д. 10. Л. 327–328). Данное письмо отложилось в деле под заглавием «Письма антисоветского содержания от разных лиц к В. И. Ленину, Л. Д. Троцкому и др.». Между тем оно принадлежит, вероятно, стороннику Октября (хотя и своеобразному), который при этом использовал те же аргументы, что и критично настроенный по отношению к большевикам Н. П. Окунев: ситуация в стране, недостаток продовольствия и иных ресурсов, общая атмосфера не способствовали проведению торжеств. Автор письма выразил неприятие транслируемых в ходе праздника эмоций, полагая, что они не соотносятся с ценностями («истиной»), декларируемыми большевиками.
Еще более открыто позиция о неуместности праздника была выражена в анонимном письме, адресованном председателю Совета народных комиссаров: «Гражданин Ленин! Вся ваша теория, как показал ваш опыт, ничего не стоит. Вы обещали улучшить положение бедных за счет богатых, а сделали то, что бедные живут теперь гораздо хуже, чем при императоре Ни- колае II. Поэтому вместо того, чтобы праздновать годовщину Вашего мерзкого правления, состоящего в том только, что вы дьявольски натравили русских против русских и предоставили все привилегии жидам – уносите лучше свои ноги из России, и забирайте с собой всю свою жидовско-масонскую свору. Неужели вы оглохли и не слышите, как русский народ проклинает вас и ваши порядки? Уходите же, пока терпение народа не лопнуло» (Там же. Л. 321). Антисемитская риторика и представление о том, что празднование неуместно в ситуации национального кризиса, связывались друг с другом.
Используя разный язык, и сторонник большевиков, и критик правящей партии, в чьем письме проявилась культура российского антисемитизма, независимо друг от друга выразили мысль о неуместности эмоций, предписываемых организаторами празднества. Можно с уверенностью предположить, что подобное представление получило некоторое распространение.
Заключение
Празднование годовщины революции являлось не только яркой художественной акцией и важным политическим событием, но было и одной из техник воспитания эмоций. Специфическая эмоциональная атмосфера праздника делала его важным политическим ресурсом.
Вместе с тем праздник был напряженным временем для его организаторов: в ходе подготовки торжеств возникали логистические проблемы, связанные с нехваткой ресурсов в условиях глобального кризиса, и проявлялись противоречия, связанные с тем, какие эмоции должно вызвать празднование годовщины революции.
При этом не только политическая конъюнктура (нехватка ресурсов, проблемы безопасности), но и особенности политической культуры формировали репертуар праздничных эмоций. Эта политическая культура, чьи важные элементы (культ революционного вождя, сакрализация революции) начали складываться до прихода к власти большевиков, была мощной силой, определяющей ситуацию не в меньшей степени, чем целенаправленные действия конкретных политических акторов и формирующихся советских институтов.
Список литературы Первая годовщина революционного октября: к вопросу об особенностях эмоционального режима периода гражданской войны
- Аксенов В.Б. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914-1918). М.: НЛО, 2020. 992 с. EDN: CWTLCT
- Балашов Е.М. Новое общество - "новый человек" // Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. М.: Центрполиграф, 2013. С. 406-516. EDN: YOFGRX
- Годунов К.В. Празднование первой годовщины Октября и ожидания мировой революции // Новейшая история России. 2018. Т. 8, вып. 2. С. 441-448. EDN: XWLQOT
- Готье Ю.В. Мои заметки. М.: Терра, 1997. 589 с. EDN: YTPSGZ
- Жиркевич А.В. Потревоженные тени... Симбирский дневник. М.: Этерна, 2007. 639 с.