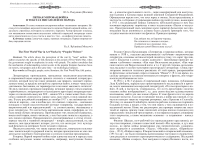Первая мировая война в текстах писателей из народа
Автор: Рыкунина Юлия Абдуллаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература. История литературы
Статья в выпуске: 1 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье показано восприятие войны «низовыми» авторами. Исследуется специфика народной словесности периода Первой мировой войны, когда власть стремилась подчеркнуть единство с народом. Автор приходит к выводу, что механизмом осмысления актуальных событий в народной литературе становится ориентация на слухи, газеты и вместе с тем - на мифологические сюжеты.
Самоучки, народ, наивная литература, первая мировая война, народная поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/14914480
IDR: 14914480
Текст научной статьи Первая мировая война в текстах писателей из народа
Литературные произведения, написанные писателями-дилетантами, в современной науке нередко принято относить к «наивной литературе»: сегмент, который получил такое название, как правило, занимает определенную нишу, за пределы которой не стремится выйти, и имеет чаще всего «интимное» бытование, не тиражируется и не имеет массового читателя1. По ряду внешних признаков (например, незнание правил стихосложения, ограниченность литературного и культурного кругозора) литература некоторых из писателей-самоучек XIX - начала XX в. также может быть отнесена к наивной словесности, однако здесь надо иметь в виду важный нюанс. В силу российской специфики до октября 1917 г. так называемые «писатели из народа» - как и вообще все, что связано с народом, - неизменно попадали в некий идеологический контекст (например, государственнопатриотический или народнический) - и, соответственно, оказывались в поле литературы. Это могла быть маргинальная ниша, периферия, но это была ниша внутри литературы. Произведения этих писателей издавались, имели свой тираж, своего читателя; у них был шанс попасть в журналы, о них писали критики. Принадлежность рассматриваемых в статье стихотворных текстов к «наивной литературе» - вопрос дискуссионный, но, как кажется, они представляют интерес для тех, кто исследует этот культурный феномен на материале более позднего периода.
Писатели-самоучки, что также хорошо известно, изначально пользовались значительной поддержкой власти, которая преподносила их как свидетельство всеобщего благоденствия и успехов политики просвещения.
В период Первой мировой войны идея единства власти и народа стала особенно актуальна: можно вспомнить, например, выступление Есени-
на - в качестве крестьянского поэта - перед императрицей или выступление Есенина и Клюева перед великой княгиней Елизаветой Федоровной. Официальная версия того, что поет народ в окопах, быта представлена, в частности, в сборнике «Современная война в русской поэзии», вышедшем в 1915 г. под редакцией Бориса Глинского; небольшой раздел в нем был посвящен народному творчеству и имел подзаголовок «Песни и частушки». Представленный здесь материал носил характер фольклора: все произведения были анонимны и должны были служить примером того, что солдаты массово исполняют на фронтах. Приведем пример:
Как дойдем мы до Берлина-городка, Не останется от немцев и следка... А вернемся мы в родимые леса, Приведем домой Вильгельма за уса!2.
В книге Ореста П,ехновицера «Литература и мировая война», которая вышла в 1938 г, отдельно рассматривается «лубочная» патриотическая литература, основные мотивы которой сводятся к тому, что «враг труслив, слаб и находится в союзе с самим дьяволом»3. П,ехновицер приводит названия «лубочных» книжек: «Как чорт Вильгельма выдумал», «Как чорт сшил сапоги для Вильгельмовой ноги» и т.д. С другой стороны, исследователь выделяет в особую категорию пролетарскую литературу: «Лишь пролетарские писатели пытались рассказать об этой правде, раскрывшейся во фронтовых испытаниях перед сознанием “Ивана”»4. В то же время, поскольку цензура не оставляла возможности говорить о фронте, они «переносили разоблачения на тыл».
В 1916 г. в № 3 журнала «Современный мир» появилась публикация Льва Клейнборта, марксистски ориентированного исследователя и критика, много занимавшегося народной литературой, «Поэты-пролетарии о войне». В ней, в частности, утверждалось, что поэту-пролетарию «нелегко охватить войну воображением»5, т.е. дать своим мыслям художественное воплощение, найти для нее новые образы. К теме фронта поэт из народа подходит неохотно. Если же он начинает писать о войне как таковой, то зачастую выходит такая же «мертвая риторика», как у Брюсова и Сологуба. Поэтому, по мнению Клейнборта, писатели-рабочие должны не подражать большим поэтам, а писать о том, что они знают, с чем сталкиваются в повседневной жизни. Ниже мы рассмотрим два примера творчества писателей из народа, причем таких писателей, которые вполне подходили под определение «писателей-пролетариев», и постараемся вскрыть специфику этого творчества, а также механизмы освоения - и остранения - повседневности.
Филипп Шкулев, поэт-рабочий (по происхождению крестьянин), автор стихотворения, ставшего известной песней «Мы кузнецы, и дух наш молод», во время войны редактировал ряд патриотических «одноразовых» журналов и альманахов: «Удаль», «Молодая удаль», «Шрапнель» (все - 1914), «Война и народ. Юмористический и сатирический альманах» (1915) и др.6, где были помещены всевозможные частушки и юмористические рассказы в основном «ура-патриотического» содержания. Последний альманах, «Война и народ», был выпущен в период Великого поста, по- этому в нем всячески обыгрывалась тема грибов:
Угостили русские
Ловко нас «грибами»:
Еле даже кайзер убежал с усами.
Немцы упираются Лезут на дыбы, Но от русских валятся Точно как грибы7.
Отметим, что тематика, связанная как с поглощением пищи, так и с ее извержением, вообще характерна для этого корпуса текстов. Так, Цехновицер приводит следующий куплет:
У России, у сударки, Есть хорошие подарки! Напоим тебя мы квасом -«Караул» завоешь басом... А накормим если кашей -Не расстанешься с парашей8.
(Ср. в поэме Шкулева «Вильгельм в аду»: «От страха у Вильгельма испортились штаны»).
Помимо альманахов в этот период Филиппом Шкулевым была выпущена поэма «Вильгельм в аду» с длинным подзаголовком: «Рассказ о том, как кайзер Вильгельм в ад попал, где своих мародеров сынков увидал, а с ними душегубов-франтов прусских лейтенантов, затем из Ольденбурга фельдмаршала Гинденбурга, потом массу немцев-чушек толстобрюхих как хрюшек, дальше своего носатого союзника Султана и как получал подзатыльники от сатаны-шайтана; как горячую смолу ел, на гвоздях сидел, в котле кипел и проч.». Поэма начинается с того, что Вильгельм ложится спать, ему является черт, просит его пожаловать в ад, вынимает душу Дальше черти возят его по аду, показывают, что «котлы везде набиты / Одной-то немчурой»9. Причем Сатана говорит, что «его черти добрее», чем немецкие генералы, офицеры, интенданты и лейтенанты. Как видим, Шкулев обращается к старому и традиционному литературному сюжету «путешествия на тот свет»; что касается чертей и сатаны, это та христианская топика, которую эксплуатировали все, от «лубочных» авторов до писателей-модернистов.
Характерно, что после Февральской революции Шкулев выпускает поэму с похожим названием «Николай в аду: Рассказ о том, как Николай Романов в ад попал, где Распутина Гришку увидал». Если сопоставить две эти поэмы, можно увидеть, что они во многом идентичны и иногда просто имя Вильгельм (или титул кайзер) заменяется на Ника или Николай. Если Вильгельм встречал в аду немецких военных и союзников, то Николай видит мучающихся в котлах министров, а также Распутина. Сравним:
«Вильгельм в аду»: Протер Вильгельм глазищи, И видит первый сорт: Пред ним оскалив зубы, Стоит огромный черт10.
«Николай в аду»:
Глаза протер тут Ника И видит первый сорт: Пред ним, оскалив зубы, Стоит лохматый черт11.
«Вильгельм в аду»:
У нас ведь не в Берлине Ты не услышишь «хох», Скорее сам орать ты От боли будешь «ох»12!
«Николай в аду»: У нас ведь не услышишь Ты возгласов «ура», Что там тебе кричали Шпики и детвора13.
Надо сказать, что такой поворот, связанный с февральской революцией, наблюдался не только у поэтов из народа. Так, Сергей Каблуков записал в дневнике 25 июля 1917 г: «Сергей Городецкий, написавший “Сретение царя”, чуть ли не переделывает его в “Сретение Церетели”, и даже мой Мандельштам продал свой пацифистский «Зверинец» по 1 рублю за строку в “Новую жизнь”, успев при прежнем режиме - у Донона прочесть его светлейшему князю Волконскому, явному другу Б.В. Штюрмера. Так-то меняются времена»14. Об авторах популярных брошюр, переключившихся после Февраля на «новые» темы см. также работу Б. Колоницкого15.
Другой автор, о котором стоит рассказать, это Иван Герасимов, поэт-самоучка, также по происхождению крестьянин, работавший вагоновожатым в Московском трамвайном парке Петербурга. Его сборники выходили в 1915, 1916 и 1917 гг, причем выдерживали до 7 изданий; в 1916 г. вышел сборник в 3-х частях. В сборнике 1916 г. автор обращается к читателю с благодарностью - благодарит народ за то, что брошюра его хорошо раскупается. Если биография Шкулева известна, то о Герасимове мы знаем только то, что он пишет о себе в своих произведениях: он сообщает о своей семье, о женитьбе, о работе в трамвайном парке. Не имея реальных биографических сведений об авторе, соблазнительно было бы предположить, что это фигура фиктивная, - настолько «удачно» его стихи о войне соотносятся с официальной позицией и с официальным представлением о том, что должен чувствовать народ. Любопытно, что одно из стихотворений, которое мы встречаем в сборнике Герасимова («С каждым днем и каждым часом / Все продукты дорожают, / Но с Сенной торговцы мясом / Прямо совести не знают»), Цехновицер приводит в качестве стихотворения по- эта-пролетария, слесаря Ивана Логинова16. Здесь мы либо имеем дело с «фольклором» (автором стихотворения был «аноним» из народа, и один из поэтов приписал его себе), либо четверостишие было приписано Ивану Герасимову издателями.
Итак, значительная часть стихов, помещенных в сборниках Герасимова, посвящена войне. Хотя выпуск книг, очевидно, должен был продемонстрировать патриотические настроения народа, одному из сборников предпослано уведомление от канцелярии Императорского двора - о том, что ходатайство о посвящении императору одного из стихотворений отклонено. Это стихотворение начинается так:
Предвечный Боже Всемогущий Ниспошли силу с небеси Царю Державному России У нас на матушке Руси17.
Творчество Герасимова с его верноподданичеством оказывается своего рода неполной рифмой к явлению первых самоучек двадцатых годов XIX в., посвящавших свои произведения императору и членам его семьи (например, Федора Слепушкина). Но если те поощрялись открыто, в случае с Герасимовым косвенным свидетельством поощрения могут быть лишь многочисленные переиздания его книг.
Надо заметить, что тематический диапазон Герасимова достаточно широк. Он пишет и о том, что видит непосредственно, и о том, что ему рассказывают; многие события он пытается осмыслить в мифологическом ключе - и тогда появляются Адам и Ева, Ирод и младенцы; также поэт апеллирует к историческим событиям, вспоминая Наполеона, Петра, Кузьму Минина и т.д. Важна для него актуальность: даты написания стихов часто проставлены над стихотворениями. Если говорить о жанровых определениях, встречаются «Песни» (так, в 1915 г. Герасимов посвящает песни всем державам-союзницам: «Песнь о Франции, союзнице нашей», «Песня Британии ныне нашей союзницы», «Песнь Сербии»), «Рассказы» (например, «Рассказ солдатика»), «Письма», а также две поэмы - «Кровавый кайзер, или Война народов» и «Грехопадение первых людей». Чаще всего Герасимов использует традиционные размеры и перекрестную рифму, причем ритм может нарушаться; как и для многих самоучек, именно рифма, очевидно, служит для него маркером поэзии.
Кроме рассказов очевидцев и собственных непосредственных впечатлений, материалом для «актуальных» стихов Герасимову служат газеты и слухи, причем он, очевидно, не делает различия между ними. Так, в стихотворении «Из газет» он пишет:
Газеты жужжат точно мухи Опять новые слухи18.
Газетный язык соединяется с языком народной литературы. В сборнике 1915 г. помещено «Мое воззвание к народу русскому» (ср. Воззвание Верховного Главнокомандующего Русскому народу, которое было опубликовано в газетах 5 августа 1914 г), написанное 5 ноября 1914 г. Мотивы и интонации в нем отсылают не только к фольклору, но и к стихотворениям 36

А.В. Кольцова, пользовавшимся популярностью у писателей-самоучек:
Русский народ, о великий народ Пробудись ты от сна, погляди ты кругом19.
В то же время Герасимов адаптирует и «высокую» литературу Так, в поэме «Кровавый кайзер» следующий пассаж:
И спят усачи фатерлянда
В пустынях, где льется Ефрат
В могилах под грозным Верденом, На топких путях в Петроград20
явно отсылает к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Воздушный корабль». Ср. у Лермонтова: «Но спят усачи-гренадеры - / В равнине, где Эльба шумит, / Под снегом холодной России, / Под знойным песком пирамид».
Поскольку сборник дозволен цензурой, никаких популярных в народе идей о предательстве царя и царицы-немки мы не встретим вплоть до 1917 г. Между тем, информация о царе-предателе - именно на уровне слухов - стала циркулировать в народе уже весной 1915 г. после серии поражений русских войск21. У Герасимова, как уже было сказано, все стихи в основном соотносятся с официальной линией; «внутренний немец» появляется в них - но пока еще как помещик и капиталист. В том же «Воззвании...»:
Нет, враг силен и хитер Он в России жил, Глубоко коренья в землю он пустил. Высасывал соки из земли родной, Возил что попало к себе он домой. В России великой всюду жил у нас, На долгие годы он всего запас, Теперь обнажил меч острый на нас22.
Мысль о том, что немец глубоко пустил корни в России, прежде чем пошел на нее войной, прослеживается в стихотворении «Немецкая культура и русская натура», написанном в октябре 1915 г, где она сочетается с фольклорными мотивами:
Как искусственно хитра Немецкая культура, Как вынослива крепка Русская натура.
По всей матушке Руси Немцы расселялись Их искусство и планы Всюду принимались. Заселяли все они Фабрики, заводы

Волновали там они Русские народы23.
Далее со ссылкой на газеты рассказывается, что немец на заводах сварил особый клей, которым отравил работавший там народ, в связи с чем Герасимов проводит параллель с войной:
... .Заготовил он всего
В свободные годы, Теперь калечит он повсюду Безвинные народы.
Далее немцы сравниваются с хитрой лисой, а русские - с медведем:
Вот как хитрая леса Медведя разбудила, Смотри теперь она сама В капкан и угодила24.
Значительная часть событий, упоминаемых в газетах, попадает в стихи Герасимова, но «интерпретируется» им на свой лад или переводится на язык улицы. Так, в одном из стихотворений встречается «злодей Мясоед» (то есть повешенный весной 1915 г. по ложному обвинению в шпионаже полковник С.Н. Мясоедов).
Кроме фольклора, газеты и слухов Герасимов обращается к истории своих личных наблюдений, к собственным приметам. В стихотворении 1915 г. «Появления летевшей стрекозы» он рассказывает, что в мае 1914 г. в Петербурге видел много стрекоз, сравнивая их с аэропланами. Таким образом, их нашествие оказывается предвестием войны, когда действительно стали использовать боевые аэропланы (как подсказал нам С.Ю. Неклюдов, в фольклористике подобные описания «пророческих» видений и снов носят название «технической эсхатологии»).
Герои наши говорят, Где они сражались Аэропланы всюду там Стаями взвивались. <... Вот какая у меня Друзья есть примета Что я видел саранчу В четырнадцатое лето. Да ведь многие из вас Саранчу видали, Но немногие из вас За ней наблюдали25.
В 1917 г. выходит новый сборник Герасимова под шапкой «Новая народная книга на темы настоящего времени». Сборник открывается поэмой «Кровавый кайзер, или Война народов». Герасимов приписывает поэму своему брату; можно предположить, однако, что поэма все же принадлежит ему самому, но он атрибутирует ее брату, т.к. после февраля видит для себя более актуальные темы, в частности революцию, политику Милюкова и Керенского (об этом и повествуют стихотворения сборника, следующие за поэмой). Начинается поэма обращением к Музе; затем рассказывается, как демон советует кайзеру захватить Европу, причем оказывается, что кайзер и без демона давно готов к войне. Далее в поэме зарифмованы почти все события войны, почти все битвы, например:
Поспешно они отступали, Мы взяли Львов и Галич, Когда же в России узнали, То подняли радостный клич26.
Герасимовым осуждаются предатели (как, в частности, «изменник Мясоедов»), вспоминаются подлинные герои-патриоты - князь Пожарский, Петр, Кузьма Минин. Заканчивается поэма растерянностью кайзера после Брусиловского прорыва и пожеланием, чтобы кайзер был сослан на остров и там «издох», как сто лет назад там умер другой кумир (имеется в виду, конечно, Наполеон. Такое же пожелание высказывается и в другом стихотворении Герасимова - «Пожар Европы»), Заметим, что в стихотворении «Песнь Франции, союзнице нашей» Наполеон упомянут в положительном контексте:
Страна Франция велика, Уже славится век свой Она сражается доныне Наполеоновскою рукой27.
В поэме «Грехопадения первых людей» Герасимов уже осуждает царя за войну:
Народ увидел всю неправду, Что войны не виден край, Залила кровью поля, реки, Затоплен весь созданный рай28.
Народ в поэме изгоняет метлой из рая Николая и Алису (первых людей), которые блаженствовали в раю, причем именно царица, подобно Еве, первая вкусила запретный плод (очевидно, теперь пришло время вспомнить ее нерусское происхождение):
И Гессенская Алиса
Вкусила запрещенный плод, Николая уговорила Истреблять чтобы народ.
И далее:
Алиса, мать и все министры, Буржуазный высший слой С Николаем во едино
Войну открыли страшный бой. .. .Разин сделал договоры, Завлек союзных разных стран, Народ губили беспощадно, Набивали свой карман.
Народ восстал против насилья, Метлу грязную связал, Ей из рая Николая За вороты вон прогнал29.
Хотя в оба сборника 1917 г. входят и старые «патриотические» стихи, Герасимов приветствует февральскую революцию; более того, он пишет «Объяснение», извиняясь, что раньше упоминал царя и царизм, и поясняет, что Россия - «царство всего народа».
Помимо «грехопадения первых людей», еще один «миф», который он создает на основе библейского рассказа, - это миф об истребленных Иродом младенцах - по мнению Герасимова, это «те люди зарождались, которые видели несправедливость Ирода и жаждали правды. <.. .> Эти младенцы весь наш великий народ христианский, который себя добровольно отдавал на поругание несправедливому и безжалостному правительству»30.
Таким образом, в творчестве Герасимова можно увидеть соединение газетного языка, фольклора, произведений «большой» литературы и своеобразной интерпретации известных мифологических сюжетов, применения их для осмысления актуальных событий. В целом его сборники являются бесценным материалом для изучения массового сознания соответствующей эпохи.
Если рассматривать публикации народной поэзии периода войны, фронтовая тематика присутствует в основном в «фольклорных», анонимных текстах. При этом тема тыла и городской повседневности, о которой советовал писать Клейнборт, очевидно, кажется авторам-самоучкам слишком узкой и неинтересной. Яркий пример тому - творчество И. Герасимова, вводящего в свои тексты то эсхатологические, то мифологические мотивы, а то и просто творящего новую мифологию. «Проза жизни» в представлении Герасимова непременно должна обрамляться патетическими размышлениями. Курьезный случай соединения низкого и высокого планов - стихотворение «Мечта человека», имеющее «философский» зачин:
Человечество трепещет, Точно рыбица об лед, И к брегам оно стремится, Ищет жизненный исход. <.. > И далее:
На все окинешь простым взглядом Всюду грязные дела, Вот картофель поморожен -Или мясо погнило.
То сиврюга co зловоньем На вокзалы приплыла <.. > Масло, сыр, продуктов разных И возможных разных птиц И не мало тухлых яиц Приставляют до столиц. За последнее уже время Везут какой-то чепухи Лишь для лакомства в столице Фрукты,яблоки, орехи. Знать задумали злодеи Опять холеру развести. Все гноят, морозят, гадят Гнилья в столицу привезти. Всюду скорби, всюду горе В нашем жизненном пути, Где же совесть, где же правда, Как ее, друзья, найти31.
В статье 1916 г. «Поэты-пролетарии» Лев Клейнборт упоминает Герасимова как стоящего среди пролетарских поэтов особняком, говорит о его творчестве как о «тупом убожестве» и называет его «дитятей природы»32. При этом Клейнборт рассматривает Герасимова в одном ряду с Клюевым и Есениным (которых также называет поэтами-пролетариями), что кажется глубоко ошибочным: рассматривать творчество Герасимова следует, по крайней мере, в контексте массовой словесности.
Изучение народного творчества периода Первой мировой войны осложняется еще и существованием в ту пору жесткой цензуры: обращаясь к отдельным публикациям и сборникам, мы, по необходимости, имеем дело только с «разрешенными» произведениями. «Антивоенная» тематика прорывается в них лишь иногда такими традиционными для литературы и фольклора мотивами, как, например, плач по ушедшему на фронт брату или сыну С другой стороны, в советское время «непроходными» становятся уже патриотические стихи «поэтов из народа»; предпочтение отдается теме ужасов казарменного быта33.
-
1 Неклюдов С.Ю. От составителя // «Наивная литература»: исследования и тексты. М., 2001. С. 4-21.
-
2 Современная война в русской поэзии. Пг, 1915. С. 259.
-
3 Цехновицер О. Литература и мировая война 1914-1918. М., 1938. С. 243.
-
4 Цехновицер О. Литература и мировая война 1914-1918. М., 1938. С. 393.
-
5 Клейнборт Л. Поэты-пролетарии о войне // Современный мир. 1916. № 3. С. 102.
-
6 Поселягин Н.В. Шкулев Филипп Степанович // Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. Т. 6. (В печати).
-
7 Война и народ. Юмористический и сатирический альманах. Пг, 1915. С. 2.
-
8 Цехновицер О. Литература и мировая война 1914-1918. М., 1938. С. 243.
-
9 Злой Сатир [Ф. Шкулев]. Вильгельм в аду. М., 1915. С. 13.
-
10 Злой Сатир [Ф. Шкулев]. Вильгельм в аду. М., 1915. С. 3.
-
11 Шкулев Ф. Николай в аду: рассказ о том, как Николай Романов в ад попал, где Распутина Гришку увидал. М., 1917. С. 4.
-
12 Злой Сатир [Ф. Шкулев]. Вильгельм в аду: рассказ о том, как кайзер Вильгельм в ад попал... М., 1915. С. 6.
-
13 Шкулев Ф. Николай в аду: рассказ о том, как Николай Романов в ад попал, где Распутина Гришку увидал. М., 1917. С. 6.
-
14 Цит. по: Мандельштам О. Камень. Л., 1990. С. 257.
-
15 Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. С. 577.
-
16 Цехновицер О. Литература и мировая война 1914-1918. М., 1938. С. 364.
-
17 Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Ч. 1. Пг, 1916. С. 1.
-
18 Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Ч. 2. Пг, 1916. С. 72.
-
19 Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Ч. 1. Пг, 1915. С. 7.
-
20 Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Поэма Кровавый кайзер. Или Война народов. Ч. 1. Пг, 1917. С. 17.
-
21 Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. С. 231-234.
-
22 Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Ч. 1. Пг, 1915. С. 7.
-
23 Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде Ч. 2. Пг, 1916. С. 28.
-
24 Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде Ч. 2. Пг, 1916. С. 29-30.
-
25 Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Ч. 2. Пг, 1916. С. 26.
-
26 Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Поэма Кровавый кайзер. Или Война народов. Ч. 1. Пг, 1917. С. И.
-
27 Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Ч. 1.Пг, 1915. С. 23.
-
28 Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Ч. 2. Сборник стихотворений революционного движения, первых людей грехопадения и городские порядки. Пг, 1917. С. И.
-
29 Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Ч. 2. Сборник стихотворений революционного движения, первых людей грехопадения и город-

ские порядки. Пг, 1917. С. 10-11.
-
30 Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Поэма Кровавый кайзер. Или Война народов. Ч. 1. Пг, 1917. С. 1.
-
31 Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Поэма Кровавый кайзер. Или Война народов. Ч. 1. Пг, 1917. С. 17-18.
-
32 Клейнборт Л. Поэты-пролетарии о войне // Современный мир. 1916. № 3. С. 160.
-
33 Современные рабоче-крестьянские поэты в образцах и автобиографиях с портретами. Иваново-Вознесенск, 1925.
Список литературы Первая мировая война в текстах писателей из народа
- Неклюдов С.Ю. От составителя//«Наивная литература»: исследования и тексты. М., 2001. С. 4-21
- Современная война в русской поэзии. Пг., 1915. С. 259
- Цехновицер О. Литература и мировая война 1914-1918. М., 1938. С. 243
- Цехновицер О. Литература и мировая война 1914-1918. М., 1938. С. 393
- Клейнборт Л. Поэты-пролетарии о войне//Современный мир. 1916. № 3. С. 102
- Поселягин Н.В. Шкулев Филипп Степанович//Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. Т. 6. (В печати)
- Война и народ. Юмористический и сатирический альманах. Пг., 1915. С. 2
- Цехновицер О. Литература и мировая война 1914-1918. М., 1938. С. 243
- Злой Сатир . Вильгельм в аду. М., 1915. С. 13
- Злой Сатир . Вильгельм в аду. М., 1915. С. 3
- Шкулев Ф. Николай в аду: рассказ о том, как Николай Романов в ад попал, где Распутина Гришку увидал. М., 1917. С. 4
- Злой Сатир . Вильгельм в аду: рассказ о том, как кайзер Вильгельм в ад попал… М., 1915. С. 6
- Шкулев Ф. Николай в аду: рассказ о том, как Николай Романов в ад попал, где Распутина Гришку увидал. М., 1917. С. 6
- Мандельштам О. Камень. Л., 1990. С. 257
- Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. С. 577
- Цехновицер О. Литература и мировая война 1914-1918. М., 1938. С. 364
- Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Ч. 1. Пг., 1916. С. 1
- Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Ч. 2. Пг., 1916. С. 72
- Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Ч. 1. Пг., 1915. С. 7
- Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Поэма Кровавый кайзер. Или Война народов. Ч. 1. Пг., 1917. С. 17
- Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. С. 231-234
- Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде. Ч. 1. Пг., 1915. С. 7
- Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде Ч. 2. Пг., 1916. С. 28
- Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде Ч. 2. Пг., 1916. С. 29-30
- Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Ч. 2. Пг., 1916. С. 26
- Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Поэма Кровавый кайзер. Или Война народов. Ч. 1. Пг., 1917. С. 11
- Герасимов И. Сборник стихотворений и рассказов крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Ч. 1. Пг., 1915. С. 23
- Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Ч. 2. Сборник стихотворений революционного движения, первых людей грехопадения и городские порядки. Пг., 1917. С. 11
- Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Ч. 2. Сборник стихотворений революционного движения, первых людей грехопадения и городские порядки. Пг., 1917. С. 10-11
- Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Поэма Кровавый кайзер. Или Война народов. Ч. 1. Пг., 1917. С. 1
- Герасимов И. Сборник стихотворений крестьянина-самоучки вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде И.Д. Герасимова. Поэма Кровавый кайзер. Или Война народов. Ч. 1. Пг., 1917. С. 17-18
- Клейнборт Л. Поэты-пролетарии о войне//Современный мир. 1916. № 3. С. 160
- Современные рабоче-крестьянские поэты в образцах и автобиографиях с портретами. Иваново-Вознесенск, 1925