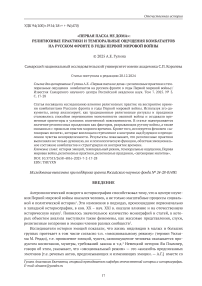«Первая пасха не дома»: религиозные практики и темпоральные ощущения комбатантов на русском фронте в годы Первой мировой войны
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию влияния религиозных практик на восприятие времени комбатантами Русского фронта в годы Первой мировой войны. Используя эго-документы, автор анализирует, как традиционные религиозные ритуалы и праздники становились способом переживания монотонности окопной войны и создавали временные ориентиры в условиях измененной повседневности. В статье подчеркивается значение религиозных праздников как факторов, разрывающих рутину войны, а также связанных с прошлым опытом мирного времени. Кроме того, исследуется феномен «заговорных молитв», которые воплощали стремление к контролю над будущим и преодолению чувства неопределенности. Результаты показывают, что религиозные практики выполняли не только духовную, но и психологическую функцию, облегчая эмоциональное состояние комбатантов и структурируя их восприятие времени.
История эмоций, темпоральный режим, темпоральные ощущения, Первая мировая война, религиозные практики, религиозные праздники, «заговорные молитвы»
Короткий адрес: https://sciup.org/148331446
IDR: 148331446 | УДК: 94(100)»1914/18»+ + 94(470) | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-2-17-28
Текст научной статьи «Первая пасха не дома»: религиозные практики и темпоральные ощущения комбатантов на русском фронте в годы Первой мировой войны
Антропологический поворот в историографии способствовал тому, что в центре изучения Первой мировой войны оказался человек, а не только масштабные процессы социальной и политической истории1. Эти изменения в подходах, произошедшие первоначально в западной историографии, в кон. XX – нач. XXI в. оказали влияние и на отечественную историческую науку2. Появилось значительное количество монографий и статей, в которых объектом анализа выступили такие феномены, как массовые представления, слухи, религиозные воззрения и эмоции членов разных сообществ3.
Исследователи истории эмоций показали, что жизнь индивидов в малых и больших группах протекает в том числе согласно т.н. «эмоциональному режиму» (термин Уильяма М. Редди), т.е. проявление эмоций, чувств, самоощущение человека оказывается продуктом воспитания, муштры, требований закона и т.д.4 Немецкий историк Ян Плампер, говоря об этом, указывает, что «эмоциональный режим» — это «ансамбль предписанных эмотивов [т.е. речевых актов, предписывающих и изменяющих эмоции. — А.Г.] вместе со
связанными с ними ритуалами и другими символическими практиками», а индивид обычно маневрирует между разными объектами, на которые ориентированы эмоции, причем степень свободы этого маневра указывает на степень жесткости «эмоционального режима» в обществе5. Особенно ценным, на наш взгляд, становится в этой связи наблюдение В.Б. Аксенова, что обращение к истории эмоций очень важно для описания и изучения социально-политических изменений и конфликтов (т.е. смены «эмоционального режима»), произошедших в России как на фронтах Первой мировой войны, так и в тылу6.
Особое место в истории эмоций в последнее десятилетие занимает изучение переживаний времени (на уровне индивида и общества, это касается, например, ощущения последним смены эпох)7. В том числе утверждается, что Первая мировая война являлась знаковым событием, которое оказало сильное влияние на «темпоральные ощущения» людей, заставив их пересмотреть скорость работы (например, военных операций, оказания медицинской помощи, транспортировки грузов) и переосмыслить на фоне постоянно меняющих свой темп военно-политических процессов течение собственной жизни8.
В частности, в рамках данной проблематики необходимо выделить подход французского историка Николя Бопре (Nicolas Beaupré)9. Он обратил внимание на то, что позиционный характер Первой мировой войны влиял на специфическое переживание времени комбатантами: война ощущалась участниками боевых действий как монотонная и статичная, но при этом вырывала людей из их привычной жизненной рутины и фактически ставила под угрозу их будущее. И этот измененный опыт повседневности, который был пронизан страхом и ожиданием смерти, оказал сильное негативное влияние на солдат, породив специфическую форму депрессии. В связи с этим важным компенсаторным механизмом для психики становились элементы, в которых создавалось ощущение контроля над временем . Это могли быть письма, посылки, отпуска и увольнительные, которые Н. Бопре именует «маленькими ожиданиями». Солдаты коротали время в ожидании этих радостей жизни10. По-видимому, такая ситуация была характерна для комбатантов на всех фронтах и во всех армиях. Так, о специфическом переживании времени на передовой, не упоминая, впрочем, о «темпоральных режимах» или «темпоральных ощущениях», и особенном внимании российских солдат и офицеров к событиям, нарушавшим монотонность их боевой жизни, пишет Е.С. Сенявская, анализируя повседневность отечественной армии в основных внешних войнах России и СССР в XX веке11.
Проблемой данного исследования является изучение религиозных практик комбатантов в связи с их влиянием на темпоральные ощущения. Под темпоральными ощущениями мы понимаем ощущения, связанные с восприятием времени, скоростью его течения; с отношением к таким временным категориям, как прошлое, настоящее и будущее.
В основу исследования легли эго-документы — дневники, воспоминания, письма участников войны. Именно в источниках личного происхождения наиболее ярко представлены размышления людей о своих чувствах, эмоциях и ощущениях. Кроме того, Н. Бопре подчеркивает, что именно письменные практики комбатантов становились для них способом реконфигурации времени войны, преодоления цезуры, разрыва между прошлым и будущим, восстановления связи времен, которую разрушали сражения и окопный быт12.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Выделяя темпоральные особенности религиозных практик на фронте, мы отводим наиболее значимое место религиозным праздникам как событиям, которые, с одной стороны, нарушали привычную повседневную рутину фронта, повторяемость ежедневных действий, а с другой стороны, являлись маркерами течения времени, разделяя его на боль- шие временные отрезки (от Рождества до Пасхи, от Пасхи до Троицы и снова от Троицы до Рождества) и более мелкие.
В переживаниях комбатантами религиозных праздников заметное место занимало сильное эмоциональное переживание, которое создавало ощущение радости и поддерживало надежды. По мнению русского этнографа первой половины XIX в. И.М. Снегирева, праздник вообще есть «антитеза трудовых будней и проявление свободной жизни»13. Иными словами, праздник противостоит рутине повседневности. Таким образом, праздник – это определенный период свободного времени, который отличается чем-то выделяющимся из потока других событий14.
В повседневной жизни русских крестьян религиозные праздники играли огромную роль, причем их важность объяснялась не только почитанием святых, но и особенностями религиозного сознания земледельческого населения. Кроме того, зависимость крестьян от природы наделяла православные праздники языческими чертами, связывая канонические традиции с суевериями и обрядами15. Сохранение большого влияния православных праздников на быт и привычки крестьян в годы Первой мировой войны демонстрируют дневниковые записи тотемского крестьянина А.А. Замараева, который был грамотным и вел дневниковые записи с 1906 по 1922 г. В них прослеживается следующая тенденция: ключевой характеристикой дня помимо погодных условий являлось наличие религиозного праздника («Страстная суббота. Утром был в заутрени и обедни. Причащался»; «Пасха святого Христа, воскресенье. <…> Провели весело, все трезвыя»; «Четвертый день Пасхи. Ходил в монастырь с Лидией»16.)
Значительная часть русской армии Первой мировой войны состояла из бывших крестьян, которые перенесли с полей пахотных на поля сражений свои привычки и представления, поэтому мы считаем важным смотреть на темпоральные переживания солдат через призму крестьянского менталитета. Как показывает А.Б. Асташов, подавляющее большинство армии составляли члены крестьянского и мелкотоварного традиционалистского хозяйства (84–88 % от общего состава)17. На наш взгляд, попадая в новые, тяжелейшие условия войны, крестьяне не переставали придерживаться праздничной христианской культуры. Тем более в военных кругах Российской империи традиционно отмечались главные христианские праздники18.
Многочисленные письма с фронта запечатлели свидетельства о том, что комбатанты отмечали православные праздники – Пасху и Рождество Христово. Интересно, что во многих письмах были запечатлены случаи братаниия между солдатами воюющих сторон во время христианских праздников19. Эта христианская практика по своей природе противостояла войне, отменяла войну на время праздника, возвращала «нормальность» мирной жизни в «экстремальное» время войны.
Письма, написанные солдатами в дни христианских праздников, зачастую начинались с упоминания таких случаев стихийного примирения: «В пасхальную ночь немцы из своих окопов стали кричать по-русски «Христос Воскресе»20; «Ночь пасхальная у нас была светлая, лунная»21; «На первый день Пасхи когда мы уже разговелись отдохнули немного <…>»22; «На первый день Св. Пасхи у нас тихо было стрельбы никакой не было ни наши не стреляли не германцы»23.
В письмах домой солдаты демонстрируют, что важным для них было и само соблюдение рутинных праздничных ритуалов, перемещавшихся из довоенного времени в окопную повседневность: «…Буду встречать Пасху красную. Одно утешение»; «Праздники проводили в окопах, первый день Пасхи бои совсем прекратились <…>. Как то чудно было»24; «Дале у нас была елка музыка песни пляска одним словом провели праздник весело выдавали подарки, подарки были очень хорошие конфеты папиросы и еще кой что много давали пом- ногу, хватило есть на 3 дня»25; «На первый день мы все ходили в церковь нам на праздник выдавали по 2 фун. белого хлеба и по 1/4 колбасы и по 1 штук конфеток и пряников давали елку наряжали. На первый день Рождества у нас играла духовая музыка, так что очень весело и хорошо провели время»26; «Мы будем праздники справлять на позиции и в окопах, мы уж привыкли к этой жизни. Гармония и бубен есть, кто поиграет, а кто трепака в окопах задает, вот и смех у нас и веселье <…>»27; «Время проводим можно сказать весело, играем, танцуем, и даже с офицерами в городки играем»28.
Как видно из этих цитат, христианский праздник маркируется солдатами как «утешение», «чудо», «веселье», «хорошее времяпровождение» – категории, в которых вряд ли возможно было бы описание обычной окопной повседневности. Хорошо заметно также, что для солдат праздники с их приподнятым настроением, требуемыми ритуалами (от елки до подарков) и игровыми практиками – это разрыв в рутине, преодоление скуки позиционной войны. Такое многослойное значение праздника управляло действиями комбатантов не только в сам праздничный день, но и определяло их темпоральные переживания до и после праздника. Как видно из писем, которые они пишут родным, комбатанты находились в трепетном ожидании праздника, в предвосхищении: «часов в 10 утра этого дня нам сообщили, что сейчас привезут из штаба полка раздать присланные нам из Москвы рождественские подарки, и будет раздавать сам наш полковник. Все были в ожидании»29.
Переживание праздника как разрыва во времени войны даже прямо артикулируется в солдатских разговорах. В частности, сестра милосердия Л.Д. Духовская записала такое замечание одного солдата с австрийского фронта: «…Спешу Вас уведомить, что дела у нас идут Слава Богу. Ждем и мы здесь Пасху, но думаем, что мы будем проводить этот день, как в театре антракт»30. Такая кодировка Пасхи через театральную риторику, подчеркивающая цезуру, перерыв, паузу в разворачивании действия (в данном случае в госпитале), вероятно, отражала восприятие Пасхи как краткого промежутка времени между основными событиями войны.
Следует отметить и амбивалентное значение религиозного праздника как лиминаль-ного события, которое маркирует границы между важными этапами жизни человека. Понятное и уже «освоенное» время до праздника противостояло неизвестности и неопределенности, которые символически увязывались с прохождением «границы» праздника. Такое ощущение непредсказуемости в связи с новыми условиями в приближении религиозного праздника также артикулируется в письмах. «Первая пасха не дома. Как она пройдет?» – вопрошал на страницах своего дневника прапорщик Николай Модестович Брадис31. Отсутствие на праздник традиционных ритуалов, в первую очередь богослужения, могло стать основанием для выражения скуки в письме: «Праздник мы проводили в скучном положении, службы у нас не было»32.
Подтверждение тому, как много значило соблюдение ритуала на праздник, мы находим и в дневниковых записях писаря 8-й роты 1-го Пехотного Ахульчинского полка Александра Степановича Арутюнова: «Сегодня рождество, но для нас проходит как обыкновенный день и скучно» (7 января 1915 г.)33. Интересно, что Александр Степанович описывал в дневнике не только происходящие события, но и большое внимание уделял своим эмоциям и ощущениям. Так, в заметке от 23–24 марта 1915 г. он написал: «Таким образом время все двигалось вперед, понемногу стала приближаться Св. Пасха. <…> В пятницу подпрапорщик нашей роты Мелихов, по делам поехал в Кара-Килису, и я его попросил, что если есть где съестного купить для меня, дабы мог чем-нибудь ознаменовать великий праздник»34. Здесь отчетливо прослеживается мотив ожидания праздника, желание отметить его хотя бы чем-нибудь «съестным». Заметно здесь и сожаление о том, что вся праздничная суета осталась далеко, в городе.
Для многих комбатантов праздники становились поводом для усиления тоски по дому, ощущения разрыва между прошлой, довоенной жизнью и настоящей, острым темпоральным переживанием. «Одно все вспоминают, как в эти дни все радовались в кругу своих семейств и что сейчас родные делают, и в этом духе велись разговоры до вечера», – записал в дневнике А.С. Арутюнов на Рождество 7 января 1915 г.35 Он сильно сожалел, что в дни великих праздников находился далеко от дома: «Вспомним, бывало, как у себя дома приятно встречали этот Великий для всех христиан праздник. Какая идет по городам и селам суета и приготовление, а здесь все это отсутствовало и не было ничего заметно…»36. О схожих чувствах написал прапорщик Н.С. Кузнецов в записи от 6 января 1916 г.: «Итак, завтра Рождество. Это день, который с восторгом, трепетом ждется дома [...], а здесь, как будто это ничего [нет]. Все, Господь, спаси и благослови»37.
Очень эмоционально свою тоску по родине, которая усилилась в рождественскую ночь, описал артиллерист Михаил Сидорович Анисимов в дневнике 7 января 1917 г.: «Погода Яркая Стречаем Рождество Христово уже 3 раз На чужой далекой стороне а слезы Не вольно из глаз лютца Как град вспомнишь просвой родной Край про свою Семю родную где На Хожусь Я и что творитца Семей. Погода Изменилась Ночь Темная»38.
Другой яркий пример можно найти в записках командира батареи О. Козельского, опубликованных издательством Б.А. Суворина еще в 1915 г. Уместно будет дать развернутую цитату из этого текста, замечательно демонстрирующую тот разрыв в переживании времени, который мы видим в эго-документах других участников войны, дополненный однако рассуждениями об этическом оправдании войны из перспективы будущего. Стоит особенно подчеркнуть, что этот текст был напечатан издательством, которое занимало охранительно-консервативную позицию и активно участвовало в формировании официального нарратива войны, что, возможно, и объясняет наличие столь пространных и социально наивных рассуждений о «Высшей Справедливости» в понимании «русского мужика»:
«Сочельник польскаго Рождества. Через две недели и наше русское Рождество. Домой, домой хочется... Мне вспомнился прошлогодний сочельник. Как было весело, мирно и хорошо! Ко мне на праздники приехал брат Степан и впервые тогда увидел в офицерском собрании Шурочку Бахметеву, двоюродную сестру одного из офицеров моей бригады... Все праздники в доме у меня был народ. На третий день устроили деткам елку. Совсем сюрпризом приехал из деревни отец. То-то было радости!.. Минул год и скоро полгода войны. Скольких нет в живых молодых, полных сил и здоровья жизней! А жертвы все приносятся, каждый день, и не видно им конца. И не будет конца, пока не будет у нас полной и окончательной победы. Чем больше крови прольется, чем тяжелей будет нам война, тем она будет только долговременнее, но пардона от нас немец никогда не услышит. Теперь уже всколыхнулась вся русская земля, мужик русский понял, что значит в этой войне стать победителем и побежденным. Ну, а если мужик понял, тогда его нечем уже не свернуть. Да и где же иначе Высшая Справедливость! Ведь если только допустить, что Германия из войны победительницей выйдет, тогда, кроме грубой силы, верить не во что. Тогда один ужас и тьма. Погибнет немець, другого ему исхода нет. Схватка мертвая и окончательная»39
Даже ироничный и скептически настроенный тон дневника корпусного врача Василия Павловича Кравкова содержит описание этой общей для всех комбатантов тоски по дому и довоенной жизни, которая охватывала их на праздники: «Чувствуется влияние наступающих светлых праздников Рождества Христова и сугубая грусть, что находишься вдали от родины, разлученный с своими близкими»40. В примечании к этой записи Василий Павлович записал строки из знаменитого стихотворения А.С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет…»: «Сердце в будущем живет – настоящее уныло...». Хорошо образованный и начитанный врач Кравков кодирует свое отношение к настоящему через литературный канон, черпая в нем образцы эмоциональных реакций.
На наш взгляд, описываемые комбатантами эмоциональные состояния тоски по прошлому и грусти о доме в предпраздничные и праздничные дни на фронте могли быть вызваны когнитивным диссонансом: традиционно праздники задавали радостный эмоциональный тон и сопровождались определенными ритуалами, его задававшими и поддерживавшими, в то время как на фронте, где нарушался привычный порядок жизни, праздники только усиливали переживания разрыва с прошлым и непредсказуемости (если не опасности) будущего. В эти дни особенно остро ощущалась трагичность происходящего: «Дорогая и родная моя сестрица. Я хоть в бою и не участвовал, но слышно нам было сильные и громкие выстрелы, и раздовались жалобные стоны наших товарищей. Родная моя сестрица. Тяжело и больно жаль нам было видеть и слышать такую картину да еще и в добавок на такой день (на Рождество Христово)»41; «…Вот идет уже третий праздник Рождества Христова и войне все конца нет»42.
Таким образом, религиозные христианские праздники играли значительную роль в тяжелейшей рутине комбатантов. Даже в экстраординарных условиях войны комбатанты находились в ожидании грядущих праздников. Они испытывали положительные эмоции, если удавалось отметить праздник, и сожалели, если этого сделать не удавалось. Праздники служили опорными пунктами в бесконечном потоке времени в условиях позиционной войны. Праздники связывали настоящее с прошлым – с традициями, которые формировались с детства, с мирным временем.
МОЛИТВА
Другим важным элементом религиозной культуры, который создавал иллюзию управления временем, ходом событий, служила молитва. По точному замечанию французского психиатра Эжена Минковского, воевавшего на фронтах Первой мировой войны, молитва есть высший уровень надежды и ожидания. Но молящийся человек не только ждет или надеется, он молится43. Причем молящийся человек совершает попытки контроля над неопределенным будущим, он пытается это будущее «заговорить».
В период Первой мировой войны большое распространение получили так называемые «заговорные молитвы» – молитвы, которые нужно было переписывать, пересылать по окопной почте, запоминать и повторять текст и т.д. По мнению В.Б. Аксенова, популярность «заговорных молитв» обусловливалась отторжением официальной религиозности в связи с противоречием между церковной военно-патриотической риторикой и христианской эти-кой44. Ужасы войны породили в комбатантах сомнения по поводу соответствия позиции православной церкви христовым заповедям: «…Вчера ночью у нас было богослужение <…> Наш батя читает Великую Ектенью и просит сил у Бога для победы над врагом. Невольно у меня явилась мысль: враг наш ведь тоже самое просит у бога. Раз уже заработала мысль в известном направлении, то она потекла дальше и дальше. Какая же церковь права. Наша. Почему. Не нарушает ли она заповеди Христа «любите врагов ваших, молитесь за обижающих Вас». Где же и когда церковь молилась за врагов наших, наоборот, она молится о том, чтобы принести зло другому. Гораздо правильней было бы молиться о прекращении этих кровопролитных боев. Я не хочу этим сказать, чтобы мы не должны победить врага, нет, мне хотелось бы выяснить позицию нашей церкви»45. Патриотическая риторика православной церкви противоречила тому, что переживали комбатанты в окопах: «Как мне скучно и грустно что мне одна тоска съедает и как мое положение я уже обдумал все об этой войне что когда ей конец никак видать что наш брат сидит в окопе как какой нибудь зверь в норе я уже проклял эту войну это разве от Бога дано что я убивал и также меня это не от Бога, Бог дал нам жизнь чтобы мы жили друг друга не убивали чтобы помните шестую заповедь»46.
В условиях падения авторитета церкви место официальных религиозных практик заняли альтернативные формы культа. На наш взгляд, популярность «заговорных молитв» могла быть основана также на стремлении повлиять на пугающее неизвестное будущее. В текст «заговорной молитвы», в отличие от канонических христианских молитв, состоящих из блоков «обращение — хвала — просьба — покаяние — итог»47, закладывались три части: «мольба — условие — результат (положительный и отрицательный)». В тексте это выражалось, например, так: мольба — «Господи Иисусе Христе. Тебе молимся, святый Боже, Свя-тый Крепкий Святый бессмертный, помилуй нас. Все люди Твоя спаси нас ради пречистые крови Твоя, помилуй нас и всех людей Твоих избави от всяких мук наших и ныне и присно и во веки веков. Аминь»; условие - «Получивши эту молитву прочтите ее и разберите ее со вниманием. Напишите и разошлите ее 9 лицам которых вы знаете на войне <…>»; положительный результат тех, кто выполнил условие – «Был слышен голос говорящий: Кто молитву эту получит, тот будет спасен от бедствий», «…и на девятый день получите радость сроком на три дня»; отрицательный результат для тех, кто не выполнил условие – «Кто это не сделает Господь подвергнет напасти, как это и было. Один купец богатый получивши эту молитву не обратил на нее внимание и на третий день был убит его любимый сын»48.
Такая упрощенная структура молитвы, безусловно, свойственна народной религиозности. Она позволяла не просто обращаться к Богу, но ожидать конкретный положительный результат. Эта надежда была критически важна в тяжелых условиях окопной войны, которая обнажила непонимание солдатами-крестьянами официальных целей войны и продемонстрировала, что громкий «казенный патриотизм» звучит в основном в тылу, а на фронте нужно искать дополнительные средства защиты, например «заговорные молитвы». Отмечая неоднородность так называемых патриотических «настроений 1914 года», наличие которых основательно закрепилось в современной отечественной историографии, российский историк В.Б. Аксенов показывает, что «отождествление отечества с властью превращало патриотизм в вернопод-данничество», а «чрезмерные усердия услужливых чиновников» по продвижению казенного патриотизма скорее ослабляли патриотические эмоции, чем усиливали их49.
На фронте «патриотический подъем», даже если комбатанты испытывали его в первые дни войны, быстро сменялся опасениями за свою жизнь и даже сомнениями в оправданности ее жертвы: «На войне наверное я умру или же паду за Родину свою. Писал бы, да нет сил уже»50; «…Вы не представляете моего душевного состояния и того ужаса который я переживаю при сознании что может быть еще долго придется вести нам борьбу с коварным немцем, который упорно держится на своем месте. Вся сила, вся энергия моя уже потрачена остыла и охладела. Нет того подъема, как в начале, потому что нечем одушевляться и видя же, что все так туманно вокруг как и на позиции, так и в тылу, мое настроение не исправится, усталость везде дает о себе знать и один только мир может возвратить покой в душе»51.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, комбатанты, перманентно переживающие страх смерти, стремились создать ритуалы, которые дарили иллюзию контроля над временем, т.е. сформировать особый «темпоральный режим», соотносимый с «эмоциональным режимом» войны, в рамках которого они вынуждены были существовать. Религиозные праздники, являвшиеся частью традиционной культуры Российской империи, играли огромную роль в окопной повседневности. Праздники ждали, скрадывая время. Праздники отмечали, тем самым разбавляя монотонную, вязкую рутину войны. Однако праздники усиливали ощущения тоски, боли и апатии, если приходились на трагичные события или если их не удавалось отметить, а также подчеркивали пропасть между прошлой мирной жизнью и настоящим.
Молитва, другой важный религиозный ритуал, в годы Первой мировой войны трансформировалась под влияем окопной религиозности. «Заговорные молитвы» создавали ощущение контроля над ходом событий – благодаря выполнению несложных действий можно было надеяться на божественное благословение.