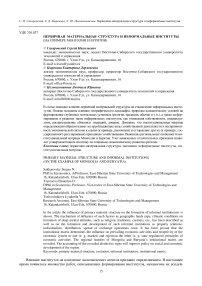Первичная материальная структура и неформальные институты (на примере Монголии и Бурятии)
Автор: Сахаровский Сергей Николаевич, Цыренова Екатерина Доржиевна, Целовальникова Людмила Юрьевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Экономика вопросы теории
Статья в выпуске: 2, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье показано влияние первичной материальной структуры на становление неформальных институтов. Описан механизм влияния географического ландшафта, природно-климатических условий на формирование глубинных ментальных установок (религия, традиции, обычаи и т. п.), а также на формирование и развитие таких неформальных институтов, как отношения собственности, индивидуализм, распространение обменных операций, доверие. Доказано, что институциональная матрица определяющим образом влияет на преобладающие виды хозяйственной деятельности и восприимчивость экономической системы к одним (к примеру, рыночным) и отторжение других (к примеру, государственного регулирования) принципам хозяйствования. Выявлены региональные особенности институциональной матрицы Монголии и Бурятии. Учет выявленных отличительных признаков позволит усовершенствовать политику по социально-экономическому развитию региона.
Первичная материальная структура, эволюция, неформальные институты, институциональная матрица
Короткий адрес: https://sciup.org/148182844
IDR: 148182844 | УДК: 330.837
Текст научной статьи Первичная материальная структура и неформальные институты (на примере Монголии и Бурятии)
Влияние институтов на поведение экономических агентов признано определяющим. В настоящее время появилось множество работ, описывающих формирование институтов, механизмы их воздей- ствия на социально-экономические процессы, предложены способы измерения влияния институтов и на их основе предложены конкретные модели, позволяющие не только объяснять суть процессов, но и прогнозировать. Однако подавляющее большинство работ ограничивается рассмотрением неформальных институтов. Измерению и моделированию процессов воздействия неформальных институтов уделено недостаточное внимание. В то же время именно неформальные институты лежат в основе механизма принятия решения индивидом и любым экономическим агентом. В связи с этим является актуальным построение моделей на основе факторов неформальных институтов. Однако прежде всего необходимо проследить сам процесс формирования неформальных институтов.
Окружающая среда (иногда ее определяют как материальную среду, материально-техническую среду, материальную структуру) определяет характер деятельности человека. Условно ее можно разделить на первичную материальную структуру, которая включает в себя географическое положение, природно-климатические условия, природный ландшафт, и на вторичную, включающую техникотехнологическую структуру. Авторов, прежде всего, интересует влияние первичной материальной структуры на формирование доминирующих видов хозяйственной деятельности человека, его культуры, религии, традиций, обычаев и, таким образом, на определенный образ мыслей и структуру стимулов (неформальные институты) у проживающих на данной территории хозяйствующих субъектов. Это приводит к формированию определенного набора институтов, формированию уникальной институциональной матрицы территории.
Поскольку климатические условия и природный ландшафт очень сильно разнятся от региона к региону, мозаика институциональных матриц весьма разнообразна.
В ходе многовекового исторического развития некоторые из этих матриц (прежде всего, западноевропейская, основанная на развитых рыночных отношениях) оказались более удачливыми и эффективными в плане обеспечения материально-технического роста на основе НТП, другие (большая часть Азии, Африки, обеих Америк) — менее эффективными. Южная Корея, Япония, Гонконг, Тайвань смогли удачно «вживить» отдельные эффективные западно-европейские институты в свою институциональную матрицу. В других странах чужие институты насаждались насильно путем подчинения, а иногда и истребления коренного населения (страны Южной Америки, Северной Америки, Австралия). Есть и такие страны, где постепенно эволюционно происходит процесс дозированного рыночного реформирования (Китай, Индия). А в некоторых до сих пор идет раскачивание то в одну сторону (западно-европейского либерализма), то в другую (возврат к «родным» почвенническим институтам), как, например, в странах бывшего СССР. Таким образом, очевидно, что в разных регионах мира сложились различные по содержанию, структуре и эффективности институциональные матрицы, которые с разной степенью успеха копируют и перенимают эффективные элементы «чужих» матриц.
Многочисленные исследования подтверждают такую зависимость институциональной матрицы того или иного региона от материальной среды обитания. Заданная первоначально почти исключительно природно-климатическими и географическими факторами материальная структура среды обитания затем проявляет себя в закреплении одних и отторжении других методов хозяйствования и технологических укладов.
В то же время известно, что для становления обезличенного обмена, являющегося неотъемлемой предпосылкой развития рыночных отношений, необходимы следующие условия:
-
1) развитие института частной собственности;
-
2) обособленность хозяйствующих субъектов, специализация;
-
3) жизненная философия хозяйствующих субъектов — индивидуализм, стремление к свободе личности, свержение авторитетов;
-
4) высокая плотность населения, частая повторяемость контактов и трансакций;
-
5) стимулы к производительному труду, прибавочная стоимость, товарные излишки.
Как показано во многих исследованиях, набор данных элементов исторически сложился только в последние 200–250 лет лишь на некоторых территориях под влиянием определенной институциональной матрицы. В ходе институциональной конкуренции происходит отбор наиболее эффективных экономических систем и институциональных норм. В настоящее время мы наблюдаем, как элементы рыночного хозяйства внедряются по всему миру, но с разным успехом. Вопрос эффективности экономических систем переходит в плоскость восприимчивости к НПТ того или иного типа хозяйствования. Почему же институты, доказавшие свою эффективность, с таким трудом копируются и пере- нимаются в других странах? Как замечает, например, С. Кирдина: «Со временем материальнотехническая среда все больше определяет пространство возможных организационных и управленческих решений, «задает» институциональные технологии, которые затем, в свою очередь, закрепляют и усиливают свойственные материальной инфраструктуре…» институты [7]. История показывает, что НТП, политические и социальные изменения и в целом человеческая деятельность приводят к изменению структуры социальной матрицы, но не меняет ее основного устройства. Доминирующие институты могут дополняться элементами, заимствованными из другой институциональной матрицы, лишь заполняя некоторые ниши, и эпизодически присутствовать, усиливая систему в отдельные отрезки времени.
Таким образом, при внедрении «чужого» эффективного института меняется структура стимулов, баланс сил и интересов хозяйствующих субъектов, но система отношений может принять совершенно непредсказуемый вид, так как выбор происходит из числа ограниченного набора ранее сформировавшихся норм, весьма отличных от норм оригинала заимствования.
Как замечает Д. Норт, «институты задают структуру стимулов, действующих в обществе, поэтому политические и экономические институты определяют собой характер функционирования экономики. Время же, применительно к развитию экономики и общества, — это особое измерение, процесс человеческого познания, обусловливающий эволюцию институтов. Мировосприятие отдельных людей, групп и сообществ, обусловливающее их выбор, является итогом такого познания, протекающего во времени. Речь при этом идет не о жизни одного человека, поколения или общества, а о длительном процессе накопления опыта, передаваемого из поколения в поколение через культуру и воплощаемого в отдельных индивидуумах, группах и обществах» [8].
В то же время Д. Норт считает, что «не существует никаких гарантий, что эволюция институтов и мировоззренческих систем приведет со временем к экономическому росту…». Некоторые общества он считает застывшими в своей неэффективной институциональной матрице. По мнению Д. Норта, различные общества и цивилизации по-разному решали фундаментальную экономическую проблему ограниченности ресурсов. Далее Д. Норт замечает, что по мере того как культура и местный опыт порождали все более дифференцированные институты и мировоззренческие системы (обеспечивающие выгоды от такой кооперации), вероятность создания институтов, необходимых для развития рыночных отношений, перечисленных выше, оказалась неодинаковой. Проводником мощного влияния прошлого на настоящее и будущее является культура, именно она создает так называемый эффект зависимости от предыдущей траектории развития (path dependence). По его мнению, создаваемая накопленным социальным опытом институциональная структура не всегда бывает адекватна новым задачам. Институты и мировоззренческие системы, характерные для «застывших» обществ, непригодны для решения новых и сложных социальных проблем [8].
В статье сделана попытка анализа влияния первичной материальной структуры региона на формирование неформальных институтов хозяйствующих субъектов (на примере Монголии и Бурятии). Насколько наше общество является «застывшим»? Удалось ли отказаться от норм, сдерживающих развитие? Насколько действенно, с какими побочными эффектами внедряются «передовые» институты и какие причудливые формы при этом они приобретают?
Бурятия и Монголия имеют много общего, начиная с похожих климатических условий и природного ландшафта, родства этносов, общих предков и истории и заканчивая близкими культурой, традициями, обычаями, религией и языком.
Несмотря на соседство по географическому положению и вышеперечисленные схожие черты, Республика Бурятия и Монголия имеют и существенные отличия природно-климатических условий, которые повлияли на формирование различного бытового уклада и соответствующих институтов, что привело к различию в моделях хозяйствования.
Над Монголией большую часть времени стоит антициклон с сухим прозрачным воздухом, который создает идеальные условия для формирования степей с низкорослой травяной растительностью и отсутствием лесных массивов. Зимой здесь выпадает мало снега, а постоянно дующие поземные ветра выдувают и без того незначительный снежный покров. Это позволяет травоядным животным даже в суровых зимних условиях добывать себе корм, раскапывая из-под снега сухую траву. Весной массы влажного воздуха с Тихого океана способствуют росту пастбищ, что обеспечивает животных кормом на весь год. Поэтому, как замечает Л. Гумилев, «… именно на востоке Великой степи сложились благоприятные условия для создания могучих кочевых держав хуннов, тюрок и монголов» [6].
Скотоводство способно обеспечить ресурсами человека только при низкой плотности заселения в отличие от земледелия которое способно прокормить достаточно густонаселенные пространства.
Кроме того, кочевое скотоводство предполагает отношение человека с природой, основанное на гомеостазе, в отличие от западноевропейской позиции, ориентированной на активное преобразование природы.
Гомеостаз требует определенного регулирования роста численности населения. Каковы же были естественные регуляторы численности бурят и монголов? Нужно заметить, что численность кочевников позволяла им долгое время, на протяжении нескольких столетий, находиться в равновесии с природой. Таковым регуляторами могли быть низкая рождаемость или высокая смертность. Исследования К. Д. Басаевой [4] показывают, что у кочевых бурят рождаемость была достаточно высокой, но и смертность в грудном возрасте вплоть до середины ХХ в. была повышенной по сравнению с соседним русским населением. Даже в конце XIX в., когда земледелие уже играло существенную роль в хозяйстве бурят, смертность в грудном возрасте у бурят Иркутской губернии достигала 40–60 %, что существенно превышало аналогичный показатель среди русского населения. Подворная перепись населения Иркутский губернии конца 80-х гг. XIX в. показала, что у бурят численность детей была существенно ниже, чем у русских. Например, численность мальчиков до 14 лет к общему числу мужского населения составляла в то время 29,0 %, а у русских — 36,7 % [4].
Высокая рождаемость и смертность сохранялись вплоть до первой трети ХХ в. Так, по данным Центрального статистического управления Бурят-Монгольской АССР за 1925 г., смертность грудных детей составляла 50 % [5].
Интересно, что уже к середине ХХ в. удалось преодолеть высокую детскую смертность среди бурятского населения. В таких условиях при сохранении высокой рождаемости численность бурят должна была резко возрасти1, однако этого не произошло. Удивительно, но и рождаемость снизилась. Вероятно, это связано с резким повышением образовательного уровня бурятского населения в тот же период2.
Ниже представлена таблица, показывающая влияние первичной материальной структуры на формирование институциональной матрицы региона, ее преимущества и недостатки, ее воздействие на развитие рыночных отношений и современные трансформации.
В отличие от монгольской степи, на юге Восточной Сибири (куда попадает и территория Бурятии) толщина снежного покрова зимой превышает 30 см, преобладают лесостепи, зимой травоядные не могут пастись самостоятельно, требуется заготовка кормов на зиму. Поэтому на данной территории сформировался полуоседлый жизненный уклад. Необходимость зимой переезжать в постоянное жилище — зимник, а летом в юрту на пастбища на большие расстояния с большим количеством скарба (что возможно только объединившись несколькими семьями 30–50 чел.) привела к тому, что родовая община бурятских семей держалась очень крепко не только за ближайших родственников в пределах нуклеарной семьи, но и выходила далеко за ее пределы. Кроме того, регулярные переезды из летника в зимник и обратно были связаны с высоким риском для жизни и имущества. Поэтому связи между близкими родственниками (братья, сестры, двоюродные, троюродные) поддерживались в течение всей жизни. Даже сегодня многие бурятские семьи могут без труда воспроизвести линию своих предков до 7-го колена и далее (также может быть объяснено экзогамией у бурят, подтверждающей родовое строение социума при низкой плотности заселения3). Для западноевропейской традиции характерны близкие отношения только в пределах нуклеарной семьи. В то время как у бурят вплоть до середины ХХ в. существовала традиция передавать своих детей на воспитание сестре или брату, или даже двоюродным родственникам, если, к примеру, те по каким-либо причинам не имели собственных детей. Это свидетельствует о том, что связи между двоюродными родственниками были очень близкими и они жили как одна семья, вели общее домашнее хозяйство. До середины ХХ в. среди бурят не наблюдалось такого явления, как сиротство. Дети не оставались без попечения родите- лей, так как их брали на воспитание родственники. Как замечает одна из старейших этнографов Бурятии К. Д. Басаева: «Обществом не допускалось, чтобы престарелые, калеки, сироты были бездомными и безнадзорными» [4]. По наблюдениям русского писателя и ученого-статистика, исследовавшего Иркутскую губернию в XIX в. Н. М. Астырева: «У бурят нет нищих в том смысле, как культурные россияне понимают это слово: сирота, калека, вдова или немощный старик не бродят у них под окнами, вымаливая кусок хлеба. Эти слабые члены родовой общины содержатся всем родом, переходя из избы в избу, из юрты в юрту, живя в каждой определенное число дней и в каждой являясь равноправным членом семьи, имеющим место у очага, у котла с арсой или чаем, получающим от хозяина кусок мяса такой же величины, как и прочие куски, которые раздаются сыновьям и дочерям…» [1].
Необходимо отметить, что 300–400 лет назад предки бурят жили преимущественно охотой и рыбной ловлей, земледелием не занимались и помимо скотоводства одним из основных источников ресурсов для бурят была загонная (облавная) охота. Загонная охота имела важное значение в жизнеобеспечении бурят вплоть до середины XIX в. Это также можно считать одним из основных факторов формирования соответствующего жизненного уклада. Данный вид охоты был широко распространен на территории современной Бурятии и мог осуществляться в условиях степи и лесостепи только в коллективе 30–50 взрослых мужчин (это 7–12 нуклеарных семей или 80–120 человек, включая женщин и детей), что также способствовало укреплению коллективистских традиций взаимодействия в противоположность индивидуалистической традиции западноевропейской ментальности. Например, М. Н. Хангалов приводит такие сведения: «… количество людей, входивших в состав одной облавной охоты, доходило иногда до нескольких сотен и даже тысяч человек…» [10].
Мальчики с 12 лет прекрасно владели искусством верховой езды и стрельбы из лука, проходили своеобразный обряд инициализации, когда им позволяли принять участие в загонной охоте в качестве наездника. Загонная охота требует четкой слаженности действий, беспрекословного подчинения старшему (командующему охотой), охотничьего (боевого) мастерства от каждого участника. Регулярность таких охот позволяла держать в боевой готовности все мужское население бурят-монгольского этноса. В те обширные пространства, на которых проходила охота, иногда попадали охотничьи или пастбищные угодья4 соседних племен, родов или этносов. В этом случае зачастую происходили конфликты и тогда охота превращалась в военную операцию по захвату чужого имущества (скот, меха прежде всего). Все это способствовало закреплению коллективистской ментальности. Добыча от загонной охоты считалась общей для всех охотников и распределялась главным (тай-ши). Кстати, и в большой патриархальной бурятской семье, в которой насчитывалось до 70–80 членов 4–5 поколений и которая вела единое хозяйство, имела общее имущество от скота до продуктов питания, все ресурсы (вплоть до раздачи пищи «за столом») распределял глава семьи, это способствовало закреплению традиций редистрибуции (централизованного распределения) и патернализма. Косвенным свидетельством патернализма может служить и такой пример. В обычном праве бурят регламентировалось поведение бурят в быту вплоть до весьма зрелого возраста, например, ограничивалось употребление алкоголя до 40 лет, запрещались азартные игры [9]. Невозможно представить, чтобы в то время какой-либо бурят-одиночка или даже отдельная нуклеарная семья вели бы единоличное производительное хозяйство. Все личные устремления каждого индивида, даже самого амбициозного, выросшего в такой среде, не предполагали индивидуального успеха. Весь багаж знаний, накопленных многими поколениями предков, подсказывал, что личный успех может быть достигнут только путем приобретения определенного социального статуса своего рода в жесткой иерархии общественных отношений.
Обобщение данных различных исторических и этнографических источников и проведенное с использованием специальных методик стандартное этнопсихологическое исследование С. Ц. Чимито-вой и З. Б. Бадмаевой [11] показали, что у бурят четко наблюдается готовность подчинения групповым нормам и ценностям. При этом проявляется тенденция к равноправному типу взаимоотношений, взаимодействия и общения, при которой сплачивающей силой становится чувство национальной принадлежности. Характерно в то же время и стремление не допускать дискомфортность в межличностных отношениях, попытки обходить острые углы в групповых контактах. Как показало прове- денное исследование, среди бурят доминируют люди с коллективистическим типом восприятия группы и ее членов.
Необходимо также заметить, что скотоводство, предполагающее существование в гомеостазе с природой, не позволяет получить сколь-нибудь существенный прибавочный продукт для значительной массы населения. Товарные излишки, которыми можно было бы повсеместно обмениваться, в таких масштабах просто отсутствовали. Это сдерживало специализацию.
Кроме того, производственные условия требовали концентрации трудовых ресурсов, вести скотоводческое хозяйство малым количеством работников невыгодно. Вплоть до середины ХIХ в. только крупные хозяйства (до 70–80 человек) становились зажиточными. Поэтому в нашем регионе экономическую выгоду приобретало домашнее хозяйство, которое велось большой нераздельной семьей.
|
Институты, необходимые для формирования развитых рыночных отношений (Западная Европа) |
Институты, сформировавшиеся в Монголии и Бурятии |
|
|
Итак, мы видим, что первичная материальная структура Бурятии и Монголии привела к становлению неформальных институтов, которые препятствовали развитию рыночных отношений.
Список литературы Первичная материальная структура и неформальные институты (на примере Монголии и Бурятии)
- Астырев Н. М. Монголо-буряты Иркутской губернии//Северный вестник. -1890. -№ 12.
- Атанов Н. И., Намжилова Б. Э. Российско-Монгольское сотрудничество в спектре приграничных взаимодействий//Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. -2011.-С. 27-40.
- Атанов Н. И. Приграничное сотрудничество России с Монголией//Регион: Экономика и Социология. -2009. -№ 1. -С. 85-91.
- Басаева К. Д. Семья и брак у бурят (вторая половина ХIХ -начало ХХ века). -Новосибирск: Наука, 1980.
- Гранат Е. Состояние и заболеваемость детей Бурят-Монголии//Жизнь Бурятии. -1929. -№ 6.
- Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. -М.: Айрис-пресс, 2008. -320 с.
- Кирдина С. Собственность в Х-матрице//Отечественные записки. -2004. -№ 6.
- Норт Д. Функционирование экономики во времени//Отечественные записки. -2004. -№ 36(21).
- Обычное право хоринских бурят: памятники старомонгольской письменности: пер. с монг. -Новосибирск: Наука, 1992. -312 с.
- Хангалов М. Н. Собрание сочинений: в 3 т./под ред. Г. Н. Румянцева. -Улан-Удэ: Республиканская типография, 2004. -Т. 1.
- Хрестоматия по социальной психологии: учеб. пособие/вступ. ст. Т. М. Бостанджиева. -Тобольск: Изд-во ТГПИ им. Д. И. Менделеева, 2005. -401 с.