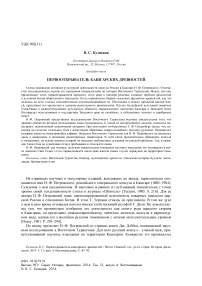Первооткрыватель кашгарских древностей
Автор: Кузнецов Вячеслав Семенович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена историко-культурной деятельности консула России в Кашгаре Н. Ф. Петровского. Отмечается тенденциозность оценок его западными специалистами по истории Восточного Туркестана. Между тем ему принадлежит честь первооткрывателя прошлого этого края и пионера решения сложных проблем археологии и духовной жизни аборигенного населения. Он не ограничился сбором отдельных предметов древностей, как это делалось до него, а начал систематическое коллекционирование их. Обследовал и описал городской массив Хануй, представил его крепостью и центром ремесленного производства. Изучил буддийский культовый памятник Учма-Раван и засвидетельствовал культурную общность тюркоязычного населения Кашгара и Западной Азии. Подтвердил использование в государствах Западного края не китайских, а собственных золотых и серебряных монет. Н. Ф. Петровский предоставлял исследователям Восточного Туркестана весомые свидетельства того, что древние обитатели региона использовали свою письменность. К одной из интереснейших находок относится манускрипт, выполненный загадочными литерами. При получении этой рукописи С. Ф. Ольденбург писал, что, несмотря на сходство отдельных букв с известными образцами северо-индийских письмен, рукопись Петровского содержит ранее не встречавшийся алфавит. Прошлое Восточного Туркестана для Н. Ф. Петровского не сводилось лишь к выявлению и описанию вещественных памятников. В этой связи примечательно обращение консула к топонимике, на основе анализа которой он высказал любопытные суждения по сакской проблеме. Так, в названии Сакал-Ташонусматривалотзвук пребывания в этом месте саков. Н. Ф. Петровский, как человек, заслужил уважительное отношение местного населения, что подтвердил в своих записках Свен Гедин. О его справедливости знали даже жители самых глухих деревушек на территории Синьцзяна.
Восточный туркестан, кашгар, нумизматика, крепости, этническая история, буддизм, экспедиции, центральная азия
Короткий адрес: https://sciup.org/147219082
IDR: 147219082 | УДК: 902(51)
Текст научной статьи Первооткрыватель кашгарских древностей
На страницах научных и популярных изданий, выходящих на западе, периодически упоминается имя Н. Ф. Петровского, российского генерального консула в Кашгаре (1883–1904). Суждения о нем неоднозначны. В массовых изданиях из публикаций показательна с точки зрения своей тенденциозности статья в журнале «Шпигель» [Terzani, 1983. S. 216]. Для ее автора Н. Ф. Петровский лишь законспирированный исполнитель коварных замыслов царской России в отношении Китая. В этом Т. Терзани отнюдь не оригинален. В том же духе о нем в свое время отзывался патологически злобствующий русофоб Г. Дизи. Не довольствуясь тем, что произвольно изобразил его деятельность как своего рода царского сатрапа в Кашгарии, он представил западноевропейскому читателю личность консула в карикатурном виде, назвав его узколобым русским чиновником с низким интеллектуальным уровнем [Deasy, 1901. P. 293–294].
По иному предстает Н. Ф. Петровский со страниц книги Дж. Дэббса, посвященной научным исследованиям в Восточном Туркестане. Для него русский консул – ученый муж, приветствовавший научные изыскания на территории Кашгарии. Конкретно это проявлялось
Кузнецов В. С. Первооткрыватель кашгарских древностей // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 4: Востоковедение. С. 87–92.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 4: Востоковедение
в том, что Н. Ф. Петровский оказывал всемерное содействие иностранным путешественникам, приезжавшим в Восточный Туркестан с научными целями: «В 1887 г. русский консул в Кашгаре поставил памятник Адольфу Шлангинтвейту 1 , отметил его гибель 26 августа 1857 г. как жертву географическим знаниям» [Dabbs, 1963. P. 39].
Справедливости ради надо подчеркнуть, что Н. Ф. Петровский был непосредственно со-причастен к изучению прошлого Кашгарии и является, по существу, пионером в этом деле. Данное обстоятельство следует отметить особо, так как в зарубежной литературе в целом имеют место попытки принизить или замолчать вклад русских ученых в изучение прошлого Центральной Азии. Так, А. Торнер представляет дело так, что, по существу, археологические памятники Синьцзяна стали известны миру главным образом благодаря изысканиям Стейна, Грюнведеля и Лекока (см.: [Lattimore, 1953. P. 223]). Однако еще до того, как А. Стейн предпринял раскопки в Восточном Туркестане, систематическое изучение древностей Южного Синьцзяна уже было начато Н. Ф. Петровским. «Ко времени его поселения в Кашгаре мало было еще известно о древностях в Китайском Туркестане, существовали только отдельные случайные заметки членов миссии сэра Д. Форсайта и некоторых других англичан, главным образом, ими же были вывезены отдельные предметы древности. Были, наконец, литературные упоминания о памятниках старины в Западном Китае, но никем еще не была сделана попытка начать систематическое собирание древностей и исследование того, что еще осталось в стране от прежних культур. Николаю Федоровичу Петровскому принадлежит громадная заслуга в этом деле: он первый, насколько ему только позволяли его сложные и трудные занятия по Кашгарскому консульству, стал последовательно собирать все относящиеся к прошлому края» [Ольденбург, 1910. С. 5].
Пренебрегая отдыхом, слабый здоровьем, он отдавал часы досуга поискам и изучению памятников прошлой культуры Кашгарии. Н. Ф. Петровский обследовал и впервые описал остатки громадного городского массива Хан-уй в окрестностях Кашгара. Хан-уй, как он описывает развалины, поражают своим величием и разнообразием построек. Вот руины двух однотипных строений, своеобразных по устройству. В них словно содержали бессчетное количество голубей. Отсюда и их название – Каптар-хана. О том, что старый город был не только городом, но и крепостью, напоминали развалины Гиссар-Тама, цитадели со следами рвов. Город опоясывали мощные стены. Сложены они были из больших земляных кирпичей, залитых прекрасной, твердой, как камень, глиной. В углу остатков двух крепостных стен – немое свидетельство о былых обитателях Хан-уя. Здесь покоились останки внучки Сатук-Богра-хана, первого кашгарского хана, принявшего ислам. Известный Якуб-бек, в 1860-х гг. создавший в Кашгарии государство Йутишаар, приказал построить на этом месте мазар, отдавая тем самым дань уважения правящему дому былого государства в Кашгарии [Петровский, 1896а. С. 153].
Хан-уй, судя по находкам консула, был значительным центром ремесленного производства. Местные мастера выделывали тонкое разноцветное стекло: белое, черное, синее, зеленое. Стеклянные изделия покрывались краской или мастикой перламутрового цвета. На основании обследования Хан-уя Н. Ф. Петровский заключил, что в древности на территории Восточного Туркестана, вероятно, существовали самостоятельные центры стекольного производства: «Трудно представить, что такая масса весьма тонкого и хрупкого стекла привезена была или привозилась в Кашгарию откуда-нибудь издалека, вероятнее допустить, что стекло это приготовлялось на месте. Окалины от плавильных (кажется) печей, которые встречались на указанных местностях, как будто подтверждают эту догадку» [Там же. С. 154].
Именно Н. Ф. Петровскому принадлежит заслуга обследования культового памятника Учма-Раван, или Саньшаньдун, в горах в окрестностях Кашгара. В большой пещере, доступ куда был еще через три галереи, взору человека предстает в сидячем положении фигура Будды. «Памятник оказался несомненно буддийским, следовательно существование в Кашгаре буддизма, о чем уже было известно из рассказов китайских путешественников, подтверждается еще новым фактом» [Петровский, 1893а. С. 298–299]. При этом исследователь подчерк- нул весьма примечательную деталь. Изваяние было обмазано глиной с мелкорубленой соломой. Это обычный способ штукатурки, применявшийся жителями Бухары, Ташкента и уйгурами Кашгарии [Там же. С. 300]. Отмеченное обстоятельство явилось еще одним весовым свидетельством культурной общности тюркоязычного населения Синьцзяна и Западной Азии. Сообщение Н. Ф. Петровского о найденном им буддийском памятнике вызвало живейший интерес востоковедов. В частности, на то не замедлил откликнуться профессор восточного факультета Петербургского университета А. О. Ивановский [1893], который особо акцентировал то обстоятельство, что в двух китайских сочинениях нашел упоминание о буддийской пещере около Кашгара.
В китайских сочинениях, посвященных Восточному Туркестану, встречаются сведения о том, что в государствах, существовавших в древности на территории Западного края, имела хождения золотая и серебряная монета [Циньдин…, 1782. Цз. 44]. Данные эти нашли подтверждение благодаря инициативе Н. Ф. Петровского [1896б. С. 269], который обратил внимание археологов на соответствующие находки местных жителей. Монеты эти не могли попасть сюда из Китая, где, как известно, в Древности и Средневековье не чеканили деньги из драгоценных металлов. Притом на монетах, встречающихся в Кашгарии, были выбиты арабские письмена. Среди них особый интерес вызывают загадочные монеты из красной меди с надписью «зарби Яркенд» [Петровский, 1893б. С. 309]. По поводу техники монетного дела у древних жителей Восточного Туркестана Н. Ф. Петровский, изучив нумизматические материалы, найденные вблизи мазара Хазрат-Аппак Ходжи, писал следующее: «Позволю себе высказать, по поводу этих монет, догадку: судя по форме, монеты изготовлялись из медных прутьев; на них выбивались разные знаки достоинства монеты, концы прутьев ущемлялись каким-то инструментом в роде того, который употребляется теперь для таможенных и других пломб, затем прутья рубили на части» [Петровский, 1896а. С. 155].
У древних насельников Восточного Туркестана была своя письменность. Новые свидетельства тому также представил Н. Ф. Петровский. Так, в частности, он прислал С. Ф. Ольденбургу манускрипт, выполненный неведомой письменностью. По ознакомлении с этой рукописью тот писал: «Несмотря на сходство форм отдельных букв с известными нам образцами северо-индийских письмен, рукопись Н. Ф. Петровского заключает в себе новый, доселе не встречавшийся алфавит, объяснение которого может внести новые и интересные данные в области индийской палеографии» [Ольденбург, 1893. С. 82].
Прошлое Восточного Туркестана для Петровского не сводилось лишь к выявлению и описанию разного рода вещественных памятников. Его живо интересовали сложные проблемы этнической истории, духовной жизни древнего населения бассейна р. Тарим. В этой связи характерно обращение консула к топонимике, когда он пытается высказать суждения по сложной сакской проблеме. В названии развалин Сакал-Таш он усматривал отзвуки пребывания саков.
О Н. Ф. Петровском как человеке уважительно отзывалось местное население, о чем свидетельствует известный путешественник С. Гедин [1899. С. 172]. Добрую память о нем оно сохранило надолго: «Если русскому путешественнику по пустыням и оазисам Китайского Туркестана случается разговориться с местными жителями, то часто даже в глухой деревушке слышите вопрос: “А Вы знаете генерала Петровского? Это такой большой человек и такой справедливый”. И на ответ, что он умер, глубокое и искреннее сожаление: “Мы вот не русские, а нам жаль его”» [Ольденбург, 1910. С. 82].
Первый российский консул в Кашгаре был среди исследователей, положивших начало профессиональному освоению древних сокровищ Восточного Туркестана. В свое время И. П. Минаев писал: «…вся страна от Лоб-нора до Хотана ждет специальных разысканий в историко-археологическом отношении. Станем надеяться, что почин в этом деле выпадет на долю русских путешественников и ориенталистов» [1889. С. 189].
Надежды эти оправдались. «Русскому исследователю Н. Ф. Петровскому принадлежит честь открытия целого ряда любопытнейших памятников древних культур в Кашгаре», – было написано в редакционном предуведомлении о начале публикаций его статей и заметок [Петровский, 1896а. С. 147] 2.
Список литературы Первооткрыватель кашгарских древностей
- Гедин С. В сердце Азии: путешествие С. Гедина в 1883-1897 гг./Пер. с нем. А. Ганзен, П. Ганзена. СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1899. Т. 1. 503 с.
- Ивановский А. О. Ещео буддийской пещереоколо Кашгара//Зап. Вост. отд-ния Имп. Рус. археол. об-ва. 1893. Т. 7, вып. 1-4. С. 322.
- Минаев И. П. Забытый путь в Китай//Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1889. № 7. С. 168.
- Ольденбург С. Ф. Кашгарская рукопись Н. Ф. Петровского//Зап. Вост. отд-ния Имп. Рус. археол. об-ва. СПб., 1893. Т. 7, вып. 1-4. С. 81-82.
- Ольденбург С. Ф. Памяти Николая Федоровича Петровского//Зап. Вост. отд-ния Имп. Рус. археол. об-ва. СПб., 1910. Т. 20, вып. 1. С. 1-8.
- Петровский Н. Ф. Буддийский памятник близ Кашгара//Зап. Вост. отд-ния Имп. Рус. археол. об-ва. 1893а. Т. 7, вып. 1-4. С. 298-301.
- Петровский Н. Ф. Загадочные яркендские монеты//Зап. Вост. отд-ния Имп. Рус. археол. об-ва. 1893б. Т. 7, вып. 1-4. С. 307-310.
- Петровский Н. Ф. Заметки о древностях Кашгара. Вып. 1. Хан-Уй//Зап. Вост. отд-ния Имп. Рус. археол. об-ва. 1896а. Т. 9, вып. 1-4. С. 147-155.
- Петровский Н. Ф. Буразан: Донесение хотанского торгового агента Абду-с-Саттара Н. Ф. Петровскому//Зап. Вост. отд-ния Имп. Рус. археол. об-ва. 1896б. Т. 9, вып. 1-4. С. 287-289.
- Петровский Н. Ф. Туркестанские письма/Под ред. В. С. Мясникова, сост. В. Г. Бухерт. М.: Памятники исторической мысли, 2010. 358 с.
- Dabbs J. History of the Discovery and Exploration of Chinese Turkestan. The Hague: Mouton, 1963. 255 p.
- Deasy H. H. P. Tibet and Chinese Turkestan: Being the Record of Three Years exploration. L.: T. Fisher Unwin, 1901. 420 p.
- Lattimore O. Pivot of Asia: Sinkiang and the Inner Asian Frontiers of China and Russia. Boston: Little, Brown, 1950. 288 p.
- Terzani T. Ein Herz nur gab Allah dem Menschen//Der Spiegel. 1983. Nr. 45. S. 211-229.
- Циньдин хуанъюй сиюй тучжи [钦定皇舆西域图志 ]. Высочайше утвержденное иллюстрированное описание государева Западного края. Пекин, 1782. 48 цз.