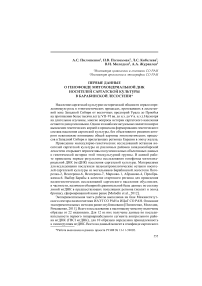Первые данные о генофонде митохондриальной ДНК носителей саргатской культуры в Барабинской лесостепи
Автор: Пилипенко А.С., Полосьмак Н.В., Кобелева Л.С., Молодин В.И., Журавлев А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Палеоантропология и палеогенетика
Статья в выпуске: XIX, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522046
IDR: 14522046
Текст статьи Первые данные о генофонде митохондриальной ДНК носителей саргатской культуры в Барабинской лесостепи
Население саргатской культурно-исторической общности играло определяющую роль в этногенетических процессах, протекавших в лесостепной зоне Западной Сибири от восточных предгорий Урала до Приобья на протяжении более тысячи лет (с VII–VI вв. до н.э. до V в. н.э.). Несмотря на длительное изучение, многие вопросы истории саргатского населения остаются дискуссионными. Одним из наиболее актуальных является вопрос выяснения генетических корней и процессов формирования генетического состава населения саргатской культуры, без объективного решения которого невозможно понимание общей картины этногенетических процессов в Западной Сибири и прилегающих регионах Евразии в эпоху железа.
Проведение молекулярно-генетических исследований останков носителей саргатской культуры из различных районов западносибирской лесостепи открывает перспективы получения новых объективных данных о генетической истории этой этнокультурной группы. В данной работе приведены первые результаты исследования генофонда митохондриальной ДНК (мтДНК) населения саргатской культуры. Материалами для исследования послужили палеоантропологические останки носителей саргатской культуры из могильников Барабинской лесостепи Пого-релка-2, Венгерово-6, Венгерово-7, Марково-1, Абрамово-4, Преобра-женка-6. Выбор Барабы в качестве стартового региона для проведения палеогенетических исследований саргатского населения обусловлен, в частности, наличием обширной сравнительной базы данных по составу линий мтДНК в предшествующих популяциях региона (неолит и эпоха бронзы), сформированной нами ранее [Molodin et al., 2012].
Экспериментальная часть работы выполнена на базе Межинститутского сектора палеогенетики ИАЭТ СО РАН и ИЦиГ СО РАН. Описание экспериментальных методов ранее опубликовано [Пилипенко, Молодин, Ромащенко, 2011]. Всего в исследование к настоящему моменту включены образцы от 22 индивидов. Для 12 из них получены данные по последовательности первого гипервариабельного сегмента контрольного района мтДНК (ГВСI мтДНК), для 10 образцов определена принадлежность к гаплогруппам мтДНК. Всего на данный момент в генофонде саргатского населения Бабы выявлены линии 5 гаплогрупп мтДНК: западно-евразийских U5a, H, N1a, M2(?) и восточно-евразийской B4a.
Можно констатировать, что по составу гаплогрупп мтДНК саргатское население резко отличается от автохтонных этнокультурных групп Барабы эпохи бронзы. Прежде всего, это выражается в доминировании западноевразийских вариантов мтДНК (т.е. линий мтДНК распространенных преимущественно в западной части Евразии и имеющих западно-евразийское происхождение), к которым относятся 9 из 10 филогенетически интерпретированных образцов. Для населения Барабы эпохи бронзы был характерен смешанный состав генофонда мтДНК, включающий в сопоставимых долях западно-евразийские и восточно-евразийские линии мтДНК. Это отличие еще больше выражено на уровне конкретного состава гаплогрупп, обнаруженных в саргатской выборке. Из западно-евразийских гаплогрупп только U5a входила в состав генофонда населения Барабы на протяжении всей эпохи бронзы. По-видимому, только этот компонент можно рассматривать в качестве маркера генетической преемственности саргатской популяции и автохтонных популяций Барабы. Однако этот вывод носит предварительный характер, так как U5a демонстрирует чрезвычайно широкую представленность в западной половине Евразии. Все остальные западно-евразийские гаплогруппы из саргатской серии, а также восточно-евразийская гаплогруп-па B4a не был характерны для населения региона эпохи бронзы. Очевидно, их появление объясняется внешним генетическим влиянием, связанным с миграцией на эту территорию населения из других регионов Евразии. Однако начало процесса изменения состава гаплогрупп мтДНК, результат которого зафиксирован нами для саргатского населения Барабы, по-видимому, следует относить к переходному периоду от бронзы к железу. Об этом свидетельствует некоторое сходство генофондов мтДНК саргатской популяции и населения городища Чича-1. Популяции Чичи-1 является самой ранней группой, для которой нами зафиксирован резкий рост представленности западно-евразийских гаплогупп и появление ряда новых для Барабы кластеров. В частности, именно у населения Чичи-1 впервые появились линии гап-логруппы H [Пилипенко, Ромащенко и др., 2009]. Сходство между группами подчеркивается также полным совпадением одного из вариантов гаплогруп-пы H (с единственной нуклеотидной заменой в положении 16366) у одного из детей, погребенных под полом жилища № 10 Чичи-1, и представителя саргатской культуры из могильника Погорелка-2. Это особенно значимо, учитывая крайнюю редкость данного гаплотипа в популяциях Евразии.
Для Чичи-1 появление новых гаплогрупп было объяснено притоком мигрантов с территорий, расположенных на юге и юго-западе от Бара-бы – современного Казахстана, Средней Азии, корни которых можно видеть далее на территории Азии и Ближнего Востока.
Результаты филогенетического анализа некоторых вариантов мтДНК из саргатской серии отчетливо свидетельствуют о сходном с Чичей-1 направлении внешних генетических связей. Так, обнаруженные в саргатской выборке варианты гаплогруппы H, очень редкие, представлены главным образом в Средней Азии (а также на юге Европы). Очень интересным в этом отношении является вариант гаплогруппы N1a1a, выявленный на Погорелке-2. Гаплогруппа N1a имеет ближневосточное происхождение. Однако субкластер N1a1a распространен именно в среднеазиатских популяциях и специфичен для них. Большой интерес представляет линия гаплогруппы M*, которую мы предварительно отнесли к подгруппе M2. Идентичные и близкородственные ей варианты распространены преимущественно в Индии и на сопредельных территориях Западной Азии. Таким образом, целый ряд линий в генофонде саргатского населения свидетельствуют о наличии генетических связей с населением Средней и Передней Азии и еще более южных регионов.
Полученные данные хорошо коррелируются с археологическими материалами.
В погребальных комплексах саргатской культуры обнаружены раковины каури, перстни, браслеты, подвески, серьги фигурные пряжки, зеркала, чье происхождение связывают с Ферганой, Тянь-Шанем, Кангюем, Семиречьем, Бактрией. Из Средней Азии были привезены найденные в сар-гатских могильниках сердоликовые бусы, палочки для сурьмления глаз, станковая глиняная фляга, обломки кружальных, краснокирпичных тарных сосудов, плоскодонные кувшины. Из Индии, видимо, через Среднюю Азию поступала к саргатцам индийская шпинель [Матвеева, 1993, 1994] и зеркала [Васильев, 2003]. Контакты и связи в указанном направлении поддерживались саргатцами на протяжении всего периода существования культуры. Еще В.А. Могильников [1973] отмечал инфильтрацию степного сакского населения в середине и начале второй половины I тыс. до н.э., которая, судя по особенностям погребального обряда, происходила на всей территории саргатской культуры. В литературе закрепилось представление о сак-ском происхождении саргатской знати [Матвеева, 1994; Корякова, 1988].
По результатам палеоантропологических исследований, были выделены основные расовые европеоидные компоненты саргатского населения, связанные с саками и сармато-савроматами [Дремов, 1978; Багашев, 2000].
С рассмотренными линиями контрастирует (в отношении филогеографии) вариант гаплогруппы B4a, обнаруженный в одном из образцов могильника Марково-1. Гаплогруппа B4a (и вообще линии гаплогруппы B) не были выявлены в более ранних группах населения Барабы. Эта гап-логруппа проявляет определенную филогеографическую специфичность. Основным ее ареалом в современных популяциях является Юго-Восточная Азия (как материковая, так и континентальная). В других регионах, в т.ч. в Западной Сибири и Центральной Азии, этот вариант встречается достаточно редко у единичных носителей. Возможно, популяции ЮгоВосточной Азии, скорее всего Китая, также оказывали опосредованное влияние на генофонд населения Западно-Сибирского региона в эпоху раннего железа. Это влияние могло распространяться через население Центральной Азии, генетически сходного с хунну, при его движении на запад. С этим предположением согласуется обнаружение линии гаплогруппы B4 у населения хунну Забайкалья (в составе выделенного нами «китайского» компонента генофонда) [Пилипенко, Полосьмак и др., 2011].
Эти данные подтверждаются археологическим материалом. Среди саргатских древностей выделяется «хуннский» комплекс, включающий ряд предметов восточного (вплоть до Китая) происхождения – котлы, ложечковидные застежки, пряжки от конской сбруи, оружие [Матвеева, 1993]. Непосредственно, в могильнике Марково-1 были найдены монета «у-шу», обломок китайского зеркала II в. до н.э. (курган 6) и ложечковидная застежка (курган 4) [Полосьмак, 1987].
Первые палеогенетические данные свидетельствуют в пользу полиэтнической гипотезы происхождения саргатского населения. При этом ведущую роль в формировании генетического состава населения, по-види-мому, сыграли ираноязычные племена из более южных и юго-западных по отношению к Барабе регионов. Степень участия автохтонного компонента пока остается до конца невыясненной. Вероятно, этот вопрос удастся разрешить при увеличении выборки исследованных образцов, а также вовлечении в анализ саргатских популяций из других районов Западной Сибири.