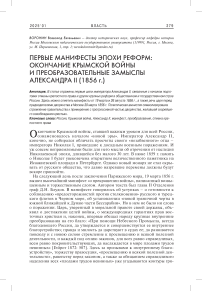Первые манифесты эпохи реформ: окончание Крымской войны и преобразовательные замыслы Александра II (1856 г.)
Автор: Воронин В.Е.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье отражены первые шаги императора Александра II, связанные с началом подготовки отмены крепостного права и других крупных реформ в общественном и государственном строе России. Здесь можно отметить манифесты от 19 марта и 26 августа 1856 г., а также речь царя перед предводителями дворянства в Москве 30 марта 1856 г. Политическая амнистия символизировала стремление правительства к примирению с прогрессивной частью дворянства, желавшей скорейшего освобождения крестьян.
Россия, крымская война, александр ii, манифест, преобразования, отмена крепостного права
Короткий адрес: https://sciup.org/170209108
IDR: 170209108 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-1-279-282
Текст научной статьи Первые манифесты эпохи реформ: окончание Крымской войны и преобразовательные замыслы Александра II (1856 г.)
О кончание Крымской войны, ставшей важным уроком для всей России, ознаменовалось началом «новой эры». Император Александр II, конечно, не собирался обличать просчеты своего «незабвенного» отца – императора Николая I, приведшие к досадным военным поражениям. И уж совсем неприемлемыми были для него мысли об отречении от наследия Николаевской эпохи, длившейся без малого 30 лет. В июне 1859 г. память о Николае I будет увековечена открытием величественного памятника на Исаакиевской площади в Петербурге. Однако новый монарх не стал скрывать от русского общества, что давно назревшие перемены должны будут вскоре произойти.
На следующий день после заключения Парижского мира, 19 марта 1856 г. вышел высочайший манифест «о прекращении войны», написанный возвышенным и торжественным слогом. Автором текста был глава II Отделения граф Д.Н. Блудов. В манифесте говорилось об уступках – о готовности к соблюдению «предосторожностей против столкновения» русского и турецкого флотов в Черном море, об установлении «новой граничной черты в южной ближайшей к Дунаю части Бессарабии». Но в нем не было ни слова о поражении. Царь, уверенный в моральной правоте своей державы, объявил о достижении целей войны, о международных гарантиях прав восточных христиан и, наконец, впервые обещал народу крупные внутренние преобразования на его благо: «При помощи Небесного Промысла, всегда благодеющего России, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее; да развивается повсюду и с новою силою стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сению законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных» [Гейрот 1872: 507]. Здесь за призывами к «внутреннему благоустройству», торжеству правосудия, «просвещению и всякой полезной деятельности», равенству перед законом, а также за обещанием справедливого наделения всех «плодами трудов невинных» уже угадываются контуры гря- дущих реформ местного самоуправления, суда, народного просвещения и, в самом общем виде, отмены крепостного права.
Манифест 19 марта 1856 г. породил в дворянском обществе тревожные ожидания скорого дарования «воли». И если петербургские дворяне, тесно связанные с высшей бюрократией, не отважились задавать самодержцу неудобные вопросы, то общественные круги «первопрестольной» столицы – Москвы, по обыкновению, вели себя намного смелее. Рожденный в Москве и всегда с гордостью именовавший себя «москвичом» Александр II решился на смелое объяснение с представителями московского дворянства.
По прибытии государя в Москву 30 марта 1856 г. в Благородном собрании был устроен обед, на котором присутствовали чины губернской администрации, губернский и уездные предводители дворянства. Московский генерал-губернатор граф А.А. Закревский просил монарха успокоить умы. Разные версии царской речи, произнесенной тогда, были напечатаны лишь десятилетия спустя. Сказанное сохранилось в разных, отличающихся друг от друга вариантах. Слухи относительно планов отмены крепостного права Александр II опроверг, но тотчас дезавуировал свое опровержение. «Но не скажу вам, – продолжал он, – чтобы я был совершенно против этого, мы живем в таком веке, что со временем это должно случиться. Конечно, вы и сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти… Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу… Передайте слова мои дворянам для соображения» [Татищев 1996: 331; Ляшенко 2002: 170-171; Воронин, Ляшенко 2011: 12].
Царскую речь 30 марта 1856 г. не раз назовут «противоречивой» и «туманной». Однако в ней было прямо заявлено, что отмена крепостного права не за горами и что верховная власть желает провести реформу «сверху», не дожидаясь стихийных движений «снизу». Она уважает интересы дворян; но царь помнит и о крестьянстве, о его «враждебном» отношении к помещикам.
Через несколько месяцев, в день коронации Александра II 26 августа 1856 г. вышел его «всемилостивейший» манифест, нацеленный на внутреннее умиротворение страны. Царь не скупился на награды героям и участникам недавней войны, чиновникам и духовным лицам, а также главам дворянских семейств за великие «жертвы», почетным гражданам и купцам, отличившимся своими «приношениями». Власть обещала помочь жителям местностей, наиболее пострадавших от войны. Но учитывая, что «потери и тягости войны» коснулись всех, царь объявил о широкой амнистии – о «смягчении» наказаний и «совершенном прощении» раскаявшихся.
Статьей I предписывалось «немедленно» провести «новую общую народную перепись» с целью уменьшения податей и повинностей по причине большой «убыли в людях» вследствие войны и эпидемий. Статья II отменяла рекрутские наборы в 1856–1859 гг. при условии сохранения «твердого мира». Согласно статье III, местные «общества» и помещики должны были получить компенсацию за «всех» выбывших из строя ополченцев, а не только за убитых и раненых, независимо от «причин, от коих последовала самая убыль».
Статьями IV–XIV были прощены все прежние казенные недоимки, а также «все казенные по службе начеты, ущербы и утраты», не превышающие 600 руб. сер.; вместе с ними прощалось полностью или частично множество про- чих недоимок, взысканий, начетов и неустоек. В числе прощенных значились беглые. Вводились разные «облегчения» по выплате ссуд.
Статья XV предусматривала большую амнистию осужденных «за политические преступления». Раскаявшимся было предписано «даровать ‹…›: одним – облегчения, более или менее значительные, в самом месте их ссылки; другим же – освобождение от оной с правом жительствовать в одной из указанных им внутренних губерний, а некоторым – и дозволение жить где пожелают… за исключением только С.-Петербурга и Москвы». Царь простил декабристов, их последователей и участников Польского восстания 1830–1831 гг.; осужденным бывшим дворянам были дарованы «все права потомственного дворянства, токмо без права на прежние имущества»; а выходцам из других сословий – «те права состояния, коими они до сего осуждения пользовались». В статье XVI было обещано дать бывшим военно-сухопутным и морским чинам, причастным «к преступлениям политическим», но удостоенным на службе одобрения начальства, «особые облегчения и милости». Политическая амнистия дополнялась статьей XXX. «Прощение» получали военные поселяне Новгородской губернии – участники волнений 1831 г. Им после отставки или увольнения разрешалось «жить на родине, если, находясь на службе, они не совершили какого-либо важного преступления».
Статьи XVII–XXVI, XXVIII–XXIX и XXXI–XXXIII содержали бессчетное число «облегчений», милостей и перспективы полного «прощения» для поднадзорных, подследственных, подсудимых, осужденных за разные преступления, для покинувших места проживания и бежавших за границу. Они были направлены на гуманизацию системы наказаний, включая телесные. В статье XXII находим и бессмертный афоризм, касающийся улучшения положения ссыльных: «Приговоренным к ссылке в отдаленнейших местах Сибири назначить для поселения места Сибири не столь отдаленные».
Статья XXVII упраздняла подневольное состояние кантонистов – солдатских и матросских детей, обязанных нести службу в нижних чинах. Дети подлежали возвращению родителям, малолетние могли быть переданы «родственникам и воспитателям» при условии водворения «на прочную оседлость». Сироты и незаконнорожденные младше 14 лет должны были поступить на попечение к «благотворительным лицам свободных состояний» на условиях «доброй нравственности» и «состоятельности» последних, их способности «устроить оседлость своих питомцев». Кантонистов и иных детей, состоявших при военном и морском ведомствах, при возвращении следовало «исключить из оных навсегда». До «новой народной переписи» они освобождались «от всех личных податей и повинностей».
п орядок осуществления амнистии отражен в статьях xxxiv–xxxviii1 .
На основании коронационного манифеста были прощены декабристы и петрашевцы, лишенные прав состояния и сосланные в Сибирь или отданные в солдаты. Теперь они могли избрать себе любое место жительства, кроме обеих столиц. Им, «за некоторыми исключениями», возвращались не только потомственное дворянство, но и титулы. Александр II сказал по этому поводу статс-секретарю барону М.А. Корфу – автору официозного исследования о восстании 14 декабря 1825 г. [Корф 1848]: «Дай Бог, дай Бог, чтобы впредь никогда не приходилось русскому государю ни наказывать, ни даже прощать за подобны е преступления» [Татищев 1996: 247].
Итак, щедрые награды, приостановка рекрутских наборов, прощение недоимок и широкая амнистия были призваны снять социальную напряженность, умиротворить народ и образованное общество. В свою очередь, амнистия политическая и прежде всего прощение декабристов показали стремление правительства к примирению и взаимопониманию с прогрессивной частью дворянства, давно желавшей уничтожить крепостное право; освобождение же польских повстанцев свидетельствовало о готовности властей к компромиссам и либерализации режима в Царстве Польском. Наконец, упразднение самого многострадального из подневольных сословий – кантонистов вкупе с прощением восставших в 1831 г. военных поселян Новгородской губернии не только неотвратимо вело к ликвидации ненавистных народу военных поселений, которая последует уже в 1857 г., но и приближало долгожданную отмену крепостного права. «Всемилостивейший» коронационный манифест положил начало Великой реформе.
Список литературы Первые манифесты эпохи реформ: окончание Крымской войны и преобразовательные замыслы Александра II (1856 г.)
- Воронин В.Е., Ляшенко Л.М. 2011. Александр II. Царь-Освободитель. М.: АСТ-Пресс. 33 с.
- Гейрот А.Ф. 1872. Описание Восточной войны 1853-1856 гг. СПб: Типография Эдуарда Гоппе. 576 с.
- Корф М.А. 1848. Историческое описание 14-го декабря 1825-го года и предшедших ему событий. СПб: Тип. II Отд. С.Е.И.В. канцелярии. 168 с.
- Ляшенко Л.М. 2002. Александр II, или История трех одиночеств. М.: Молодая гвардия. 357 с.
- Татищев С.С. 1996. Император Александр II, его жизнь и царствование. Кн. 1. М.: Чарли. 608 с.