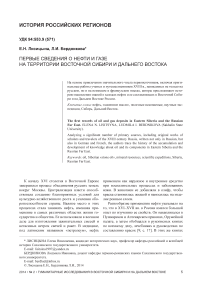Первые сведения о нефти и газе на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока
Автор: Лисицына Елена Николаевна, Бердникова Людмила Ивановна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 2 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
На основе привлечения значительного числа первоисточников, включая оригинальные работы ученых и путешественников XVIII в., написанных не только на русском, но и на немецком и французском языках, авторы прослеживают историю накопления знаний о залежах нефти и ее составляющих в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России.
Нефть, "каменное масло", полезные ископаемые, научные экспедиции, сибирь, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/170175510
IDR: 170175510 | УДК: 94:553.9
Текст научной статьи Первые сведения о нефти и газе на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока
К началу XVI столетия в Восточной Европе завершился процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Централизация власти способствовала созданию благоприятных условий для культурно-хозяйственного роста и усиления обороноспособности страны. Важное место в этих процессах стала занимать нефть, имевшая применение в самых различных областях жизни государства и общества. Ее использовали в военном деле для изготовления зажигательных смесей и негасимых ветром свечей и ракет. В медицине, под латинским названием «петролеум», нефть применяли как наружное и внутреннее средство при воспалительных процессах и заболеваниях кожи. В живописи ее добавляли в олифу, чтобы краска становилась жидкой и наносилась на изделие ровным слоем.
Разнообразие применения нефти указывало на то, что в XVI–XVII вв. в России имелся большой опыт по изучению ее свойств. Он накапливался в Пушкарском и Аптекарском приказах, Оружейной палате, а затем обобщался в рукописных книгах по военному делу, лечебниках и руководствах по составлению красок [9, с. 17]. В этих же книгах содержались и существовавшие тогда в науке представления о нефти как о природном веществе.
Серьезным стимулом для расширения накопленных к XVII в. знаний о нефти, а также местах ее распространения явился внешнеполитический фактор – экспансия Русского государства на Восток, в ходе которой были поглощены страны, образовавшиеся в результате распада Золотой Орды, завоевано Сибирское ханство, а отряды казаков и служилых людей достигли берегов Тихого океана.
Присоединяемые территории обладали значительным экономическим потенциалом, освоение которого требовало получения о новых землях как можно большего количества знаний. Первыми исследователями далеких восточных окраин стали те, кто участвовал в их покорении, а также устанавливал контакты с приграничными странами и народами – казаки, служилые люди, руководители направляемых в Китай посольств. Одним из основных требований, содержащихся во вручаемых им «наказных памятях», являлось «... изобразити все землицы, городы и путь на чертеже» [19, с. 153].
Выполняя наказы, землепроходцы, используя помощь толмачей, вступали в контакт с местными жителями – охотниками и рыбаками, от которых и получали необходимые сведения. На основании их рассказов, а также личных впечатлений они отправляли в Сибирский приказ или прямо в Петербург «чертежи», «отписки», «расспросные речи», в которых сообщали различные сведения о новых землях. В эти отчеты попадали данные и о необычных, поразительных явлениях сибирской природы. Например, в «Чертеже Земли Сибирской», составленном в 1672 г. по распоряжению тобольского воеводы П. Годунова, сообщалось о подземных пожарах, характерных для территории бассейна р. Вилюй: «А с левой стороны из реки Вилюя огонь исходит зимою, а летом, как вода разольется, и то место водою покрывает... а как вода сойдет, и огонь по-прежнему, только не пламенем, а дерево на том месте положенное углем изгорит, а пламени нет» [20, с. 53]. В челобитной царю, поданной в 1674 г. якутским служилым человеком Сенькой Епишевым, рассказывалось о том, «… что около Якутска в озерах, но не во всяком озере, родится масло, ростом кругло, что яблоко большое и малое, ходит живо, а живет в глухих, глубоких озерах; а ловят то масло об одну пору осенью, по льду, неводом и куюрством» [24, с. 73–74].
По мере своего закрепления на просторах Восточной Сибири и Дальнего Востока государство стало проявлять все больший интерес не только к физико-географическому описанию этих террито- рий, но и к богатствам их недр и вод. В «наказных памятях» были усилены требования к выявлению на новых землях месторождений полезных ископаемых, а за проявленное в этом деле усердие обещаны разного рода поощрения. Например, в «наказной памяти» приказчику Селенгинского острога Ивану Перфирьеву говорилось: «Да ему ж Ивану будучи в Селенгинском проведывать всякими рускими людьми и иноземцы про золотую и про серебряную и про медную и оловянную и свинцовую руды и про слуду добрую и про сели-треную землю и будет хто скажет где что ис тех; статей знает и ему будет за то великих государей жалованья» [13, с. 259]. В 1684 г. из Сибирского приказа наказ «…роспрашивать всяких чинов людей и у ясачного сбору иноземцов про золотую и про серебреную, и про медную и оловянную и свинцовые руды, и про железо, и про жемчюг, и слюду и краски, и про селитряную землю, и про иные угодья...» получил и иркутский письменный голова Л.К. Кислянский [8, с. 324].
В своих отчетах служилые люди сообщали о горных богатствах, обнаруженных ими на исследованной территории, указывая, среди прочих, на выходы «битума», «горной смолы» или «каменного масла». Первоначально эти сведения нередко перемешивались с вымыслами, фантазиями и не всегда отличались точностью, однако постепенно становились все более достоверными, подробными и интересными.
Местное население Прибайкалья давно знало о нефтяных пятнах, появлявшихся на водной глади озера, выходах горючих газов, а также о месторождениях горного воска (озокерита). Байкеритом (байкальским озокеритом) местные жители смазывали колеса, сбрую, обувь, используя для этого в качестве добавки древесную смолу или нерпичий жир.
В 1684 г. жители Иркутского острога рассказали Л.К. Кислянскому, что «…за острожною де Иркуцкою речкою из горы идёт жар неведомо от чего, и на том де месте зимою снег не живёт и летом трава не ростет» [8, с. 327]. Обследовав это место, Л.К. Кислянский установил, что «... из горы идёт пара, а как руку приложить, и рука не терпит много времени, и издалека дух вони слышать от той пары нефтяной; а как к той паре и скважине припасть близко, и из той скважины пахнёт дух прямо сущою нефть; а как которую скважню поболше прокопаешь, из той скважни и жар побольше пышет, и тут знатно, что есть сущая нефть» [8, с. 327]. Результаты своей находки Л.К. Кислянский изложил в специальном отчете Сибирскому приказу. Правда, нефть в Иркутск
Л.К. Кислянский не отправил. В своей отписке он указал: «А нефти по се число не копал для того до-мышлясь ее добывать великими мерами, а людей ведущих про такое дело не сыскалось» [8, с. 327]. Тем не менее данное событие получило высокую оценку известного российского историка В.В. Данилевского, который в работе «Русская техника» писал: «В 1684 г. произошло замечательное событие. Иркутский письменный голова Леонтий Кис-лянский открыл нефть в нашей стране» [7, с. 32]. Так, на протяжении XVI–XVII вв. шло постепенное накопление сведений об имеющихся признаках нефтеносности в восточных районах Русского государства.
Оценивая в целом предпринятые в XVII в. сибирскими землепроходцами усилия по изучению новых территорий, российский историк, этнограф и публицист А.П. Щапов писал: «Если бы не было этих предварительных географических открытий в Сибири и на Ледовитом океане, – то не было бы, может быть, и всех этих знаменитых ученых экспедиций XVIII в. …» [24, с. 68].
Действительно, значительные природные богатства, обнаруженные на вновь присоединенных землях, а также накопленная масса новых, несистематизированных и непроверенных сведений способствовали возникновению у государства потребности в планомерном естественно – научном исследовании огромных сибирских и дальневосточных пространств.
Задача по обследованию территорий с целью розыска руд и минералов, проверки их качества, а также организация добычи и выплавка металлов была возложена сначала на Приказ рудокопных дел, а позже на Берг-коллегию, которые стали посылать в различные места Российской империи «рудознатцев» как из числа привлеченных иностранцев, так и русских людей, обучившихся этому делу.
Кроме «рудознатцев» сведения о полезных ископаемых собирали и описывали в своих трудах многие путешественники и естествоиспытатели, побывавшие в тот период в Сибири. Среди них был немецкий ученый на русской службе, один из сподвижников Петра I по исследованию России Д.Г. Мессершмидт. Он совершил восьмилетнюю экспедицию (1718–1727 гг.) на территорию Западной и Восточной Сибири, по результатам которой была издана книга «Описание Сибири, или Картина трех основных царств природы...» В ней, по данным А.А. Матвейчука и И.Г. Фукса, Мессершмидт описал свои опыты по изучению янтаря [12, с. 366], который в то время считался результатом перегонки серы и «каменного масла», понимаемого как нефть, под воздействием «подземного огня». Остатком перегонки, согласно данной теории, являлся каменный уголь [11, с. 436]. Правда еще в XVII в. эта теория со стороны исследователей подверглась сомнению и критике. В частности, в ее правдоподобности сомневался Н. Лемери, обративший внимание на удаленность месторождений нефти от залежей каменного угля [11, с. 436].
Однако наибольший вклад в геофизическое и геологическое изучение новых земель внесли многочисленные научные экспедиции, которые на протяжении всего XVIII в. по поручениям императорских особ направлялись в Сибирь и на Дальний Восток. В ходе проведенных ими исследований, наряду с многочисленными полезными ископаемыми, в разных местах Восточной Сибири и Камчатки были обнаружены места выходов так называемого сибирского каменного масла. В своей работе «Путешествие через Сибирь. 1733–1743» И.Г. Гмелин так описывает это вещество: «...На ручье Кайдунтат есть место, которое называют Масленский Камень, состоящий из квасцового сланца, от земли и травы черного цвета. В расщелинах этого камня образуются сталактиты желтоватых квасцов, жирные и мягкие на ощупь, которые на свежем воздухе через несколько дней становятся белыми и твердыми. Среди простых людей за свою жирность это вещество получило название «каменное масло». Население очень верит в его силу, и оно пользуется у него большой популярностью, особенно при диарее. В одном месте этих горных пород есть небольшое углубление в форме грота (печного отверстия), в котором находится много этого вещества, поскольку дождевая вода не может его смыть. Так как солнце и воздух на него не воздействуют, оно сохраняет желтый цвет. За короткое время этого масла можно собрать около пуда. Однако эти горные скалы очень отвесные, подняться на них очень трудно и мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы туда взобраться...» [6, с. 459]. Далее И.Г. Гмелин отмечает, что «каменное масло находят во многих сибирских горных породах, в том виде, как я описал ...)» [6, с. 461]. Он указал его наличие в таежных местах Енисейского, Байкальского, Баргузинского районов, по берегам рек Лены и Маня [6, с. 461].
О «каменном масле» писал и другой участник Второй Камчатской экспедиции – С.П. Крашенинников, совершивший в 1737 г. путешествие на Камчатку. В своей работе «Описание земли Камчатки» (1756) Крашенинников отметил, что «...камчатские горы весьма плотны, и несколько расседались, как сибирские. Где они разваливаются, там находят в великом множестве сибирское каменное масло» [10, с. 222]. В комментарии к этому наблюдению С.П. Крашенинникова академик Л.С. Берг указал на то, что под сибирским горным маслом раньше называли «...выцвести некоторых солей...» и что «...очевидно здесь не имеется в виду нефть, которая тоже раньше называлась горным маслом» [10, с. 222].
Кроме С.П. Крашенинникова на Камчатке побывал еще один участник экспедиции – Г.В. Стел-лер. По итогам его двухлетнего пребывания на полуострове в 1774 г. в Лейпциге было издано одноименное с работой С.П. Крашенинникова сочинение – «Описание земли Камчатки», в которой Г.В. Стеллер частично воспользовался материалами своего молодого коллеги. Представленный в его работе отрывок о разломах камчатских гор и выходах в местах трещин «каменного масла» по смыслу полностью повторял материал С.П. Крашенинникова [21, с. 77]. Поэтому, ссылаясь на Л.С. Берга, можно констатировать, что оба исследователя – и С.П. Крашенниников и Г.В. Стеллер – обнаружили около Пенжинского моря выходы не нефти, а разновидность квасцов.
Таким образом, выходы «каменного масла», найденные И.Г. Гмелиным в горных массивах, расположенных по берегам рек Енисей, Лена, Маня и их притоках, а на Камчатке обнаруженные С.П. Крашенинниковым и В.Г. Стеллером в районе Пенжинского моря, в опровержение устоявшегося вплоть до наших дней мнения [1, с. 2; 12, с. 23], отношение к нефти не имели.
Большой интерес представляют обнаруженные И.Г. Гмелиным газовые «вулканы», которые, как пишут В.В. Алексеев и В.А. Ламин, немецкий натуралист наблюдал в бассейнах рек Томь и Хатанга [1. с. 28]. В частности, при слиянии Томи и Абашевского ручья он видел «дым, выходящий из подножия горы», причиной которого, по мнению И.Г. Гмелина, было горение «смолистой почвы» [1, с. 28]. Наблюдение ученого вполне могло свидетельствовать о нефтепроявлениях на данной территории.
Самым популярным местом для проведения исследований в XVIII в. был Байкал. Умы ученых будоражили причины образования этого уникального озера, механизм землетрясений, регулярно случающихся в его окрестностях, минералогическое разнообразие территории, особенности местной флоры и фауны. В отчетах и книгах, написанных по итогам экспедиций, публиковались выдвигаемые авторами теории происхождения озера, благодаря которым и появились новые све- дения о нефтепроявлениях в Прибайкалье. Так, в «Комментарии к путешествию по Российской Империи» (1775), сделанном профессором минералогии Императорской академии наук в Петербурге И.Г. Георги, автор указал на то, что во время исследований им берегов Байкала в глине Колесниковой пади он обнаружил зерна асфальта [4, с. 62]. Кроме этого ученый сообщил, что на поверхности Байкала плавает темно-коричневого цвета, липкое и жирное вещество, которое весной волнами выбрасывается на берег Баргу-зинского залива. Еще больше этого вещества выбрасывается около острова Лиственичный. Инородцы собирают это вещество и используют как целебное средство [4, с. 137].
В «Землеописании», составленном известным немецким географом А.-Ф. Бюшингом, можно найти сведения о выбросах горного дегтя [3, с. 788]. Правда свидетельства автора носят косвенный характер, поскольку сама работа была подготовлена на основании «сказаний», «дневников», «описаний» очевидцев, а также тех сведений, которые по просьбе А.-Ф. Бюшинга выслал ему российский историк, исследователь Сибири Ф.И. Миллер.
Интересны наблюдения за нефтепроявления-ми на Байкале еще одного знаменитого немецкого и русского учёного-естествоиспытателя, географа и путешественника П.С. Палласа, который, как и его предшественники, обратил внимание на выбрасываемую на берег озера «жидовскую смолу», а также на то, что с его дна бьют горячие ключи. Два этих явления Паллас связал с периодически случающимися на Байкале землетрясениями. Он считал, что обилие в недрах гор таких веществ, как колчедан и асфальт, которые горят под землей (о чем свидетельствуют источники горячих вод) и является причиной подвижки земли в районе Байкала: «...Вообще здешния земли трясения видно не далеко разпростираются, но потому что в Даурии и в северных местах реки Лены никогда оных не чувствуют; и так причины их нигде как в горах около самаго Байкала искать должно, коих горячие ключи, и наипаче около Баргузина и Вишима находящейся колчедан и жидовская смола, из самого моря часто выкидываемая, довольно доказывают, что он к подземному возжению и движению способной материи не имеют …» [14. с. 387].
Кроме академических экспедиций во второй половине XVIII в. в Сибири с разными целями побывали и другие исследователи. Так, в 1784– 1785 гг. очередное путешествие по Прибайкалью и Нерчинскому краю совершил ученый-естество- испытатель, член-корреспондент Петербургской академии наук Э.-Л.-М. Патрэн. По результатам своего путешествия в парижском журнале физики и естественной истории он поместил довольно подробный геологический и минералогический очерк о Даурии, под которой понимал все пространство от Байкала до Тихого океана [15, с. 225]. В очерке Э.-Л.-М. Патрэн описал увиденные им на правом берегу Ангары девять горизонтальных пластов каменного угля, разделенных песчаными и глинистыми отложениями, которые содержали гальку, напоминающую гальку побережья Байкала. Образование этих попеременно землистых и битуминозных слоев Па-трэн объяснил тем, что при каждом извержении вулкана, расположенного вблизи Байкала, битум, известный в этой местности под названием «каменного масла», перемешивался водой с землей и создавал вышедшие на поверхность слои угля [15, с. 226]. «...каменное или горное масло создало эти пласты угля, – пишет Патрэн в своей работе, – ...местоположение которых затрудняет их исследовать» [15, с. 226]. Кроме этого запах «каменного масла», как продукта нефти, был обнаружен Патрэном и при осмотре Полосатой горы, находящейся в семи километрах по реке Шилке. Гора напоминала полосатый «пудинг», поскольку состояла из 15 пластов разного цвета и состава, которые представляли собой древнюю лаву с включениями кальцита, кварца, халцедона и черного битума [15, с. 223]. В 1795 г. Патрэном была составлена ориктография территории Байкала, в которой также было отмечено нахождение горной смолы [16, с. 202].
Вслед за Патрэном очередную поездку от Урала до Даурии (Кяхта, Иркутск, Красноярск, Абаканский острог) в 1790 г. предпринял член-корреспондент Императорской академии наук ботаник И. Сиверс. Его путешествие длилось четыре года. В своих письмах из Сибири он поддерживал мнение Патрэна о том, что Байкал, вероятнее всего, образовался благодаря землетрясению и провалу гор. По мнению И. Сиверса. с такой теорией происхождения озера «весьма хорошо гармонируют флецы каменного угля, находящиеся по соседству, горная смола, просачивающаяся наружу со дна озера, горячие источники во многих местах изливающиеся...» [18. с. 155]. В то же время в своей работе И. Сиверс высказал мнение о том, что не все дымящиеся в Сибири горы следует считать вулканами. Так, с его точки зрения, горящая гора на реке Лене, в 46 км ниже Якутска, вулканом не являлась, поскольку состояла из слоев глины и песка. Выходящие из горы газы и дым, по мнению Сиверса, представляли собой проявления горящих битумным слоев [18, с. 155], что свидетельствовало о возможной нефтеносности территории.
Однако взгляды своих предшественников (Пал-ласа, Патрэна, Сиверса) поставил под сомнение член Петербургской академии наук, начальник Екатеринбургского горного правления Б.Ф. Герман. В 1791 г. он напечатал небольшой очерк о Нерчинской Даурии, в котором дал достаточно подробное описание горных пород и полезных ископаемых, встречающихся при разработке нерчинских шахт. Что касается «подземного огоня», который могли давать битуминозные слои, то автор указал: «…Сколько мне известно, там и в около лежащих странах истинных следов подземного огня не находится…» [5. с. 73].
В исторических очерках «Истоки российской нефти» Матвейчука А.А. и Фукса И.Г. указывается на то, что сведения о нефтепроявлениях в Восточной Сибири также можно найти в рукописных книгах «Дневнике барона Питера Фредерикса» (1787), где барон упоминает о «густой смоле или асфальте» на реке Шилке в 146 км от Нерчинска и о «горном асфальте», вытекающем из берегов рек в Бурятии [12. с. 368], а также «Рудокопном описании ископаемой системы», в которой указано, что «горное масло» находится на реке Шилке ниже деревни Ломово [12, с. 365].
На территории Якутии в XVIII в. был известен только один выход нефти – в бассейне реки Вилюй, в долине реки Тиряртях. Там на поверхность почвы выходили горячие ключи и вытекала дурно пахнущая, густая, темная жидкость, воспламеняющаяся на огне [1, с. 28].
Таким образом, в течение XVII–XVIII вв. усилиями ученых, служилых людей и рудознатцев в России появились первые письменные свидетельства о возможном наличии на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока нефти и ее составляющих. Однако противоречивость этих сведений привела к тому, что на появившихся в стране в конце XVIII в. геологических (рудных) картах места выходов нефти указаны не были.
Список литературы Первые сведения о нефти и газе на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока
- Алексеев В.В., Ламин В.А. Прометеи сибирской нефти. Свердловск: Северо-Уральское книжное издательство, 1989.
- Бушуев В.Г. Сибирские предприниматели на подступах к нефтяным богатствам края//Во славу российской нефти: материалы науч.-истор. конф. «Роль частного предпринимательства в развитии нефтяной промышленности России во второй половине XIX века». 28 февраля 2006. М.: ЗАО Мосиздатинвест, 2006
- Büsching, A.F., 1787. Erdbeschreibung. Erster Teil, welcher Dänemark, Norvegen, Schweden und das ganze Russische Reich enthält. 8-te Auflage. Hamburg, 1787.
- Georgi, J.G., 1775. Bemerkungen einer Reise im Rußischen Reich in den Jahren 1772, 1773 und 1774. 2 Bände. St. Petersburg: Kaiserl. Academie der Wissenschaften. Vol. 2.
- Германн В.Ф. О Нерчинских горах//Новые ежемесячные сочинения. СПб., 1795. Ч. 104.
- Gmelin, J.G., 1752. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1733 bis 1743. T. 2. Göttingen. Verlegts A. Vandenboecks seel, Wittwe.
- Данилевский В.В. Русская техника. Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1949.
- Дополнения к актам историческим, собранным и изданным археографическою комиссией. Т. 10. СПб.: Тип. Э. Праца, 1867.
- Древнерусский лечебник//Редкие источники по истории России/под ред. Новосельского А.А., Пушкарева Л.Н. М.: Ин-т истории СССР АН СССР. 1977.
- Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки с приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949.
- L'emery, N., 1690. Cours de chymie. Paris: Neufie' me Edition.
- Матвейчук А.А., Фукс И.Г. Истоки российской нефти. Исторические очерки. М.: Древлехранилище, 2008.
- Наказная память иркутского воеводы И.А. Власова вновь назначенному приказчику Селенгинского острога сыну боярскому Ивану Перфирьеву ведать ему Селенгинск//Сб. документов по истории Бурятии. XVII век/сост. Г.Н. Румянцев и С.Б. Окунь. Улан-Удэ, 1960. Вып. 1.
- Паллас С.П. Путешествие по разным провинциям Российского государства. 1772 и 1773 годы/пер. Зуева В. СПб.: Императорская Академия наук, 1788. Ч. 3, пол. 1.
- Patrin, E.M., 1791. Notice mineralogique de la Daourie//Observations sur la physique, sur l’histoire et sur les arts. Vol. 38. Paris. Mars.
- Patrin, E.M., 1795. Beyträge zu einer Oryktographie von Russland und vorzüglich von Sibirien//Neues Bergmännisches Journal, herausgegeben v. Köhler und Hoffmann. Freiberg. Bd. I.
- Радишевский А.М. Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся воинской науки: состоящий в 663 указах или статьях. М.: Изд-во Рубан, 1777.
- Sievers, J., 1796. Briefe aus Sibirien./Pallas, Neue Nord. Beyträge. Bd. 7. S. Pet. und Leipzig.
- Спафарий Н.Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая в 1675 году//Записки русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1882. Т. 10, вып. 1.
- Список с чертежа Сибирской земли//Сибирь в XVII веке: сб. старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях: с приложением снимка со старинной карты Сибири/А. Титов. М.: Тип. Л. и А. Снегиревых, 1890.
- Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Новая книга, 2011.
- Трошин А.К. Леонтий Константинович Кислянский//Тр. Ин-та истории естествознания и техники. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 3.
- Шипко Л. Масло при реке Енисее..//Красноярский рабочий. 26 октября 2001 г.
- Щапов А.П. Историко-географические заметки о Сибири//Изв. Сибирского Отдела Импер. Русского Географ. Общества. 1873. Т. 4, № 2.