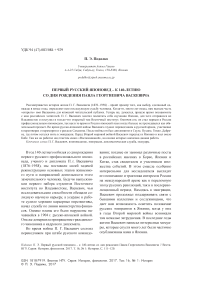Первый русский японовед - к 140-летию со дня рождения Павла Георгиевича Васкевича
Автор: Подалко Петр Эдуардович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается история жизни П. Г. Васкевича (1876-1958) - яркий пример того, как выбор, сделанный однажды в юные годы, определяет всю последующую судьбу человека. Когда-то, много лет назад, нам выпала честь «открыть» имя Васкевича для японской читательской публики. Теперь же, думается, пришло время познакомить с ним российских читателей. П. Г. Васкевич захотел посвятить себя изучению Японии, для чего отправился во Владивосток и поступил в только что открытый там Восточный институт. Окончив его, он стал первым в России профессиональным японоведом, так как в то время в России японский язык нигде больше не преподавался как обязательный предмет. Во время русско-японской войны Васкевич служил переводчиком в русской армии, участвовал в переговорах о перемирии и о разделе Сахалина. После войны он был дипломатом в Сеуле, Пусане, Токио, Дайрене, где потом остался жить в эмиграции. Перед Второй мировой войной Васкевич переехал в Японию и жил около Кобе. Там же он работал над текстом своих «Воспоминаний», на основе которых написана данная работа.
П. г. васкевич, японоведение, эмиграция, дипломатическая служба, мемуары
Короткий адрес: https://sciup.org/147219686
IDR: 147219686 | УДК: 94
Текст научной статьи Первый русский японовед - к 140-летию со дня рождения Павла Георгиевича Васкевича
В год 140-летнего юбилея со дня рождения первого русского профессионального японоведа, ученого и дипломата П. г. Васкевича (1876–1958), мы поставили своей задачей реконструкцию основных этапов жизненного пути и направлений деятельности этого замечательного человека. Будучи выпускником первого набора студентов Восточного института во Владивостоке, Васкевич, чьи исследовательские способности обещали солидную научную карьеру, а усердие в работе сулило хорошие карьерные перспективы, начал службу по линии министерства финансов. Однако планы его были нарушены начавшейся в 1904 г. русско-японской войной. Она же довершила превращение гражданского чиновника в кадрового дипломата.
Во время войны П. Г. Васкевич состоял переводчиком при штабе русского командо- вания; позднее он занимал различные посты в российских миссиях в Корее, Японии и Китае, став свидетелем и участником множества событий. В этом смысле особенно интересными для исследователя выглядят его понимание и трактовка интересов России на международной арене как в переломную эпоху русских революций, так и в послереволюционный период. Находясь в эмиграции, Васкевич продолжал поддерживать связи с бывшими коллегами и сослуживцами, что дает нам возможность осветить положение русских эмигрантов в Японии, когда у них в годы Второй мировой войны возникали там немалые затруднения. В последние годы жизни Васкевич написал интересные мемуары, которые спустя много лет были частично опубликованы нами в Японии.
Подалко П. Э. Первый русский японовед – к 140-летию со дня рождения Павла Георгиевича Васкевича // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 1: История. С. 111–120.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 1: История © П. Э. Подалко, 2017
Мы уже обращались ранее к судьбе П. Г. Васкевича [Подалко, 2002], упоминания о жизни и деятельности этого человека содержатся также в некоторых публикациях по истории русско-японских отношений, организации изучения японского языка в России и дипломатической работы русских представителей в Японии [Lensen, 1968; Алпатов, 1988; Серов, 1994; Российские востоковеды..., 1998], но вплоть до настоящего времени доступные нам архивные и рукописные материалы оставались еще не полностью введенными в научный оборот для российского читателя. Наша работа призвана восполнить этот пробел. Автор также выражает свою глубокую и искреннюю признательность русским эмигрантам, японским и российским ученым и всем другим лицам, благодаря помощи которых был собран материал для данной статьи.
Павел Васкевич родился 16 декабря 1876 г. в С. Белеве Заславского уезда Волынской губ., в семье сельского священника. Окончив на казенный счет Волынскую духовную семинарию и отбыв срочную службу в армии, Васкевич собирался продолжить образование в Сельскохозяйственном институте 1. Но узнав о скором открытии во Владивостоке Восточного института, он изменил свои планы и решил закончить свое образование там, посвятив себя изучению Японии (Воспоминания. С. 3, 13). Прибыв во Владивосток за три месяца до открытия института, Васкевич устроился на службу в контору агента КВЖД Дыновского, который назначил ему жалование выше обычного, как лицу, не имевшему прочих средств к существованию. Позднее, уже в бытность студентом, в кондуитной книге Восточного института за 1900 г. Васкевичем были записаны о себе следующие сведения: «Свидетельство на жительство, входной билет и инструкцию получил и исполнять установленные в Восточном Институте правила для студентов обязуюсь. Место жительства: Миссионерская улица, дом Га-лецкого, кв. Рутковского» 2.
Перед открывшимся 21 октября 1899 г. Восточным институтом стояла задача «подготовлять учащихся в нем лиц к службе в административных и торгово-промышленных учреждениях Восточно-Азиатской России и прилегающих к ней Государств» [ПСЗ-III, 1902. № 16940. С. 518, 521], для чего наряду с преподаванием в нем живых языков стран Дальнего Востока впервые ставилась комплексная задача решить проблему нехватки специалистов – знатоков указанных стран. Первый набор учащихся состоял из 26 (по другим данным, 27) студентов: принимались без экзаменов молодые люди, окончившие курс средних учебных заведений всех типов и ведомств [Серов, 1994; Хохлов, 1994; ДВГУ..., 1999. С. 13, 33]. Но далеко не все из поступивших прошли полный курс обучения: уже к третьему курсу в институте оставалось лишь 15 чел. из первого набора.
В России японский язык также преподавался в Петербургском университете (с 1888 г.), но на факультативной основе: обязательным предметом он стал только в 1908 г., хотя кафедра японской словесности была создана там в 1898 г. Неудивительно, что в годы русско-японской войны Петербургский университет оказался не в состоянии направить в действующую армию ни одного переводчика с японского языка, о чем руководство официально известило военное командование. Таким образом, вплоть до 1903 г. (год окончания Васкевичем Восточного института) «японоведами» (или «японологами») в России становились выпускники Петербургского восточного факультета по «китайско-маньчжурско-монгольскому разряду», т. е. фактические «китаеведы» (такие как Е. Г. Спаль-вин или Д. М. Позднеев). Недостаточность полученных ими знаний относительно Японии и ее языка они были вынуждены впоследствии компенсировать дополнительным усиленным трудом [Алпатов, 1988. С. 21, 23, 30; Российские востоковеды..., 1998. С. 9–10, 14].
Иной была ситуация в Восточном институте, где уже после окончания студентами первого курса существовало разделение их на самостоятельные китайско-японское, китайско-корейское, китайско-маньчжурское и китайско-монгольское отделения, при этом собственно «китайско-китайское» отделение отсутствовало. Таким образом, оказавшийся в итоге единственным выпускником самого первого набора китайско-японского отделения Восточного института П. Г. Васкевич стал первым в России профессиональным японоведом, чье образование подчинялось главной задаче – всестороннему изучению языка, а также особенностей культуры, истории и экономического развития Японии, ставшей к тому времени основной соперницей России на Дальнем Востоке. В год окончания Васкевичем Восточного института будущие прославленные японоведы С. Г. Елисеев (1889–1975), Н. А. Невский (1892–1937), Н. И. Конрад (1891–1970) еще учились в гимназиях; с каждым из них судьба сведет его позднее, в годы службы Васкевича в посольстве России в Токио.
После второго курса (1901) студенты японского отделения были командированы в Токио. Там они посетили российское представительство, где их принял посланник А. П. Извольский (1856–1919), будущий министр иностранных дел. Тогда же состоялось знакомство Васкевича с православным первосвятителем Японии, архиепископом Николаем (Воспоминания. С. 15–16). Летом 1902 г. окончивший третий курс Павел Васкевич получил от Конференции института задание обследовать в торгово-промышленном отношении район Хокурику от порта Цуруга до порта Ниигата (оба были связаны с Россией регулярными рейсами Добровольного флота). Шестого мая 1902 г. он выехал из Владивостока в Японию и возвратился назад 19 августа, затратив на все путешествие около трех с половиной месяцев. Вчерашнего третьекурсника интересовали муниципальные органы, биржи, фабрики, торгово-промышленные палаты, банки, налоговая система, динамика численности населения и мн. др. В своем отчете Васкевич, кроме описания городов и портов, дал также подробные исторические справки и географические обзоры по всем четырем западным префектурам Японии, через которые пролегал его маршрут [1903].
Как отмечал сам П. Г. Васкевич, он повсюду встречал самое предупредительное отношение и желание помочь в выполнении его задания, хотя и ему, и всем было ясно, что японцы принимали его не за «команди- рованного для изучения округа, ближайшего к Приморской области», а попросту за шпиона, маскирующегося под «исследователя». Впрочем, некоторые инциденты все-таки имели место, и Васкевич был даже вынужден обратиться к посланнику в Токио с просьбой о поддержке, после чего японское министерство внутренних дел уведомило местную полицию о маршруте и официальных целях его визита. Однако японская полиция вплоть до выезда Васкевича из Японии не переставала следить за каждым его шагом, так что лишь заступничество знакомых влиятельных японцев уберегло его от возможных неприятностей [Васкевич, 1904. С. 300, 304–305] (Воспоминания. С. 18).
Результатом этой поездки, которую ректор Восточного института А. М. Позднеев в письме (30 апреля 1903 г.) к заведующему дипломатической канцелярией наместника на Дальнем Востоке г. А. Плансону оценил как «прекрасную», стал отчет, удостоенный золотой медали, который после публикации его в «Известиях Восточного института» был также отмечен в российской прессе, и позднее, уже во время войны с Японией, вышел во Владивостоке отдельным изданием [Васкевич, 1904; Хохлов, 1994. С. 43]. Судя по всему, уже тогда уровень знания Васкевичем японского языка позволял ему не только поддерживать разговоры на бытовые темы, но и читать специальную литературу и статистические материалы с особой терминологией. По положению, студенты Восточного института уже на втором курсе должны были читать по-японски газеты и журналы, разбираться в скорописи, вести разговор на общебытовые темы, а ко времени окончания четвертого курса владеть иероглификой в объеме до 3 000 знаков, переводить военно-политические статьи, составлять деловые бумаги, знать основы частной и официальной переписки. Уровень же владения китайским языком позволял Васкевичу при случае вести на нем беседу на равных с изучавшими этот язык японцами [Васкевич, 1904. С. 295; ДВГУ..., 1999. С. 28].
Первый выпуск студентов Восточного института состоялся 15 мая 1903 г.. Васкевич был определен на службу в Амурскую казенную палату министерства финансов в Хабаровске, откуда его сразу же командировали во Владивосток для обследования быта японцев, проживавших на Дальнем Востоке. Результатом этого задания стала работа «Очерк быта японцев в Приамурском крае» [1905], в которой Васкевич обратился к проблеме иностранной колонизации Приморья, отдельно рассматривая при этом историю вопроса, специализацию поселенцев по отраслям занятости, органы их самоуправления, динамику роста численности японцев в разных населенных пунктах Приморья, и т. п. Рукопись была закончена автором 24 января 1904 г. – в день, когда началась русско-японская война.
С началом войны П. Г. Васкевич был вызван в Мукден в штаб главнокомандующего русской армией в Маньчжурии и вскоре назначен драгоманом в дипломатическую канцелярию наместника на Дальнем Востоке адмирала Е. И. Алексеева. В Мукдене он был свидетелем встречи наместника с новым командующим Тихоокеанским флотом вице-адмиралом С. О. Макаровым (1848/49– 1904). После упразднения наместничества и расформирования дипломатической канцелярии прапорщика Васкевича прикомандировали к генерал-квартирмейстерской части штаба главнокомандующего, которым был теперь назначен генерал-лейтенант А. Н. Куропаткин (1848–1925). На этой должности Васкевич оставался и после замены Куропаткина генерал-лейтенантом Н. П. Линевичем (1839–1908) вплоть до заключения перемирия в войне. В отчете генерал-квартирмейсте-ра, генерал-майора генштаба В. А. Оранов-ского, кстати сказать, была особо отмечена проблема нехватки в годы войны профессионально подготовленных переводчиков, кроме студентов и выпускников Восточного института, которые были «единственные надежные и интеллигентные переводчики». Думается, столь высокая оценка была дана не случайно: основным переводчиком на переговорах между генералом Орановским и японским генерал-майором Я. Фукусима при заключении перемирия был первый выпускник Восточного института П. Васкевич. Его имя упомянуто в книге участника переговоров с японской стороны А. Нагао, посвященной проблемам соблюдения международного права в русско-японской войне [Нагао, 1911. С. 1000–1001, 1039; Тайны..., 1993. С. 197– 200].
После заключения перемирия Васкевич выехал в Петербург через Японию, США и Европу. В Петербурге он осуществил план, который начал разрабатывать, еще находясь в действующей армии: после сдачи специального экзамена бывший чиновник Министерства финансов официально стал дипломатом. Рекомендацию в МИД Васкевичу подписал лично генерал Линевич. Первым местом службы Васкевича стало генеральное консульство России в Сеуле (после поражения в войне статус русского посольства в Корее был понижен). Тому поспособствовала опубликованная незадолго до этого в «Известиях Восточного института» статья, в которой он писал о политике Японии в Корее [Васкевич, 1906]. Здесь его начальником вновь стал Г. А. Плансон, новый генеральный консул России в Сеуле. Васкевич неоднократно участвовал в переговорах Плансона с князем Ито Хиробуми, возглавившим японскую администрацию в Корее.
Из Сеула П. Г. Васкевич в качестве члена разграничительной комиссии был командирован на Сахалин, южная часть которого по условиям мирного договора отошла к Японии. По окончании работ полковник Осима, глава комиссии с японской стороны, пригласил российских коллег в Токио, где они удостоились аудиенции у японского императора Мэйдзи. После возвращения из Токио Васкевич был назначен управляющим российским консульством в Фузане (совр. Пусан). Здесь при его участии произошел интересный случай, косвенно демонстрировавший изменение позиции японских правящих кругов в отношении России. Русское правительство накануне войны скупало на имена частных лиц земли по берегам незамерзающего порта Мазампо (совр. Масан) на нужды морского ведомства, имея целью создание здесь военной базы для Тихоокеанского флота, подобно Порт-Артуру. По условиям Портсмутского мира эти земли отходили теперь к Японии, и встал вопрос о праве России на частичную компенсацию в размере 50 000 иен, но обращение Васкевича по данному вопросу к японским властям было оставлено ими без ответа.
Спустя несколько месяцев Фузан посетил князь Ито Хиробуми, устроивший прием, на котором присутствовал Васкевич. Во время общей беседы Ито, помнивший Васкевича по прежним встречам, стал его расспрашивать о жизни в Фузане; когда же Васкевич поднял вопрос о земельных участках, Ито «улыбнулся, не стал входить в суть дела и тут же распорядился ускорить решение в благоприятном для России смысле. По его словам, просимая сумма не имела особого значения ни для японской, ни для русской казны, важным было лишь чтобы все наши отношения проходили без всяких шероховатостей» (Воспоминания. С. 38).
Вскоре после этого П. Г. Васкевич получил назначение в посольство России в Токио, где он затем прослужил в течение шести лет (март 1911 г. – июль 1917 г.) в должности драгомана при посольстве (двумя годами ранее Васкевич в течение нескольких месяцев уже работал в Токио, временно заменяя штатного драгомана А. К. Вильма) [Lensen, 1968. P. 52–53]. Здесь его обязанности нередко выходили за рамки чисто профессиональной деятельности. В Токио П. Г. Васкевич встречался с поэтом К. Д. Бальмонтом (1867– 1942) во время его визита в Японию, а также с российскими журналистами и писателями С. В. Яблоновским, В. И. Немировичем-Данченко и др. Была и встреча с протоиереем И. И. Восторговым, председателем московского отделения «Союза Русского народа» и настоятелем Покровского собора в Москве (храм Василия Блаженного). И. И. Восторгов во время посещения Токио не нашел отклика своим идеям среди сотрудников посольства, как и поддержки своим антисемитским заявлениям, сделанным им во время оказанного приема. О себе Васкевич тогда же заявил, что для него «несть ни эллина, ни иудея», и евреев, воспитанных на русской культуре, учившихся в русских школах, он считает «теми же русскими, так же любящими свою родину и желающими ей не меньше добра, чем другие» (Воспоминания. С. 45–46). Подобное отношение к национальному вопросу делает честь Васкевичу как государственному чиновнику России.
В первые месяцы после Февральской революции 1917 г. российские дипломатические миссии в странах Восточной Азии продолжали работать в прежнем режиме, во многом благодаря финансовой независимости посольств от революционного Петрогра- да: по соглашению с правительством Китая через отделения Русско-Китайского банка продолжали поступать суммы денежных компенсаций, которые китайское правительство выплачивало западным державам за ущерб, понесенный в ходе «боксерского восстания» 1900–1901 гг. В августе 1917 г. Васкевич получил назначение консулом в г. Дайрен (совр. Далянь, КНР), где он и проработал семь с половиной лет, вплоть до официального закрытия консульства в 1925 г. По собственному признанию Васкевича, на эти годы пришлась «самая тяжелая и неприятная полоса» в его жизни: появились беженцы из России, они рассчитывали на получение от консула помощи, которую он мог оказать далеко не всегда. Тем не менее Васкевич стремился по возможности принять участие в судьбе русских, для которых он был последней надеждой, как единственный представитель России в Дайрене, с которым считались местные чиновники.
Возникали и неожиданные проблемы, как, например, необходимость строительства нового здания консульства. Владелец прежнего здания предъявил бумаги, из которых следовало, что оно не является собственностью Российского правительства, но лишь было арендовано на длительный срок под условием ежегодного возобновления контракта. Теперь владелец желал прервать аренду, и приходилось искать новое помещение. Выход был найден следующий: поскольку еще до революции консульство арендовало у японской администрации земельный участок в центре города, Васкевич обратился в муниципалитет с просьбой разрешить продать часть участка, чтобы на оставшейся земле построить новое здание консульства. Покупку совершило Восточно-Колонизационное Общество, осуществлявшее политику Японии по заселению Южной Маньчжурии. За 100 000 иен на оставшемся участке было выстроено здание с квартирами и обстановкой для всех служащих консульства. Добрые отношения с руководством Колонизационного Общества сохранились у Васкевича на долгие годы, и в дальнейшем он не раз прибегал к его помощи для получения кредитов при проведении торговых сделок (Воспоминания. С. 53–54).
После прекращения деятельности дипломатических представительств бывшей Российской империи на территории Японии и подвластных ей районов Китая и Кореи, Васкевич купил недалеко от Дайрена, в Инченцзы, участок земли и стал фермером. В Дайрене П. Г. Васкевич с партнерами открыл молочный магазин, который быстро стал популярен среди русских эмигрантов. Один из мемуаристов русской эмиграции И. И. Серебренников, живший в те годы в Китае, так писал о своем переезде в Дайрен: «…мы лишь снимали… комнату, а стол решили иметь свой… недалеко от нас находился молочный магазин, принадлежавший бывшему русскому консулу в Дайрене, г. Васкевичу, и русская кондитерская и булочная, и мы могли обеспечить себя молоком, мясом и хлебом» 3.
Летом свой дом на молочной ферме Васкевич сдавал дачникам. Среди них был и знаменитый генерал, казачий атаман Г. М. Семенов (1890–1946). Любопытно мнение Васкевича о Семенове, которого он считал запасным японским козырем против большевиков на случай внезапного аннулирования последними итогов Портсмутского договора относительно юга Маньчжурии и Сахалина (?), причем, по словам Васкевича, японцы в Семенове «склонны были видеть того же своего рода Хитлера, который сумеет повести массы русского населения против большевиков, но атаман есаул Семенов был далек от капрала Хитлера, чтобы оставить после себя крупный след в истории революции, когда возможны всякие неожиданности» (Воспоминания. С. 61, 73).
Постепенно японский режим в Маньчжурии начал ужесточаться, и Васкевич стал все чаще подумывать о переселении в какое-нибудь другое, более спокойное и безопасное место. Около 1938 г. он продал свою ферму и прочее имущество и переехал в Какахаси (морской курорт близ Дайрена), Узнав, что в Кобе готовится спуск на воду пассажирского лайнера, предназначенного для кругосветных путешествий, Васкевич загорелся идеей отправиться на нем в океанский круиз. Через несколько дней Васкевич уже был в Кобе, откуда началось его трехмесячное путешествие, в ходе которого он посетил Гонолулу, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, ряд городов на побережье Южной Америки и Африки, Таити, о. Цейлон и другие места. Описание этого путешествия было им опубликовано в нескольких номерах газеты «Харбинское время» в январе 1940 г.
В Кобе Васкевич вернулся преисполненный лучших чувств к японцам. Здесь он встретился с жившей неподалеку, в Сузуран-дае, вдовой своего сослуживца по посольству в Токио, занимавшего в разные годы должность русского консула в Кобе, Фузане и Нагасаки, В. А. Скородумова (1880–1932). Ему очень понравилось это место, и Васкевич начал готовиться к переезду из Дайрена в Кобе. Первое время он жил в Японии один, но с началом войны, узнав о неприятностях, возникших у его давнего знакомого, Д. И. Абрикосова (1876–1951), в прошлом – коллеги по посольству, а ныне эмигранта, проживавшего в Токио, он пригласил его поселиться вместе. Абрикосов с благодарностью принял это предложение, и вскоре вместе со своим небольшим имуществом перебрался в Кобе (Воспоминания. С. 70–73).
В годы Второй мировой войны положение иностранцев в Японии весьма осложнилось. Это коснулось не только граждан «враждебных стран» (т. е. США, Великобритании, Китая и Нидерландов), но и даже представителей нейтральных государств, к которым в качестве «лиц без гражданства» были причислены и русские эмигранты. Для поездки из Кобе в Осаку нужно было получать специальное разрешение в полиции. Все эмигранты должны были регулярно являться в полицию для отметки либо принимать у себя дома рядовых полицейских. Однажды пришедшие с обыском полицейские обнаружили у Васкевича радиоприемник с диапазоном приема коротких волн, что было строжайше запрещено. Несмотря на то, что радио уже давно не работало на коротких волнах, а сам приемник был сломан, они начали тщательно обшаривать дом. В ходе обыска они нашли географическую карту, показавшуюся им чрезвычайно подозрительной, так как на ней Япония была соединена с Германией линией, пересекающей территорию СССР. Вообразив, что перед ними какой-то секретный план, полицейские забрали с собой карту и ее владельца для допроса.
Васкевич категорически все отрицал. По его словам, в японских газетах, которые он регулярно читал, был опубликован план соединения Токио с Берлином прямой дорогой через Азию после победы в войне, и якобы он, Васкевич, мечтал быть первым путешественником, который мог бы проехать этим маршрутом. Стараясь запутать и запугать старика, на допросах его обвиняли во всех смертных грехах, вплоть до «государственной измены», хотя Васкевич не являлся подданным Японской империи, и, следовательно, этому государству изменить не мог. Продержав арестованного несколько часов в участке, его, наконец, отпустили домой.
Постепенно война шла к концу, и поражение Японии становилось все очевиднее. Участились налеты американской авиации, ставшие особенно разрушительными весной 1945 г., в результате чего многие эмигранты остались без домов. Среди пострадавших был старый знакомый Абрикосова Н. И. Бок с супругой. Васкевич, по просьбе товарища, разрешил чете Бок поселиться у себя. Л. И. Бок, заболев, вскоре скончалась, ее муж перебрался в Токио, а после войны вовсе покинул Японию. После наступления мира Д. И. Абрикосов также начал готовиться к отъезду. Наличие старых связей среди западных дипломатов облегчило ему получение американской визы, и в ноябре 1946 г. Васкевич в последний раз обнял своего навсегда уезжавшего товарища. Оставшись один, Васкевич прожил в Кобе еще 12 лет.
Он по-прежнему встречался с русскими эмигрантами и их потомками, особенно со знаменитым купцом Ф. Д. Морозовым (1880– 1971) и его семейством, вспоминал о своем участии в русско-японской войне, обсуждал с ними политические новости. Так, П. Г. Васкевич отрицательно отнесся к советской оккупации Курильских островов, считая эту акцию нелегитимной, нарушающей прежние договоры между Японией и Россией. Вскоре после войны Васкевич узнал от кого-то о том, что в построенном им здании русского консульства в Дайрене после занятия города частями Советской армии разместилась служба НКВД, и подвал дома был превращен во временный каземат. Дошло до него также известие об аресте атамана Семенова, и он не мог не порадоваться тому, что сам вовремя покинул Маньчжурию.
П. Г. Васкевич завещал кремировать себя после смерти, что и было в итоге сделано после православного отпевания. Хлопоты по устройству похорон взял на себя В. Ф. Морозов (сын Ф. Д. Морозова, 1911–1999). Место для могилы было выбрано им на Иностранном кладбище Кобе, неподалеку от покоящихся там же других русских эмигрантов.
Относительно семейной жизни Васкевича известно, что после русско-японской войны он женился на дочери генерал-майора по Адмиралтейству Нине Владимировне Ломан, православного вероисповедания, но уже в сентябре 1916 г. брак был официально расторгнут Епархиальным руководством в Петрограде (в это время сам Васкевич находился на службе в Токио), хотя, судя по сохранившейся переписке Васкевича, разъехались супруги гораздо раньше 4. В этом браке родились две дочери – Тамара (род. 18 октября 1908 г.) и Нина (род. 1 октября 1914 г.). Старшая дочь Тамара после развода родителей жила с отцом, но рано умерла, будучи совсем молодой (судьба Нины нам неизвестна). Из родственников Павла Георгиевича известна также племянница Ида (Еликонида Николаевна Ткаченко-Карамзина, 1904–1988), дочь его брата Николая. После начала Первой мировой войны, когда Николай Васкевич ушел на фронт, он отправил Иду со своей сестрой Ольгой в Маньчжурию к брату Павлу. Позднее, уже будучи взрослой, Ида поселилась в Шанхае, где она вышла замуж за доктора Л. Ткаченко, родила сына, но вскоре овдовела. После войны семья была разлучена, и сын Иды Владимир Ткаченко оказался впоследствии в Советском Союзе. Она же сама некоторое время спустя вместе с другими русскими эмигрантами выехала в США. В Америке Ида повторно вышла замуж, ее вторым мужем был Алексей Александрович
Карамзин, внучатый племянник русского историка и писателя Н. М. Карамзина, который любезно согласился познакомить нас с некоторыми подробностями биографии П. Г. Васкевича.
Таким образом, исследованный нами жизненный путь П. Г. Васкевича позволяет оценить его как человека редкой, удивительной судьбы. Его долгая жизнь вместила в себя русско-японскую и две мировые войны, почти двадцать лет дипломатической службы, путешествия, научную работу, нелегкие годы жизни в эмиграции. «Память потомков» – вещь совершенно непредсказуемая; и здесь, в отличие от спорта, зачастую побеждает тот, кто пришел к финишу вторым. Новый Свет открыл Х. Колумб, а пролив между Чукоткой и Аляской – С. Дежнев, но на карте остались имена Америго Веспуччи и Витуса Беринга. Похожая судьба постигла и дипломата, ученого и писателя Павла Васкевича, который стал первым русским дипломированным японоведом, но оказался позднее забыт на долгие годы. Связав последние два десятилетия своей жизни с Японией, Васкевич переносил все испытания трудных военных лет вместе с японским народом, который он глубоко уважал и чьи обычаи почитал. Думается, более чем необходимо рассказать российским читателям об этом человеке, ставшем своеобразным «живым мостом» между Россией и Японией, ярким примером того, какую роль играет порой Япония в судьбе россиян.
Список литературы Первый русский японовед - к 140-летию со дня рождения Павла Георгиевича Васкевича
- Алпатов В. М. Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. 192 с.
- ДВГУ. История и современность. 1899-1999. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1999. 704 с.
- Нагао А. Нитиро рикусэн кокусай хо:рон (Русско-японская война и международное право). Токио, Кайко:ся, 1911. 1095 С. (на яп. яз.)
- Подалко П. Э. Павел Васкевич - ученый, дипломат, путешественник: к 125-летию со дня рождения // Acta Slavica Iaponica. 2002. Vol. 19. P. 265-295.
- Российские востоковеды: страницы памяти. М.: ИД «Муравей», 1998. 230 с.
- Серов В. М. Становление Восточного института (1899-1909) // Известия Восточного института. Владивосток, 1994. Вып. 1. С. 14-36.
- Тайны русско-японской войны. М.: Прогресс-академия, 1993. 326 с.
- Хохлов А. Н. А. М. Позднеев - основатель Восточного института во Владивостоке // Известия Восточного института. Владивосток, 1994. Вып. 1. С. 37-47.
- Lensen G. А. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia. Tokyo: Sophia University & Diplomatic Press, 1968. 301 p.