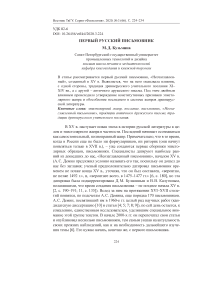Первый русский письмовник
Автор: Кузьмина Марина Дмитриевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается первый русский письмовник, «Неозаглавленный», созданный в XV в. Выявляется, что на него оказывала влияние, с одной стороны, традиция древнерусского учительного послания XI- XIV вв., а с другой - античного дружеского письма. Под этим двойным влиянием происходило утверждение конститутивных признаков эпистолярного жанра и обособление последнего в системе жанров древнерусской литературы.
Эпистолярный жанр, послание, письмовник, "неозаглавленный письмовник", традиции античного дружеского письма, традиции древнерусского учительного послания
Короткий адрес: https://sciup.org/146281713
IDR: 146281713 | УДК: 82-6 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.224
Текст научной статьи Первый русский письмовник
В XV в. наступает новая эпоха в истории русской литературы в целом и эпистолярного жанра в частности. Последний начинает осознаваться как самостоятельный, полноправный жанр. Примечательно, что в то время, когда в России еще не было ни формулярников, ни риторик (они начнут появляться только в XVII в.), – уже создаются первые сборники эпистолярных образцов, письмовники. Специалисты датируют наиболее ранний из дошедших до нас, «Неозаглавленный письмовник», началом XV в. (А. С. Демин предложил условно называть его так, поскольку он дошел до нас без заглавия; ученый предположительно датировал письмовник временем не позже конца XV в., уточняя, что он был составлен, «вероятно, не позже 1492 г.», и, «вероятнее всего, в 1475–1477 гг.» [6, с. 180], но эта датировка была подкорректирована Д. М. Буланиным и В. В. Калугиным, полагавшими, что время создания письмовника – не позднее начала XV в. [2, с. 190–191; 11, с. 135]). Вслед за ним на протяжении XVI–XVII столетий появятся, по подсчетам А. С. Демина, еще порядка 170 письмовников. А. С. Демин, посвятивший им в 1960-е гг. целый ряд научных работ (кандидатскую диссертацию [10] и статьи [4; 5; 7; 8; 9]), по сей день остается, к сожалению, единственным исследователем, уделившим специальное внимание этой группе текстов. В начале 2000-х гг. он перепечатал свои статьи и опубликовал несколько письмовников, тем самым указав на актуальность своих прежних наблюдений, как и на необходимость дальнейшего изучения темы [6]. Его нужно начать, конечно же, с первого письмовника.
Первый, «Неозаглавленный» [14] (далее цитируется с указанием страницы в скобках), письмовник еще в основном находится под влиянием средневековых традиций. В соответствии с ними он ориентирован отнюдь не на светскую дружескую переписку частных лиц. Абсолютное большинство содержащихся в нем образцов писем предназначено для отправки представителям Церкви и государства, то есть именно тем, кто играл ведущую роль как в эпистолярии XI–XIV вв., так и в целом в русской литературе и жизни той эпохи. В письмовнике всячески подчеркивается исключительная высокость положения адресатов, их облеченность властью: «Послание к властелину» (574, 577), «Послание к владыке» (574), «…иже во власти чернцу» (575), «…к великому старцу» (575, 578) и т. п. В числе адресатов писем такие высокопоставленные представители духовенства и монашества, как митрополит, архиепископ, епископ, игумен, и не менее высокопоставленные представители государства – царь, князь. При этом образцы посланий к представителям Церкви количественно преобладают (их вдвое больше), и в одной из редакций именно они занимают первые места в письмовнике, что говорит о традиционном религиозном сознании его составителя, для которого незыблема иерархия Церковь – государство. Как можно видеть, для него актуальна и иерархия внутри обоих институтов.
С опорой на эту иерархию в образцах писем выстраиваются отношения адресантов и адресатов. В большинстве случаев первые, правда, деконкретизированы. Исключений всего три: «Послание к митрополиту от епископа» (576), «Послание властелина калогером» (577), «Послание от ученика к старцу о прощении» (579). Примечательно, что два из трех адресантов – облеченные властью представители Церкви и государства («епископ», «властелин»), под стать адресатам. Третий, «ученик», – вероятно, тоже представитель Церкви, подвижник-монах. Другие – декон-кретизированные – адресанты тоже в большинстве своем, скорее всего, не простые люди, поскольку мало кто дерзнул бы напрямую обратиться, скажем, к митрополиту или царю, нарушив иерархию. Можно думать, что сама деконкретизированность адресантов показательна: составитель письмовника как бы посовестился назвать тех, кто занимает столь высокое положение и кого он, в силу этого положения, не вправе обучать эпистолярному мастерству. Вместе с тем деконкретизированность адресантов, конечно, давала возможность широкого применения письмовника. С опорой на помещенные в нем образцы писем люди, занимающие разное положение в церковной или гражданской иерархии, могли в случае необходимости обратиться к представителям власти.
Вне зависимости от того, артикулировано ли сколько-нибудь положение адресанта в церковной или гражданской иерархии или нет, оно непременно ниже, чем положение адресата. В приведенных примерах епи- скоп пишет к митрополиту, «властелин» к «калогеру» (в переводе с греческого – «добрый старец», принятое в древних греческих монастырях обращение младшего к старшему из монашествующих), ученик – к старцу. Взгляд снизу вверх чувствуется и в других посланиях. А.С. Демин в свое время с некоторым недоумением отмечал: «“Письмовник” был составлен, вероятно, на каком-то местном церковно-монастырском материале. Однако ни одно из его посланий не кончается благословением адресату, а духовные авторы обычно своих адресатов благословляют» [6, с. 193], – из чего делал предположение, что «…“Письмовник” предназначался для лиц светских» [Там же]. Предположение ученого небезосновательно, хотя, на наш взгляд, письмовник предназначался как для светских, так и для духовных лиц. Мы уже говорили о таких адресантах, как «епископ» и «ученик». Отмеченное же А. С. Деминым отсутствие благословения в конце письма свидетельствует лишь о том, что письмо направлено от нижестоящего к вышестоящему, поскольку не только мирянин не имеет права благословлять представителя духовенства, но и нижестоящий в церковной иерархии – вышестоящего.
Основополагающая в текстах письмовника вертикаль: адресант ниже адресата – поддерживается на всех уровнях каждого из посланий и придает ему целостность. В свете этой вертикали очень логичны те особенности, которые складывались еще в древнерусском эпистолярии XI–XIV вв. и которые как бы закрепляются за эпистолярным жанром в рассматриваемом письмовнике.
В первую очередь это составляющее прескрипт развернутое, комплиментарное обращение к адресату, которому уделяется максимальное внимание при минимальном внимании автора к самому себе, что обусловлено, разумеется, смирением последнего и «любовью о Христе» [1], убежденностью, что только адресат заслуживает такого внимания. Здесь можно увидеть, с одной стороны, отражение традиций русской литературы XI–XIV вв., а с другой – влияние этикета античного дружеского письма, предписывавшего ставить на первое место и всячески превозносить адресата.
Обращение к адресату в письмовнике состоит по большей части из эпитетов, раскрывающих его высокое положение в духовной или гражданской иерархии, а также его не менее высокие христианские добродетели, то есть по содержанию оно совершенно традиционно для древнерусской эпистолографии. Создается идеализированный образ, обе грани которого – официальный статус и статус христианина – нераздельны. Так, «владыка», то есть архиерей, характеризуется как «преосвященный и пречестной, и Господом избранный, апостолам сопрестольник, учителем сопричастник, пастырям истинный единомысленник…» (574), царь – как «благородный, боголюбивый, и Богом почтенный, и Богом воз- любленный, самодержавный, и превысокий, и благоверный государь…» (577). Нетрудно заметить, что определение, указывающее на официальное положение адресата («преосвященный» в случае архиерея, «самодержавный» – царя), совершенно теряется на фоне оценочных эпитетов, аттестующих его как идеального христианина. Устанавливаются причинно-следственные отношения: хороший христианин – следовательно, и хороший архиерей, царь, князь и т. п.: ревностно служащий Богу и людям, любящий Бога и людей, милосердный, добрый отец и пастырь.
Именно этим приоритетом христианских добродетелей в характеристике адресатов письмовника объясняется отмеченная А.С. Деминым особенность: «К двум главным адресатам – к великому князю и ко владыке составитель обращается со сходными приложениями и сравнениями» [6, с. 194]. В сущности, обращения не только к великому князю и владыке, но и ко всем адресатам друг другу практически полностью синонимичны. Эта особенность была характерна и для древнерусского эпистолярия XI–XIV вв. В письмовнике она более чем естественна, ведь индивидуализация обращений возможна лишь в живом эпистолярном общении, но никак не в образцах писем.
Однако в «Неозаглавленном письмовнике» синонимичны не только обращения к разным адресатам. Синонимичны обращения к одному и тому же лицу в пределах каждого отдельного послания (в той части, где адресат изображается как христианин), – и потому, казалось бы, избыточны. Обязательное наличие длинного ряда близких друг другу по смыслу комплиментарных характеристик не было свойственно древнерусскому посланию XI–XIV вв. В ту эпоху авторам-представителям духовенства и монашества оно должно было казаться неполезным как для них самих (празднословие), так и для их адресатов (не располагало к смирению). Тем примечательнее эта особенность в письмовнике XV в. А.С. Демин резонно полагал, что «…повторение синонимов здесь служит официальности: каждое качество и действие адресата как бы отражается во множестве зеркал» [Там же, с. 194]. Вместе с тем нанизывание комплиментарных эпитетов, связанных между собой по принципу синонимизации или градации (ср.: «благородный, боголюбивый, и Богом почтенный, и Богом возлюбленный») и нередко содержащих тавтологию, придают обращению к адресату небывалую эмоциональность. Актуализируется стиль «плетения словес» и в целом тот эмоционально-экспрессивный стиль, который, как известно, получил развитие в русской литературе, прежде всего в агиографическом жанре, с конца XIV – начала XV в. и знаменовал наступление Предвозрождения. Идеализирующие характеристики адресата письма очень близки к идеализирующим характеристикам героев житий. Несомненно, что в обоих жанрах они выполняют схожие функции. Напомним ставшую классической характеристику Д. С. Лихачева:
«Поиски слова, нагромождения эпитетов, синонимов и т. д. обусловливались представлениями о тождестве слова и сущности, Божественного писания и Божественной благодати <…>. Напряженные поиски эмоциональной выразительности, стремление к экспрессии основывались на том убеждении, что житие святого должно отразить частицу его сущности, быть написанным “подобными” словами и вызывать такое же благоговение, какое вызывал и он сам. Отсюда бесконечные сомнения авторов и полные нескрываемой тревоги искания выразительности, экспрессии, адекватной словесной передачи сущности изображаемого» [13, с. 23–24] (см. также: [3; 12, с. 36–39; 15]).
Вслед за развернутым комплиментарным обращением к адресату в прескрипте – письмовник узаконивает и такую черту эпистолярного жанра, как противопоставление адресату, находящемуся на вершине духовного совершенства, – автора, характеризующего себя предельно кратко и смиренно: как «грешного» (574), «худого и недостойного» (574), «многим си недостоинством и отягченною леностию содержимого» (575) и т. п. Эта формула самоуничижения может занимать разное положение в композиции послания. В большинстве же текстов она располагается в основной части, в семантеме.
Выражавшая в русском эпистолярии XI–XIV вв. только «любовь о Христе» и смирение автора, антитеза «адресант-грешник – адресат-праведник» в рассматриваемом письмовнике начинает выполнять еще и прагматическую функцию. Равно как и сверхразвернутое и сверхкомплиментарное обращение к адресату в прескрипте, характеризующее его как идеального христианина. То и другое напрямую связано с основной целью письма и с основным содержанием семантемы. Большинство представленных в письмовнике посланий – просительные, что неудивительно, ведь они адресуются вышестоящим и власть имущим. В ряде случаев излагается прямая просьба о помощи («Мы, худии и недостойнии, принуждаем твою святость помощи нам о души и телеси» (575), «…прошу еже от тебе помощь и благодеяние, и еще да ми простиши и да ми не за-зриши» (576)), иногда просьба о молитве («Молит же тя наше недостато-чество твоея святости <…> поминутися и нам в священных ти молитвах» (576–567)).
На общем фоне посланий выделяются те, в которых адресант, напротив, сам молится об адресате: о его здравии, долголетии и благоденствии; желает ему радости – и ни о чем его не просит. Подобные образцы можно было бы считать образцами «бескорыстных» дружеских писем (и они, несомненно, сложились под влиянием античного дружеского письма, для которого было характерно пожелание здоровья, радости и благополучия адресату; примечательно, что здесь – под влиянием уже русской средневековой традиции, а также апостольских посланий – это пожела- ние облечено в форму молитвы), если бы не их официальный тон и отсутствие «равноправия» корреспондентов (нижестоящий пишет вышестоящему). Назовем эти послания собственно комплиментарными, в отличие от большинства – просительных.
В большинстве же – просительных – посланий молитва об адресате либо предваряет (завершает) просьбу, либо включает ее в себя. Ср.: «Мы, худии и недостойнии, аще и многими грехи обложени, но обаче молим Господа Бога и Того Пречистую Матерь о многолетии живота и здравии святого ти царства, и великого господства, и державного, и славного, велика ти княжения, еже презрети к нам, и присетити, и ущедрити, и помиловати…» (574), «…молим Господа Бога и Того Всенепорочную Матерь <…> иже пребывати твоей святости и всегда в всяком просвещении душевнем и телеснем <…>. Имуще ти о нас, грешных, молитися, и всегда прощати нас, и покрывати твоими святыми молитвами» (575). Просьба может быть вплетена в комплиментарную характеристику адресата-христианина в прескрипте, как это сделано в послании к «владыке»: «Преосвященному, и пречестному, и Господом избранному, <…> учителем сопричастнику, истинным единомысленник, и мног в мудрости, <…> многим и великим архиереем слава, царем же и князем, и всем людям похвала и величие, нам же, грешным, заступник и помощник, и покровитель, и посетитель, яко сый пастырь словесных овец стада Христова, Богом поставленному…» (574). Примечательно, что составитель письмовника в одном из посланий даже квалифицировал текст как «челобитье» и «моленье» (574). Тем самым им была предпринята попытка дифференцировать жанровые разновидности письма с опорой именно на тот критерий, который играл определяющую роль и прежде, в XI–XIV вв., – на критерий цели.
Каким бы из означенных путей ни пошел автор, излагая свою просьбу в послании-«челобитье» («моленье») (напрямую или инкрустируя ее в молитву либо комплиментарное обращение к адресату), он заканчивает письмо тем же, чем и автор чисто комплиментарного послания, – молитвой об адресате (в ряде случаев – также и о его семье), вновь – не без влияния античного дружеского письма – включающей в себя добрые пожелания ему. Тем самым и официальная, и эмоциональная тональность эпистолярного текста получают логическое завершение. Образ адресата остается своего рода центром от самого начала и до самого конца, в соответствии одновременно и с русской традицией смирения и «любви о Христе», и с античной традицией дружеского эпистолярного общения.
О том, насколько последняя упрочивала свои позиции в русской литературе XV в., свидетельствует тот факт, что в целом ряде посланий составитель письмовника не удовольствовался молитвой об адресате в конце текста. Наряду с ней в клаузулу введен характернейший мотив дру- жеского письма – мотив преодоления расстояния между корреспондентами. Во-первых, преодоление расстояния мыслится через молитву друг за друга, любовь друг к другу (еще один пример, демонстрирующий, как новая традиция приживалась на старой – христианской – почве), воспоминаниями друг о друге (ср.: «И о сем воспоминаем царству ти или господству ти» (577), «…любовную память неоскудно имам к святыни ти, отнудь недостаточен есмь» (577), «…молитвою твоею жив есмь телесне. Аще же есмы телом разно, но духом вкупе» (578)). Во-вторых, выражается надежда на ответное письмо («Многовжеленное ми желание и неоскудно известити си о святыни ти, где и какое еси…» (577)) и даже на встречу («Прочее же молю твою красную старость и еже нам вжеленный твой образ неуклонен быти еже к моей худости посещением и молитвою твоею благою» (578)).
По-видимому, осознавая новизну этих мотивов в клаузуле, составитель письмовника значительное количество посланий завершает неведомым древнерусской литературе и эпистолярной традиции до XV в. словом «Конец». Но по той же причине – осознавая новизну и как бы пугаясь ее, – он тут же дополняет этикет светского дружеского письма привычным средневековым этикетом. Клаузула удваивается. Она предлагается читателю сначала в вышерассмотренном варианте, испытавшем влияние светского дружеского послания, а затем – в традиционном древнерусском варианте, то есть как бы переводится на другой, хорошо знакомый читателю язык. Содержание ее теперь составляет обращенная к Богу молитва автора об адресате (а в ряде случаев также и о самом себе, за счет чего вновь получает развитие тема автора-«грешника», нуждающегося в милости и помощи) и традиционное для древнерусских текстов завершение словом «Аминь».
В результате большинство посланий содержат нарочитую семантическую избыточность, производят впечатление многословных, изобилующих повторами (при весьма небольшом объеме текста) и стилистически неоднородных. Приведем характерный пример: «Молю иже в Троице славимого Бога и Того Всенепорочную Матерь, яко да пребывает господство ти в милости Божией <…>. Конец. Всеблагий Бог в благих да умножит лета летом господства ти. Аминь» (577). Подобные примерны наглядно демонстрируют процесс перестройки эпистолярного жанра в русской литературе.
Этот процесс очень наглядно демонстрируют также тексты двух последних посланий письмовника, до сих пор остававшиеся за пределами нашего внимания. Они выделяются на общем фоне. Очевидно, осознавая это, составитель расположил их последними – как послания, с его точки зрения, недостаточно этикетные и репрезентативные. В отличие от предшествующих текстов, эти два выполнены не в традициях официаль- ного общения. Их адресаты не охарактеризованы по своему положению в церковной или гражданской иерархии. Соответственно, не актуализируется вертикаль: автор-нижестоящий, адресат-вышестоящий. Оба послания примечательны тем, что предполагают «равноправные» отношения участников эпистолярного общения.
Первое из этих двух посланий адресовано «брату» и представляет собой, как очевидно, один из наиболее ранних русских вариантов дружеского письма. Характерно, что адресат еще – в средневековой традиции – позиционируется как «брат». Несомненно, прежде всего брат во Христе, но также это может быть и кровный брат, и одновременно – это друг.
По структуре и содержанию данное письмо мало чем отличается от вышерассмотренных. Прескрипт представлен комплиментарным обращением к адресату, характеризующим его как идеального христианина («Всечестному и духовне изрядному господину и брату…» (578)). Далее вводится мотив радости («…метание творя твоей святыни с духовным и обычным порадованием…» (578)), антитеза адресата-праведника и автора-грешника («…аще и недостаточен есмь…» (578)). Отношения корреспондентов остаются иерархичными только в этом плане. Вероятно, считая недостаточной такую иерархичность и стремясь придать обращению к адресату более официальный, уважительный тон, общий предшествующим посланиям, составитель начал обращение словом «господин». Семантему он, как и в ряде предшествующих посланий, посвятил молитве об адресате. Но семантема-молитва в данном случае нарочито редуцирована, а та сложившаяся под влиянием античного дружеского письма часть, в которой развивается мотив преодоления расстояния между корреспондентами, расширена. Вследствие этого вновь акцентируется «равноправие» адресанта и адресата, характерное для дружеского письма: «…молю всех Творца Бога Исуса Христа и Пречистую Богородицу, аще и недостаточен есмь на се <…> обрести святыню твою <…> здравствующа. И аз покровом и милосердием Господним и Пречистыя Богородицы и молитвою твоею жив есмь телесне. Аще же есмы телом розно, но духом вкупе» (578). Между строк очевидно читается, что «духом вкупе» – во-первых, через веру в Бога и молитву друг за друга, а во-вторых, через дружбу и память друг о друге. Как и в предшествующих посланиях, завершив клаузулу словом «Конец», составитель затем транслитерировал ее в средневековую традицию: «Господь молитвами Святых Отец помощник и покровитель купно тебе и мне да будет. Аминь» (578). При всей традиционности этой формулы, она в данном случае логично продолжает и упрочивает тему дружеского «равноправия» адресанта и адресата, выдвигая ее на роль ведущей.
Второе послание в значительной степени противоположно первому: оно сфокусировано отнюдь не на дружеских чувствах. Это «Послание о супротивном». Как видно даже по заглавию, оно посвящено теме, отнюдь не магистральной для древнерусской эпистолярной традиции, зиждущейся на христианском идеале любви, смирения и милосердия. Это же образец полемического послания, очевидно, связанный с расцветом – в том числе эпистолярной – публицистики, который состоится в русской литературе XVI в. и будет нести в себе элементы Возрождения, в частности веру в силу человеческого ума, ораторского мастерства, таланта (пере) убеждения и т. п. Но нельзя не отметить, что при всей новизне авторской интенции содержание послания традиционно. Текст всецело состоит из тезисов Священного Писания – либо буквальных, либо несколько перефразированных цитат («Научен есмь от Христа не боятися от убивающих тело, душу же не могущих убити <…>. Наг изыдох из чрева матери моея, наг и отыду тамо. Ничто же есмь внеся в мир сей, яве не изнести могу» (578); ср. в Священном Писании: «…не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить…» (Мф. 10: 28), «…наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь» (Иов. 1: 21), «…мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него» (1 Тим. 6: 7) и т. п.), скомпонованных и преподнесенных именно так, как это нужно адресанту для достижения стоящей перед ним цели. Это единственное послание во всем письмовнике, которое лишено не только традиционной структуры (прескрипт, семантема, клаузула), но и вообще каких-либо жанровых признаков. Вероятно, составитель затруднился «эпистолярно» оформить текст, поскольку ни комплиментарное обращение к адресату, ни антитеза «адресант-грешник – адресат-праведник», ни другие характерные для предшествующих посланий элементы здесь, скорее всего, неуместны. В конкретной ситуации эпистолярного общения они могут быть введены или не введены автором по личному усмотрению. Строго говоря, «Послание о супротивном» – это всего лишь фрагмент с набором учительных тезисов-афоризмов, который можно включить в полемическое послание, равно как и в неэпистолярный текст.
Итак, уже первый, «Неозаглавленный», письмовник, созданный в XV в., при всей своей ориентированности на средневековый этикет, обнаружил целый ряд новых черт русской литературы и эпистолографии. Он испытал влияние античного дружеского письма, взаимодействовавшее с влиянием традиций древнерусского учительного послания XI–XIV вв. и вытеснявшее эти традиции. Содержащиеся в письмовнике эпистолярные образцы примерно на столетие предваряют образцы светского письма, складывавшегося, как принято считать, под пером русских европейцев Федора Карпова, Андрея Курбского и их современников. Возможно, эти образованные представители XVI в. учитывали «Неозаглавленный письмовник».
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design Higher School of Publishing and Media Technologies the Department of Book Publishing and Book Trading
About the author:
KUZMINA Marina Dmitrievna – Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Book Publishing and Book Trading, Higher School of Publishing and Media Technologies, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design (191180, St.-Petersburg, Dzhambula lane, 13), e-mail: mdkuzmina@mail. ru.
Список литературы Первый русский письмовник
- Антонова М.В., Ноздрачева Н.Л. "Любовь о Христе" в древнерусских посланиях // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 3. С. 162-169.
- Буланин Д.М. Письмовники // Словарь книжников и книжности Древней Руси: В 3 вып. Вып. 2. Вторая половина XIV-XVI в. Ч. 2. Л.: Наука, 1989. С. 188-193.
- Грихин В.А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV-XV вв. М.: Изд-во Московского ун-та, 1974. 64 с.
- Демин А.С. Вопросы изучения русских письмовников XV-XVII вв. (Из истории взаимодействия литературы и документальной письменности) // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 20. М.; Л.: Наука, 1964. С. 90-99.
- Демин А.С. Демократическая поэзия XVII века в письмовниках и сборниках виршевых посланий // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 21. М.; Л.: Наука, 1965. С. 74-79.
- Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину XVIII в. от Илариона до Ломоносова. М.: Языки славянской культуры, 2003. 758 с.
- Демин А.С. О литературном значении древнерусских письмовников // Русская литература. 1964. № 4. С. 165-170.
- Демин А.С. Об одном письмовнике XVI века // Ученые записки Азербайджанского педагогического университета им. С.М. Кирова. Сер. Истории и философии. 1964. № 5. С. 91-97.
- Демин А.С. Русский письмовник XV века // Ученые записки Азербайджанского педагогического института языков имени М.Ф. Ахундова. Сер. 12. Язык и литература. 1964. № 1. С. 68-77.
- Демин А.С. Русские письмовники XV-XVII веков. (К вопросу о русской эпистолярной культуре): дис. … канд. филол. н.: 10.01.01 / А.С. Демин; Ин-т русской литературы. Л., 1963. 454 с.
- Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М.: Языки славянской культуры, 1998. 416 с.
- Левшун Л.В. О слове преображенном и Слове Преображающем (попытка теологического подхода к категории Стиля в средневековой восточнославянской книжности) // Стил. 2009. № 8. С. 31-41.
- Лихачев Д.С. Некоторые вопросы изучения второго южнославянского влияния в России // Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. С. 7-56.
- Неозаглавленный письмовник // Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину XVIII в. От Илариона до Ломоносова. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 574-580.
- Пиккио Р. "Плетение словес" и литературные стили православных славян в позднем Средневековье // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М.: Знак, 2003. С. 633-656.