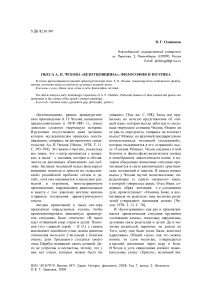Пьеса А. П. Чехова «Безотцовщина»: философия и поэтика
Автор: Одиноков В.Г.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается ранний драматургический опыт А. П. Чехова. Анализируются особенности проблематики и поэтики пьесы в контексте духовных исканий эпохи.
Общее дело, отцы и дети, философия, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14736952
IDR: 14736952 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Пьеса А. П. Чехова «Безотцовщина»: философия и поэтика
«Безотцовщина», раннее драматургическое произведение А. П. Чехова, написанное предположительно в 1878–1881 гг., имеет довольно сложную творческую историю. В рукописи отсутствовало даже заглавие, которое исследователям пришлось восстанавливать, опираясь на авторитетное свидетельство Ал. П. Чехова [Чехов, 1978. Т. 11. С. 393–394]. Это важно отметить, поскольку мы знаем, что «театр начинается с вешалки», а пьеса – с заглавия, которое и обозначается на рекламных объявлениях для публики. Заглавие чеховской пьесы фокусирует внимание читателя и зрителя на «классической» российской проблеме «отцов и детей», хотя она оказывается и несколько размытой в огромном, многостраничном произведении, нарушающем рациональные и вместе с тем довольно жесткие каноны и правила построения драматургического текста.
Авторы примечаний к пьесе все-таки приложили определенные усилия, чтобы прокомментировать заявленную драматургом ситуацию. Было отмечено: «В пьесе идет отчаянный спор отцов и детей: Платонов (это главный герой. – В. О.) с гневом вспоминает покойного отца; полны цинизма отношения молодого Глагольева с богатым отцом; дети Трилецкого стыдятся своего отца; Щербук ненавидит своих дочерей. Дети не устроены и несчастны, потому что у них нет отцов, которых можно было бы уважать» [Там же. С. 398]. Здесь все правильно, но исчезло представление об «общей идее» которая всегда заботила и одолевала творческое сознание Чехова. Можно ли ее как-то определить, опираясь на контекст пьесы? Можно, но разумней предварительно воспользоваться чеховской «подсказкой», которая отыскивается в его «странной» пьесе «Татьяна Репина». Чехов соединил в ней бытовое и философско-религиозное начала в своеобразном диалогическом плане, в котором обыденные жизненные ситуации прочитываются в свете канонических христианских положений и заветов. В самом начале пьесы у Чехова звучит молитвословие, определяющее ту самую «высшую» идею, о которой говорилось ранее. Отец Иван, совершая обряд венчания, т. е. соединения душ, провозглашает: «Помяни, Боже, и вос-питавшыя их родители: зане молитвы родителей утверждают основания домов» [Чехов, 1978. Т. 12. С. 70].
В «Безотцовщине» как раз и просматривается драматическая ситуация крушения «основания домов», поскольку нарушилась духовная связь родителей и детей. Да и молитвы родителей, вероятно, не дошли до Того, кому они были (если были, конечно) адресованы. Общий «дом», как это можно понять из слов молитвы, утверждается в высшей инстанции через веру в Бога. И Чехов в уста священника вложил знаменательные слова: «Христос, истинный Бог
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © В. Г. Одинокое, 2008
наш… помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец» [Там же. С. 93]. В этом пункте родительское начало связывается с понятием «отцовства». Вспомним, что Божья молитва обращена к «Отцу»: «Отче наш…». И Христос несет в мир слово Отца. Л. Н. Толстой в «Кратком изложении Евангелия» писал: «Иисус говорит: истинность моего учения доказывается тем, что я учу не от себя, но от общего всем Отца» [Евангелие…, 1992. С. 68].
В комплексе такого рода ассоциаций формируется проблема «безотцовщины», которая вписывается в контекст философско-религиозных исканий «переходной эпохи», ощущавшей всеобщее духовное оскудение и требовавшей спасительного вероучения. На этой волне духовных поисков и возникло оригинальное учение проповедника «общего дела» Н. Ф. Федорова. Он-то и поднял проблему «отцовства» до эпохального уровня, на котором, например, находилась идея «софийности» В. С. Соловьева, привлекавшая внимание Чехова и отразившаяся в пьесе «Чайка».
В статье «Вера, дело и молитва» Н. Ф. Федоров писал: «Верность Богу всех отцов, Богу Адама и всех праотцев, есть истинная религия; все прочие – измены Богу и своему праотцу» [Федоров, 1995. Т. 2. С. 41]. Такого рода «верность», по определению Федорова, есть «вера народная, православная». Продолжая мысль, он поясняет: «Вера без дела мертва, непроизводительна, не создает Царства Божия. Вера без молитвы холодна, бездушна, не чувствует нужды в Царстве Божием. Необходима вера, необходимо дело, необходима и молитва» [Там же]. Чехов чувствовал и осознавал все эти императивы. Но он наблюдал в жизни их отсутствие, а это было показателем не только разъединения людей между собой, но и разъединения с Богом. «Неизвестность общего дела… и есть самая характерная черта нашего века», – писал Федоров [Там же. С. 340].
Чехов превратил эту проблемную ситуацию в лейтмотив, который объединяет все его драматургические произведения. Показательно, что писатель уже в раннем творчестве зафиксировал указанную «болезнь века», укорененную не только в духовном мире отдельной личности, но и в сознании всего интеллигентного общества России. Пьеса «Безотцовщина» на обширном жиз- неном материале демонстрирует автономизацию сознания личности, которая, утратив связь с «отцами», потеряла веру в Бога. А это привело к тому, что и мысль об «общем деле» стала весьма проблематичной. Чехова не удовлетворяли социальные доктрины, предлагаемые сторонниками и «правых» и «левых». В подтексте этой ранней пьесы, как, впрочем, и остальных, была заложена мысль не столько о социальном, сколько о духовном единении людей. Но это была головоломная задача. Чехов в своей ранней драме лишь указал на эпохальную проблему, что ни в коем случае не смущало его, поскольку он считал, что художник должен ставить вопрос – это главное, а отвечать на него – как придется.
Проблемная задача, поставленная в пьесе «Безотцовщина», решалась с определенного «порога», с выбора жанра. Возникшая в недрах чеховского эпического творчества, это произведение привлекает внимание необычностью художественного построения. По объему она соотносима с большой повестью или маленьким романом, что делает ее в техническом плане несценичной. Содержание ее – «жизнь человеческая», но жизнь, лишенная «общей цели», жизнь разобщенных индивидов. Повесть же и роман – это, условно говоря, «эпос», который традиционно требует «всезнающего» автора с его монологической, объединящей идеей. Драма предполагает интеграцию суверенных индивидуальных позиций, а стало быть, и «абсолютную» авторитетность персонифицированных «голосов». Драматургическая поэтика у Чехова – инструмент воплощения разъединенного с миром и людьми индивидуального сознания. Подобным подходом объясняется и такой творческий феномен, как переделка Чеховым некоторых собственных рассказов в драматургические этюды. Характерным примером в этом плане являются художественные трансформации таких чеховских рассказов, как «Осенью» (1883 г.) и «Калхас» (1886 г.).
Драматург, в отличие от «повествователя», сознательно лишил себя роли высшего судьи. Такой отказ обусловлен эпохальными событиями, когда люди «освободились» от каких-либо авторитетов и вместо Богочеловека признали Человекобога, принципиально самоутверждающуюся личность. Роль и функция драматургического элемента в соотнесенности с эпическим началом очень четко были определены в свое время В. Г. Белинским, которого в последнее время, к сожалению, стали подзабывать. Напомним, что писал критик по этому поводу, характеризуя европейское средневековье: «Вообще дух средних веков особенно был враждебен эпопее, потому что он сильно развил чувство индивидуальности и личности, столь благоприятное драме и столь противоположное эпосу, в котором главный герой, естественно, само событие, подчиняющее себе волю отдельных лиц, а не отдельные лица, борющиеся с событием. Оттого в новом мире даже роман - этот истинный его эпос, эта истинная его эпическая поэма - тем больше имеет успеха, чем больше проникнута элементом драматическим, столь противоположным эпическому» [Белинский, 1984. С. 341-342]. Рождение и укрепление драматического рода в чеховском творчестве - явление знаковое, связанное с наступлением «прозаической» эпохи, когда, говоря словами Г.-Ф. Гегеля, произошло разрушение «героического состояния мира» и наступил период «прозаического бытия».
Внутренняя потребность писателя обратиться к драматическому роду поэзии и была обусловлена эпохой переходного характера, которая проявилась не просто в смене жанровой доминанты, но и в процессе постепенного созревания элементов драматургической поэтики в недрах повествовательной прозы, в трансформации эпической, монологизированной структуры текста. Поэтому в интерпретацию чеховской драматургии следует внести такое понятие, как «знамение эпохи», поскольку пьесы Чехова отмечают не просто уровень драматургической техники, а уровень историкофилософского понимания происходящих событий в аспекте прошлого, настоящего, будущего. Да и в чисто художественном плане переход писателя к драматургии дублирует собой вектор жанровой эволюции в общем контексте мирового литературного процесса. Обратимся вновь к мнению Белинского, который считал необходимым подчеркнуть особую роль драматического рода поэзии среди других родов. Критик писал: «И хотя, вследствие раз принятого и навсегда утвердившегося ложного мнения, эпическая поэзия, по преданию от древности, ошибочно приложенному к требованиям нового мира, и считалась высшим родом поэзии и высочайшим произведением человеческого гения, - однако этим высшим родом поэзии в нем всегда была, так, как и теперь есть, драма, если уж в поэзии непременно один который-нибудь род должен быть высшим» [Там же. С. 342].
Драматургия Чехова как явление эпохальное предоставляла возможность соединить индивидуализированное сознание задавленного обстоятельствами героя непосредственно с аналогичным сознанием современного автору театрального зрителя. Это усиливало эстетическое значение «слова», а через него и психологический эффект воздействия на аудиторию, поскольку театральная ситуация адекватно моделировала реальные жизненные обстоятельства. Поэтому для Чехова не нужны были «высокие», «отчужденные» образы и порождаемые ими коллизии, а нужна была художественно смоделированная картина тягостной обыденности без конца и без края. Пьесу «Безотцовщина» Чехов и начал с мотива «скуки», который он выразил словом «скучненько», вложив его в уста Анны Петровны, одной из главных героинь пьесы:
«Трилецкий ( подходит к Анне Петровне ). Что?
Анна Петровна ( поднимает голову ). Ничего .. Скучненько..»
Дальше мотив развивается: «Скучно, Николя! Тоска, делать нечего, хандра.Что и делать, не знаю.» Следует обратить внимание на то, что между этими «что?» и «ничего», по сути, располагается весь драматургический материал пьесы, а в «средине» постоянно присутствует в концептуальном плане это коварно-смиренное «скучненько». Оно коварно потому, что грозит «взрывом», взрывом страстей, что и произойдет впоследствии, именно благодаря «пассионарной» энергии, носителем которой является главный герой Платонов, именем которого в принципе и можно было бы назвать произведение, как это и сделал драматург в своей последующей пьесе «Иванов». Вместе с тем эпиграфичность указанного вопросо - ответа подводит читателя и зрителя к общественнофилософской проблеме, которая была уже давно сформулирована в социальном и религиозном аспектах - «что делать?» В связи с этим имеет смысл вернуться к идеям Н. Ф. Федорова, которые он неоднократно выдвигал и обосновывал в связи с философией «общего дела». В заметках о М. Ю. Лермонтове философ в буквальном смысле затронул ту же «струну», что и Чехов в «Безотцовщине».
Говоря о лермонтовском лирическом герое, Федоров замечает: «Скучно (потому что дела нет) и грустно от одиночества, следовательно, нужно дело, но дело не одиночное, а совокупное» [Федоров, 1997. Т. 3. С. 528]. Живя в одном тесном жизненном пространстве, герои Чехова духовно разъединены и не прозревают реальных путей единения на почве «общего дела». Еще у Ф. М. Достоевского в черновых набросках к роману «Преступление и наказание» один из героев произносит: «Оттого мы пьем, что дела нет». Достоевский понимал «дело» как историческое деяние, как общенациональную задачу. Чеховские мысли развиваются в том же направлении. Один из персонажей чеховской пьесы, Глагольев, так характеризует главного героя Платонова: «Платонов, по-моему, есть лучший выразитель современной неопределенности». Дальше следует пояснение: «Это герой лучшего, еще, к сожалению, ненаписанного, современного романа… Под неопределенностью я разумею современное состояние нашего общества… Все крайне неопределенно, непонятно… Все смешалось до крайности, перепуталось… Вот этой-то неопределенности, по моему мнению, и является выразителем наш умнейший Платонов».
«Умнейший Платонов» как выразитель «современного состояния общества» представлял для автора историческую модификацию «героя времени», типологически соотносимого с лермонтовским Печориным. Не случайно, судя по письмам, Чехов очень внимательно читал произведения Лермонтова, в том числе «Героя нашего времени». Лермонтовский лирический герой, на которого, как уже сказано, обратил внимание Н. Ф. Федоров, по характеристике философа, «от жизни не ждет ничего», но «желает в этом храме сохранить дыхание жизни, желает вместо отпевания слышать песнь о любви» [Там же]. Платонов находится в аналогичном положении и состоянии духа. В одной из сцен он с пафосом произносит: «Зло кишит вокруг меня, пачкает землю, глотает моих братьев во Христе и по родине, я же сижу, сложив руки, как после тяжкой работы; сижу, гляжу, молчу… Пропала жизнь!». В этом восклицании пророчески прорисовывается психологический портрет дяди Вани из одноименной пьесы Чехова. Заметим, что дядя Ваня в повседневном «деле» и вере в него прозрел провиденциальный смысл жизни и открыл душу молитвенным словам Сони.
Федоровская концепция, провозглашавшая слияние веры, дела и молитвы, Чеховым была реализована здесь с возможной полнотой. В «Безотцовщине» эти составля-щие идеального жизненного пространства были пока что разъединены. Платонов в своем мрачном состоянии оказывается в данный момент где-то между стремлением найти спасение в единении с братьями во Христе (в идее «отцовства», по Федорову) и желанием «сохранить дыхание жизни» и слышать «песнь любви», как лермонтовский лирический герой. Н. Ф. Федоров, характеризуя подобного рода альтернативу, пишет (опять-таки по поводу Лермонтова): «Что идеальнее: платоническая ли любовь или же любовь, которая, несмотря на смрад гниения, несмотря на разрушение, по-видимому, полное, употребляет все силы на то, чтобы день, в который отцы перестали говорить “я”, не был вечным? Служить ли отцам и потому оставаться братьями или же служить женам и забыть о братстве?» [Там же. С. 529].
Чехов в «Безотцовщине» как раз и показал все сложности запутанных отношений с отцами и торжество практики «служения женам», которое носит при этом отнюдь не платонический характер. Платонов в этой ситуации совсем не платоническая натура. Обиженная Анна Петровна жестко определяет его характер: «Дон Жуан и жалкий трус в одном теле». Платонов стремится к новой жизни, но его захлестывают страсти. Анна Петровна говорит, подводя итог: «У всех есть страсти…». Герой запутался в паутине любовных страстей. Сам он признается: «Я негодяй, я у друга жену отнял, я любовник Софьи (жены друга. – В. О. ), быть может, даже любовник и генеральши (мачехи этого друга. – В. О. ), я многоженец, большой мошенник с точки зрения семьи…» В связи с этой ситуацией в памяти всплывают слова Чехова по поводу его пьесы «Чайка»: «…мало действия, пять пудов любви».
В «Безотцовщине» любовная тема также заняла центральное место в художественной структуре произведения. Сначала, впрочем, она развивается в своеобразном «медитативном» плане, медленно и с побочными, мало результативными последствиями. Все это подается автором в тональности «скучненько». Но молодой писатель уже понимал, что законы драматургии требуют активизации действия, преодоления эпичности, столь свойственной Чехову, мастеру повести и рассказа. Эта эпичность не исчезла и впоследствии, но он стремился ее преодолевать. Работая над пьесой «Леший», Чехов, по его собственному признанию, обнаружил, что вместо драмы у него получается что-то вроде повести [Скафтымов, 1972. С. 408]. Аналогичное явление наблюдается и в «Безотцовщине», но наплыв страстей и трагический финал взрывают повествовательную тональность. Острым «боковым зрением» Чехов усмотрел в изображаемой им жизни лермонтовскую тему, которая была обозначена поэтом как «люди и страсти» и представала под тем же заглавием, но только в немецком романтическом варианте – «Menschen und Leidenschaften». Главный герой Лермонтова в какой-то степени «моделирует» и предопределяет образ чеховского Платонова. Характерен в этом плане монолог лермонтовского героя, Юрия Волина, обращенный к Заруцкому (другому персонажу): «…Я не тот Юрий, которого ты знал прежде…Тот, который пред тобою, есть одна тень, человек полуживой, почти без настоящего и без будущего, с одним прошлым, которого никакая власть не может воротить». Всплеск аналогичных чувств характерен и для Платонова: «Мне двадцать семь лет, тридцати лет я буду таким же – не предвижу перемен». И у того, и у другого «пропала жизнь».
Осознание такого печального итога приводит обоих героев к мысли о самоубийстве. Волин восклицает: «О! я умру, об смерти моей, верно, больше будут радоваться, нежели о рождении моем». Ему «вторит» Платонов: «Убить себя нужно… Сейчас смерть, значит…» При этом в уста Платонова Чехов вкладывает фразу, буквально заимствованную у Лермонтова, но только из «Героя нашего времени». Платонов повторяет известные слова Печорина: «Finita la comedia».
В процессе развертывания текста того и другого произведения выясняется, что трагическая коллизия у Лермонтова и у Чехова связана с темой отцовства. У Лермонтова она слегка обозначена репликой Юрия
Волина: «Отец меня отвергнул, проклял мою душу – и должен этого (смерти. – В. О. ) дожидаться». Платонов также откровенно говорит о враждебных отношениях с отцом: «Я разошелся с ним, когда у меня не было еще ни волоска на подбородке, а в последние три года мы были настоящими врагами. Я его не уважал, он считал меня пустым человеком… Я не люблю этого человека!» Как видим, сходство ситуаций просматривается достаточно отчетливо. Но у Чехова в пьесе проблема «отцов и детей» выступает на первый план. Не напрасно ведь драма озаглавлена не «Платонов», а «Безотцовщина». Чехов подчеркивает серьезность именно этой проблемы и увязывает ее с поисками «новой жизни». Платонов произносит: «Завтра я бегу к новой жизни!». Но добавляет при этом: «Так горько на душе, так скверно и подло, что рад бы задушить себя!». Окончательно запутавшись в отношениях с женщинами, Платонов готов пустить себе пулю в лоб, как и будущий герой Чехова Иванов. Он не знает, где эта новая жизнь и как спасти себя хотя бы в старой. Обращаясь к Софье Егоровне, Платонов восклицает: «Воскрешай меня… а то я сойду с ума!». И Софья Егоровна возлагает на себя роль спасительницы: «Я подниму тебя на ноги! Я повезу тебя туда, где больше света, где нет этой грязи, этой пыли, лени, этой грязной сорочки… Я сделаю из тебя человека… Счастье я тебе дам! Пойми же… Я сделаю из тебя работника! Мы будем людьми, Мишель! Мы будем есть свой хлеб, мы будем проливать пот, натирать мозоли… Я буду работать…»
Пафосный монолог Софьи Егоровны в общем плане предопределяет позицию и даже отдельные слова мудрой Сони (Софьи) из будущей пьесы Чехова «Дядя Ваня». Но заплутавший в лабиринте любовных отношений «Мишель» не может принять, в отличие от дяди Вани, спасительный рецепт, состоящий в излюбленной Чеховым мысли о благотворной миссии труда на пользу себе и людям. Позже Платонов скажет, как отрежет: «Избавьтесь от меня, Софья Егоровна! Не ваш я человек! Я так долго гнил, моя душа так давно превратилась в скелет, что нет возможности воскресить меня! Закопать подальше, чтоб не заражал воздуха!». Сознание окончательно пропавшей жизни заставляет Платонова признаться: «Не надо мне новой жизни. И старой де- вать некуда... Ничего мне не нужно!». В этой ситуации решение одно: «Убить себя нужно... (Подходит к столу.) Выбирай, арсенал целый... (Берет револьвер.) Гамлет боялся сновидений... Я боюсь... жизни!». Приговор, таким образом, подписан. Напомним, что разочарованный в жизни лермонтовский персонаж Юрий Волин тоже оказался перед аналогичным финалом («О! я умру...»), поскольку, по его мнению, «счастлив умерший... когда ему нечего забывать». При этом он, сознавая, что душа его погибла, апеллирует к Создателю: «Я стою перед Творцом моим». Платонов в критический момент обращается ко Христу: «Прости, Христос, мне мои грехи!». Оба этих героя, что характерно, ощущают себя братьями во Христе. Особенно чувство это обостряется у них потому, что у обоих разорвана связь с отцами: Юрия Волина проклял отец («Отец меня отвергнул, проклял мою душу...»), а Платонов разорвал связь с отцом по взаимному, так сказать, согласию. В финале тема «страстей» исчерпывает себя до конца и возникает проблема спасения человека, подхваченного чувствами и ищущего бури, «как будто в бурях есть покой». Здесь имеет смысл вспомнить философский вопрос, заданный Н. Ф. Федоровым и связанный как раз с лермонтовским творчеством: «Служить ли отцам и потому оставаться братьями или служить женам и забыть о братстве?».
Вопрос этот Чехов, образно выражаясь, ощутил в атмосфере современной ему эпохи и реализовал по-своему в пьесе, озаглавленной «Безотцовщина». Но дело даже не в заглавии, а в том, что тема эта вроде бы ненавязчиво, но тем не менее подчеркнуто обыгрывается в контексте драмы. «Безотцовщина» демонстрирует, по сути, утрату людьми ощущения единства «сынов человеческих», как определил это явление Н. Ф. Федоров. Тема эта возникает в пьесе в самом начале, в первом действии, в явлении пятом. Жена Платонова Саша вдруг сообщает: «Ходила заказывать отцу Константину обедню. Сегодня именинник Мишин отец покойник, и неловко как-то не помолиться... Панихиду отслужила...» Но в эту благостную атмосферу поминовения «отцов» тихо, но отчетливо врывается диссонирующая нота - Платонов не помнит точно, когда умер его отец («года три, четыре»). А когда Глагольев (другой персонаж) гово- рит, что отец Платонова «доброе имел сердце», тот замечает: «Не доброе, а безалаберное». Апогеем этой «дискуссии» является реплика Платонова на заявление Глагольева, что Василий Андреевич (отец Платонова) был «великий человек... в своем роде». Платонов тут же скорректировал это мнение: «Я не люблю этого человека! Не люблю за то, что он умер спокойно (вот они страсти. - В. О.). Умер так, как умирают честные люди. Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя». Присутствующие пытаются сгладить впечатление, указывая на то, что о мертвых нужно говорить хорошо или совсем не говорить. Платонов же заявляет, что «мертвые не нуждаются в уступке».
Далее в потоке страстей тема отцовства размывается. И только в финале один из последних живых отцов, полковник в отставке, Иван Иванович Трилецкий в трансе выдает потрясающую реплику, диалогически соотнесенную с суждением Платонова: «Забыл Господь... За грехи... За мои грехи... Зачем грешил, старый шут? Убивал тварей божиих, пьянствовал, сквернословил, осуждал... Не вытерпел Господь и поразил». Но этой тирадой не перечеркивается положительный потенциал «отцовства», если учесть при этом, что «русский негодяй» в покаянном порыве осознал себя «подлецом». Страсти исчезают, как дым, как утренний туман, а чувство рода как средство ощутить единство с родственниками, а через Христа - со всеми братьями в мире, остается. Федоров это единство истолковывал так: «Религия есть воскрешение; если она не искажение, она есть культ предков, требующий глубочайшего объединения, братства. Христос есть Воскреситель, и христианство, как истинная религия, есть воскрешение. Определение христианства воскрешением есть определение точное и полное» [Федоров, 1995. Т. 2. С. 42]. Здесь важно подчеркнуть не индивидуальное, а родовое начало, Это касается не только отцов, но и детей. Чехов подчеркивает значение этого ощущения родового единства. Он в самом начале пьесы создает весьма характерный текст, вкладывая его в уста Трилецкого-младшего. Обращаясь к отцу, тот произносит знаменательные слова, как бы предуказанные гипнотической волей Федорова-философа и моралиста: «Взгляни на меня! Это сын твой!.. Это дочь твоя!.. Этот юноша зять твой! Дочь-то одна чего стоит! Это перл, папаша! Один только ты мог породить такую восхитительную дочь! А зять? О. это зять! (речь идет о Платонове. - В. О.). Другого такого не сыщешь, хоть обрыскай всю вселенную! Честен, благороден, великодушен, справедлив! А внук?! Что это за мальчишка разанафемский! Машет руками, тянется вперед этак и все пищит: “дедь! дедь! где дедь?”».
Чехов, используя полуироническую тональность монолога Трилецкого-младшего, «встроил» личность Ивана Ивановича (Три-лецкого-старшего) в систему органической смены поколений. Он демонстрирует в общем плане связь прошлого, настоящего и будущего. Но эта идеальная связь поколений в финале, в конкретной драматургической ситуации, придуманной Чеховым, рушится. Зять и дочь в одной связке гибнут. А о судьбе внука говорить уже не приходится. Идиллия единения сменяется трагическим крушением связей между людьми и между поколениями. Убитый горем сын Трилецкого-старшего, в слезах, обращаясь к отцу, восклицает: «О, дураки! Не могли уберечь Платонова!» И с надрывом добавляет: «Отец, поди скажи Саше (дочери. - В. О. ), чтоб она умирала!». Сцена и в целом пьеса завершается приведенными выше словами Ивана Ивановича Трилецкого, осознавшего ясно, что его «забыл Господь», и не только забыл, но «не вытерпел» и «поразил». Чехов поставил на этом точку.
Трагедия разъединения людей достигла апогея. Что дальше? Николай Трилецкий предлагает свое решение вопроса: «Хоронить мертвых и починять живых!». Доля житейской мудрости в этом утверждении присутствует. Если использовать при этом ход мыслей Н. Ф. Федорова, правомерно в стиле его рассуждений скорректировать приведенное заключение: «Починять живых и “воскрешать” мертвых». Чехов приблизился к идеям Федорова на очень близкое расстояние: «безотцовщина» губительна не только для отдельной личности, но и для нации в целом. Единение поколений, как его представил Чехов, имеет глубинный смысл. «Общее дело» - это и обустройство социума, и путь духовного единения людей, ведущих происхождение от одного Отца, обеспечивающего бессмертие рода. Вслед за Н. Ф. Федоровым следует вспомнить слова митрополита Фила- рета: «Неужели вы думаете, что от земли на небо нет иной дороги, кроме той, которая лежит чрез гроб и могилу?». Обращаясь в этом плане к аналогичным мыслям Ф. М. Достоевского, философ подчеркнул, что «самое существенное есть долг воскресения прежде живших предков», в чем «именно и нуждается наше время, когда благодаря утрате цели и смысла жизнь потеряла всякую цену» [Федоров, 1999. Т. 4. С. 5]. Можно с достаточным основанием предположить, что пьеса молодого Чехова находилась в русле указанных проблем, о чем свидетельствуют конкретный художественный материал «Безотцовщины» и дальнейший путь Чехова-драматурга.
На этом можно было бы и закончить рассмотрение создания молодого художника, если бы в пьесе не было одного дополнительного компонента, как бы некоторого сюжетного ответвления, очень своеобразного в проблемно-художественном плане. Чехов придумал сюжетную ситуацию криминального характера: один из персонажей «заказывает» искалечить Платонова, не убивая его, одному из «таинственных» личностей, которая неизвестно как появилась в усадьбе Войницевых, конокраду Осипу.
Осип - вполне бытовая фигура, но ему придана роль «судьбы», которая должна решить исход жизненной драмы Платонова. Типологически этот персонаж по функции соотносится с лермонтовским «Неизвестным» из драмы «Маскарад», но Чехов осложнил психологическую ситуацию, связанную с вмешательством Осипа в жизнь главного героя пьесы. Осип призван покарать Платонова за «грехи», не очень, впрочем, понятные из контекста драмы, если учесть при этом меру наказания. Собираясь убить Платонова, Осип произносит свой приговор, вероятно, все-таки несколько отличающийся от вердикта «заказчика» Венгеровича. Осип безапелляционно заявляет: «Уважал я вас, господин Платонов, за важного человека почитал! Ну а теперь. Жалко убивать, да надо. Уж вредны очень.» Последние слова Осипа и являются «осложняющими», поскольку «борец за справедливость» - сам «великий грешник», хотя и кающийся при этом. Лично он подтверждает такое мнение: «Пойду. Пойду к себе домой. Мой дом там, где пол земля, потолок небо, а стены и крыша неизвестно в каком месте... Кого Бог проклял, тот и живет в этом доме… Велик он, да негде голову положить…» И заканчивая свой философский монолог, Осип подытоживает предыдущие рассуждения исповедальной фразой: «Я тоже грешник…» Да, он, конечно, грешник, но уже стоящий на пороге покаяния. Чехов смоделировал в пьесе оригинальный образ, предложенный в свое время Ф. М. Достоевским в творческом проекте под заглавием «Житие великого грешника».
Чехов ставит своих героев на грань между добром и злом в общем моральном плане. В Осипе эта грань проступает особенно отчетливо, поскольку он вор и проходимец, которого потом убьют мужики, и вместе с тем искатель правды и справедливости. В этом плане характерна одна сцена, когда Саша, жена Платонова, говорит о муже: «Он если и обидит кого-нибудь, то нехотя, нечаянно. Он добрый человек!». Осип на это отвечает: «Доброты у него только мало… Все у него дураки, все у него холуи… Нешто можно так?» И дальше следует знаменательная фраза: «Ежели б я был хорошим человеком, то я так бы не делал…» Эта хитрая диалектика простого русского мужика приводит его на путь покаяния, как, впрочем, и мечущегося в психологических тисках интеллигента Платонова. Покаяться-то Осип покаялся, да не совсем – так и остался он в пространстве между светом Божиим и языческой тьмою: «Напустил я на себя убожество, надел сумочку и пошел в Киев… Не тут-то было! Исправился, да не совсем… Связался под Харьковом с почтенной компанией, пропил денежки, подрался и воротился назад». Теперь он и в церковь не ходит, объясняя это следующим образом: «Я пошел бы, да того… Народ смеяться станет… Ишь, скажет, каяться пришел! Да и ходить около церкви днем страшно. Народу много – убьют». Чехов завершил путь жизни своего героя насильственной смертью, которую тот в роли праведника готовил Платонову, а как грешник принял ее на себя. Анна Петровна Войницева неожиданно сообщает: «Осипа мужики убили».
Судьба Осипа и его роль в сюжетном развитии пьесы имеют самостоятельное значение. С точки зрения драматургических «правил» линия жизни указанного персонажа должна была быть вынесена за границы драмы, поскольку она вполне может быть предметом отдельного, вполне автономного произведения. Но введенная Чеховым в локально очерченный «лабиринт художественных сцеплений», она укрупняет поставленную писателем проблему: индивидуальная драма Платонова, сопряженная с поисками оригинально трактованной «народной» правды в лице Осипа, религиозноэтические мотивы, вплетенные в эти мучительные искания, прочитываются в плане судеб всей России в данный исторический момент. Чехов стремится убедить читателя и зрителя, что судьба России – это судьба человека, но и судьба человека – это судьба России. В последней чеховской пьесе «Вишневый сад» Петя Трофимов скажет: «Вся Россия наш сад». А можно произнести и так: «Вся Россия – наш сад». В этой интонационной игре прослушивается голос правды о величии «маленького человека», получившего «право», наследованное от Творца и завещанное Христом. Л. Н. Толстой в своем «Новом Евангелии» сделал такой обобщающий вывод: «Тот, кто поймет истину в том, что жизнь только в исполнении воли Отца, только тот станет свободным и бессмертным» [Евангелие..., 1992. С. 69]. Под этими словами мог бы подписаться и автор «Безотцовщины».