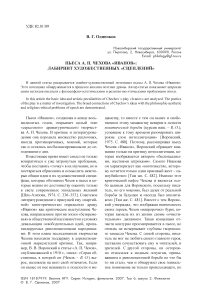Пьеса А. П. Чехова «Иванов»: лабиринт художественных «сцеплений»
Автор: Одиноков В.Г.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
В данной статье раскрывается идейно-художественный потенциал пьесы А. П. Чехова «Иванов». Этот потенциал обнаруживается в процессе анализа поэтики драмы. Автор статьи показывает широкие связи взглядов писателя с философско-эстетическими и религиозно-этическими проблемами эпохи.
Короткий адрес: https://sciup.org/14736871
IDR: 14736871 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Пьеса А. П. Чехова «Иванов»: лабиринт художественных «сцеплений»
В данной статье раскрывается идейно-художественный потенциал пьесы А. П. Чехова «Иванов». Этот потенциал обнаруживается в процессе анализа поэтики драмы. Автор статьи показывает широкие связи взглядов писателя с философско-эстетическими и религиозно-этическими проблемами эпохи.
In this article the basic idea and artistic peculiarities of Chechov`s play «Ivanov» are analysed. The poetics of the play is a matter of investigation. The broad connections of Chechov’s ideas with the philosophic-aesthetic and religious-ethical problems of epoch are demonstrated.
Пьеса «Иванов», созданная в конце восьмидесятых годов, открывает целый этап «серьезного» драматургического творчества А. П. Чехова. В критике и литературоведении она породила множество различных, иногда противоречивых, мнений, которые так и остались несбалансированными до сегодняшнего дня.
В настоящее время имеет смысл не только возвратиться к уже затронутым проблемам, чтобы поставить «точку» в их изучении, но и постараться обрисовать и осмыслить некоторые общие идеи в их художественной специфике, которые обозначил Чехов в пьесе и которые можно по достоинству оценить только в свете современных эпохальных явлений [Шах-Азизова, 1974. С. 336–353]. Советское литературоведение с присущей ему «партийной» категоричностью определяло драму «Иванов» как критическое выступление Чехова, направленное против эпохи «безвременья» и общественной пассивности в условиях девальвации освободительных идей, пропагандируемых революционными народниками. В этом плане исследователи творчества Чехова находили поддержку в дореволюционной марксистской критике. Так, например, В. В. Воровский в статье «А. П. Чехов», опубликованной в 1910 г., писал: «Серая обстановка, в которой он (Чехов. – В. О.) вырос, наложила на него свой отпечаток. Если он вынес из нее ненависть к пошлости и ме- щанству, то вместе с тем он вынес и свойственное этому мещанству неверие в методы политической борьбы (курсив наш. – В. О.), успевшие к тому времени разочаровать широкие слои интеллигенции» [Воровский, 1975. С. 480]. Поэтому, рассматривая пьесу Чехова «Иванов», Воровский обращает внимание только на критику интеллигенции, которая изображается автором «беспощадными, жесткими штрихами». Самого Иванова он характеризует как «ничтожество, которому остается только один красивый жест – самоубийство» [Там же. С. 482]. Именно этот критический пафос Чехова и является особо ценным для Воровского, поскольку писатель, по его мнению, был далек от реальной борьбы за будущее и «всегда был аполити-ком» [Там же. С. 481]. Вместе с тем Воровский утверждал, что изображая никчемность своих героев, Чехов «напророчил» бурю, которая вымела их из жизни своим «очистительным» дыханием. Такая концепция отчасти контурно просматривается в пьесе, но отнюдь не исчерпывает глубины творческого замысла Чехова. С одной стороны, писатель не мог не любить своего главного героя, заставляя сочувствовать ему и читателей, и зрителей. С другой стороны, он осторожно относился к модным лозунгам, призывавшим к революционной борьбе во что бы то ни стало, чем и обнаружил свое гениальное понимание не только происходящего, но
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 2: Филология © В. Г. Одиноков, 2007
и не столь уж далекого будущего, от которого пришлось открещиваться нескольким поколениям россиян.
Поставив в центр действия пьесы личность вполне определенного героя, строго индивидуализированного в социальном и общественно-психологическом планах, Чехов сделал удачную попытку показать эту личность в системе художественных «сцеплений», которые открывали возможность автору проникнуть во внутренний мир героя и вместе с тем обрисовать нечто общее, эпохальное, отразившееся в его индивидуализированном облике. Чехов сам, в принципе, сказал об этом в письме к А. С. Суворину (3 ноября 1888 г.): «У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее , то произведение утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо и составляет conditio sine qua non всякого произведения, претендующего на бессмертие» [Чехов, 1976. Т. 3. С. 54]. Был ли Чехов одержим такой идеей бессмертия, не известно, но то, что объективно она реализовалась, подтверждает вся история нашей отечественной литературы. Для автора «Иванова» это общее начиналось с изображения того, что мы называем «типическая среда». Среда, конечно, окружает героя, но ведь и герой сам есть не что иное, как «среда». Недаром он Иванов , то есть, в общем-то, вся Россия. Для поэтической структуры пьесы это очень важно, так как энергетическое поле этой среды в разных своих проявлениях заставляет героя двигаться по заданной орбите. И его трагедия – это и трагедия общества, которое Иванов представляет в качестве неотторжимого его составляющего.
Презентация «среды» начинается с первой сцены первого акта. Здесь важно подчеркнуть роль такого персонажа, как Боркин. В дальнейшем он себя покажет как активная структурирующая социально-общественная сила, как протагонист в той житейской сфере, в которой обитает и главный герой. Заранее можно сказать, что фигура эта в нашу эпоху узнаваемая: это, по сути, «новый русский», его первоначальная форма, явленная обществу в конце девятнадцатого века. Его появление в конкретном психологическом обличии знаменательно тем, что оно предсказывает в общем плане трагический финал драмы. Боркин – большой «шутник» – вры- вается в комнату и прицеливается ружьем в находящегося там Иванова. Штука эта, забавная по мнению Боркина, является символичной по замыслу Чехова. Стало общим местом упоминание чеховского «ружья», которое должно непременно выстрелить. Но в данном случае «ружье» не тривиальная подробность. Она срабатывает в последней сцене, когда Иванов пускает себе пулю в лоб. Стреляет в финале не ружье, а пистолет, но это уже мелочь, бытовая деталь. Смысл не в детали, а в предсказывающей ее функции. Правда, роль такого рода интродукции проясняется только в финале, но это лишь усиливает значение заключительного трагического аккорда.
Фигура Боркина в пьесе обретает обобщающий, почти символический смысл. Не случайно Шабельский роняет направленную в адрес Боркина ироничную фразу: «Душа общества!» А сам он, появляясь в «обществе», торжественно провозглашает: «А вот и я!» Боркин тут же свое «Я» и проявляет, организуя брак графа Шабельского с богатой вдовой Бабакиной, который ему, как свату, должен принести, вероятно, немалый куш в форме чистой прибыли. А поскольку это «дело коммерческое», он вопрос ставит ребром: «Да или нет?» Этот вопрос отсылает нас к образу Лопахина, тоже «нового русского», который поставил аналогичный вопрос перед владельцами вишневого сада. Боркин в этом отношении – предшественник Лопахина, точно просчитывающий результативность тех или иных мероприятий в сфере хозяйственной жизни (мы бы сейчас могли сказать – в сфере «бизнеса»).
Чехов смело выплескивает деловую «цифирь» на страницы своей пьесы, нарочито создавая «натуралистический» контекст, в конечном итоге предопределивший трагическую судьбу русского интеллигента Иванова. Боркин, в дальнейшем, как и его «следствие» Лопахин, озвучивает вариант одной практической сделки, которая может принести Иванову, а также, конечно, и ему самому, немалые барыши. Чехов буквально «фотографирует» расчетную «ведомость», предлагаемую Боркиным: «…Будь у меня сейчас две тысячи триста рублей, я бы через две недели (курсив наш. – В. О.) имел двадцать тысяч». Любопытно, что автору даже в этом бездуховном и бездушном материале удается найти деталь, характерную для психоло- гического состояния персонажа. Видя, что ему не верят, он выдает такую фразу: «Вот дайте мне две тысячи триста рублей, и я через неделю (курсив наш. – В. О.) доставлю вам двадцать тысяч». Характерно то, как он быстро меняет срок обогащения, подогревая ажиотажное настроение – уже одна неделя, вместо двух. Следует обратить внимание на экспрессивную театральность такого рода реплик: текст должен в данном случае не просто произноситься, но «проигрываться». Дальше излагается совершенно бандитский план выколачивания этих двадцати тысяч, которые в процессе изложения замысла превращаются в привлекательную сумму – «тысяч тридцать, если не больше». Есть в этой динамике речи что-то от гоголевского Хлестакова, действия которого подсвечены опытом Павла Ивановича Чичикова. Конечно, все это спрятано в «подтексте», но «господам актерам» учитывать такие нюансы необходимо. В этом ключе переход от бытовой тональности к духовному миру главного героя предположительно может быть оправдан с точки зрения именно гоголевской поэтики, которая предусматривала движение «снизу» «вверх» – от бездуховного к духовному. Подводя итог своим предложениям, Боркин определит доминантные особенности психологического состояния Иванова: «Ему не втолкуешь… Посмотрите, на что он похож: меланхолия, сплин, тоска, хандра, грусть…»
Все это так, хотя, в сущности, значительно сложнее, поскольку Чехов создает не просто драму, а драму с трагедийным финалом. Боркинский вариант характеристики Иванова реализуется в сюжетных схемах его жизни, которые придумывались окружающими его обывателями: женился, чтобы получить приданое, уморил жену, осуществлял разные авантюрные планы и т. п. Положительная героиня Саша, наоборот, оправдывает его: «Виноват же Иванов только, что у него слабый характер и не хватает духа прогнать от себя этого Боркина, и виноват, что он слишком верит людям! Все, что у него было, растащили, расхитили; около его великодушных затей наживался всякий, кто только хотел». Боркин – это типизированный образ своего времени. То же можно сказать и о каждом другом персонаже, условно относимом к его «лагерю». По удачному выражению исследователя чеховской драматургии Б. Зингермана, Иванова окружают «уезд- ные люди – шваль безвременья» [Зингерман, 1988. С. 202]. Она и формирует общественное мнение, награждающее Иванова отвратительными человеческими качествами. Но драматург в системе «большого диалога» опровергает это. Сарра, жена Иванова, обращаясь к доктору Львову, ярому оппоненту героя драмы, восклицает: «Это, доктор, замечательный человек, и я жалею, что вы не знали его года два-три тому назад. Он теперь хандрит, молчит, ничего не делает, но прежде… какая прелесть!» Такая характеристика, вложенная драматургом в уста женщины, которую, по версии окружающих, Иванов сознательно привел к гибели, звучит особенно выразительно и убедительно. Аналогичную оценку дает герою и другой персонаж, Лебедев: «Во всем уезде есть только один путевый малый». И этот «малый», по мнению Лебедева, «Николаша Иванов». Такого рода «позитив» в определенной степени обусловлен близостью психологического состояния самого автора изображаемому персонажу.
В письме к Н. А. Лейкину (5 ноября 1888 г.) Чехов писал: «Неурядицы и безденежье сковали меня, Погода скверная, снегу нет, всюду скучно; пить и есть не хочется – одним словом, форменная меланхолия» [Чехов, 1976. Т. 3. С. 57]. «Форменная меланхолия» захватывает и его героя, который откровенно признается: «Как только спрячется солнце, душу мою начинает томить тоска». Совершенно очевидно, что Чехову было внутренне близко такое состояние, которое в его интерпретации являлось не только болезнью личности, но и болезнью века. Чехов поддерживает это направление мысли, вкладывая в уста Лебедева вроде бы незначительную, но на самом деле чрезвычайно вескую по смыслу фразу: «Тебя, брат, среда заела!» Своеобразным эхом откликается на это заявление реплика Саши, которая предлагает Иванову порвать с этой средой: «Бежимте в Америку».
Однако Чехов не сводит проблему только к влиянию на личность среды, поскольку этот вопрос в художественном плане был уже достаточно подробно проработан его предшественниками. Конечно, современная писателю эпоха вносила в концепцию взаимоотношения личности и среды свои коррективы, но гений Чехова в данном случае выдвинул на первый план нечто более важное – «феноменологию духа». Он просле- дил фазы развития внутренней жизни героя, объективно обнаружив в них общезначимые закономерности духовного развития общества. Конкретно такая взаимосвязь частного и общего была объяснена самим Чеховым в письме к А. С. Суворину от 30 декабря 1888 г. Он обратил внимание на то, что Иванов «человек, ничем не замечательный», но «натура легко возбуждающаяся, горячая, сильно склонная к увлечениям, честная и прямая, как большинство образованных дворян». Прошлое у него «прекрасное», но теперь он чувствует «утомление и скуку» [Чехов, 1976. Т. 3. С. 109, 110]. Далее Чехов связывает такое психологическое состояние героя с типичными настроениями современной ему молодежи: «Разочарованность, апатия, нервная рыхлость и утомляемость являются непременным следствием чрезмерной возбудимости, а такая возбудимость присуща нашей молодежи в крайней степени» [Там же. С. 111]. При этом Чехов подчеркивает закономерность смены состояния возбудимости настроениями полнейшей апатии и безразличия. Писатель приводит такой показательный пример: «Иванов в восторге кричит: “Новая жизнь!”, а на другое утро верит в эту жизнь столько же, сколько в домового (монолог III акта)…» [Там же. С. 112].
Литературоведы обратили внимание на подобного рода смены психологических состояний героя. Справедливо об этом писал Б. Зингерман: «…В поведении Иванова… иногда тоже слышится этот двойной, неровный ритм безвременья – переход от меланхолических жалоб, постыдной расслабленности к неожиданным взрывам темперамента, неизбежно сменяющимся еще большим упадком духа» [Зингерман, 1988. С. 212]. Чехов как великий художник в ритмичных явлениях действительности почувствовал, а затем и обнаружил скрытую от поверхностного взгляда закономерность влияния на общество и на отдельную личность своеобразной «энергии», которая определяет даже судьбы этноса. Известный современный историк Л. Н. Гумилев, изучая отмеченный феномен, обозначил эту «энергию» термином «пассионарность».
«Эффект, производимый вариациями этой энергии, как особое свойство характера людей, мы называем “пассионарность”», – писал Гумилев. Далее он поясняет: «Пассионарность – это характерологичес- кая доминанта, непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное ) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели…». При этом, замечает Гумилев, «пассионарность отдельного человека может сопрягаться с любыми способностями: высокими, средними, малыми; она не зависит от внешних воздействий, являясь чертой психической конституции данного человека; она не имеет отношения к этике, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушения, благо и зло, исключая только равнодушие; она не делает человека “героем”, ведущим “толпу”, ибо большинство пассионариев находится в составе “толпы”, определяя ее потентность в ту или иную эпоху развития этноса» [Гумилев, 1990. С. 33].
Пассионарий Иванов, в трактовке Чехова, находится в «составе толпы» и представляет частицу национального целого в определенный исторический период. Чехов в цитированном письме к Суворину особо оговаривает сугубо русскую форму пассионарности своего героя: «Я прочел это письмо. В характеристике Иванова часто попадается слово “русский”… когда я писал пьесу, то имел в виду только то, что нужно, то есть одни только типичные русские черты». И тут же конкретизируется эта типичная «русскость» героя: «Так, чрезмерная возбудимость, чувство вины, утомляемость – чисто русские». Понятно, продолжает Чехов, «в пьесе я не употреблял таких терминов, как русский, возбудимость, утомляемость и проч., в полной надежде, что читатель и зритель будут внимательны и что для них не понадобится вывеска: “Це не гарбуз, а слива”» [Чехов, 1976. Т. 3. С. 115].
Чехов ясно сознавал, что «возбудимость» Иванова как русского интеллигента имеет оттенок того «самоедства», который заставил многих исследователей творчества Чехова трактовать Иванова как своеобразного русского Гамлета, тем более, что у него был такой похожий на него предшественник, как «Гамлет Щигровского уезда» И. С. Тургенева. Однако Чехов, что совершенно очевидно, понимал, куда направлен главный вектор социально-исторических устремлений, определяемый той же самой пассионарной «силой». Россия, как известно, стояла на пороге революционных преобразований, и социально-реформаторские идеи витали в воздухе. Чехов, разумеется, не мог пройти мимо этого явления. В пьесе «Иванов» он попытался показать читателю и зрителю вариант «пассионарной энергии», воплощенной в образе доктора Львова, дальнего «родственника» будущих радикальных деятелей русского «освободительного движения». Русский социализм Чехов ассоциировал с фазой «возбуждения», которая была характерна и для интеллигенции, о чем писатель сказал в своем комментарии к образу Иванова: «Социализм – один из видов возбуждения» [Чехов, 1976. Т. 3. С. 111].
В отличие от Иванова, который находится в стадии спада «пассионарного напряжения», Львов демонстрирует подъем именно социально-общественной активности, окрашенной в тона революционно-народнической идеологии. Чехов в цитированном письме к Суворину дает четкую характеристику этому персонажу драмы: «Львов честен, прям и рубит сплеча, не щадя живота. Если нужно, он бросит под карету бомбу, даст по рылу инспектору, пустит подлеца. Он ни перед чем не остановится. Угрызений совести никогда не чувствует – на то он “честный труженик”, чтоб казнить “темную силу”!» [Там же. С. 113]. А «темной силы» в русской провинции, как мы знаем, было предостаточно. И деятельность, направленная против нее, тут же закипела: «В уезд приехал он уже предубежденный. Во всех зажиточных мужиках он сразу увидел кулаков, а в непонятном для него Иванове – сразу подлеца» [Там же]. В связи с этой авторской оценкой персонажа можно процитировать и фрагмент из самой пьесы. Граф Шабельский иронизирует по поводу поведения Львова: «Узкий, прямолинейный лекарь! ( Дразнит. ) “Дорогу честному труду!” Орет на каждом шагу, как попугай, и думает, что в самом деле второй Добролюбов. Кто не орет, тот подлец. Взгляды удивительные по своей глубине. Если мужик зажиточный и живет по-человечески, то, значит подлец и кулак. Я хожу в бархатном пиджаке, и одевает меня лакей – я подлец и крепостник».
В этих крайностях проступают очень точно предугаданные будущие издержки нашей революции. При этом Чехов прорисовал своеобразную историческую схему движения и смены социально ориентированных идей. Шабельский исповедуется в своих социально-общественных пристрастиях и ан- типатиях: «Да, я был молод и глуп, в свое время разыгрывал Чацкого, обличал мерзавцев и мошенников, но никогда в жизни я воров не называл в лицо ворами и в доме повешенного не говорил о веревке. Я был воспитан. А ваш этот тупой лекарь почувствовал бы себя на высоте своей задачи и на седьмом небе, если бы судьба дала ему случай, во имя принципа и общечеловеческих идеалов, хватить меня публично по рылу и под микитки». Шабельский еще не знал, что общечеловеческие идеалы в ходе освободительного движения будут решительно заменены «классовыми идеалами», с позиции которых мир, к которому принадлежит этот персонаж, будет уничтожен до основания. Впрочем, смутное ощущение такого финала в его тексте присутствует. В эмоциональной тираде Шабельского контурно прорисована даже картина развития освободительной идей в России – от декабристов (знаковая фигура Чацкого) до «героев Народной воли» («по рылу и под микитки»). Это было удивительное предвидение, которое обрело четкую идеологическую форму несколько позже в статье В. И. Ленина «Памяти Герцена», отмечавшего три этапа развития русской революции: дворянский, разночинский и пролетарский. Последний должен был логически завершить и завершил дело народовольцев.
При этом следует учитывать, что Чехов очень и очень сомневался в пользе бросания бомб под кареты, как и в том, что русский вариант пассионарности должен обязательно привести к революции. Русский социализм, как свидетельство «возбудимости», размывается, по мнению Чехова, рефлексией, которая была в высшей степени присуща главному герою, критически размышляющему и скептически настроенному субъекту. Такой вывод подтверждался одним чрезвычайно показательным историческим фактом, на который обратил внимание писатель. Задавая в письме к Суворину вопрос о том, где находится этот русский социализм, Чехов сам и ответил: «Он в письме Тихомирова к царю» [Там же. С. 111].
В данном случае имелось в виду письмо императору Александру III члена организации «Народная воля» Л. А. Тихомирова, находившегося в эмиграции. В Париже он выпустил брошюру «Почему я перестал быть революционером». В ней он раскаивался и просил разрешения вернуться в Россию. Че- хова, очевидно, заинтересовала натура этого человека, являвшего определенный тип пассионария на русской почве. Показательно в этом плане признание Тихомирова: «Я не отказался от своих идеалов общественной справедливости. Они стали только стройней, ясней. Но я увидел также, что насильственные перевороты, бунты, разрушение, все это болезненное сознание кризиса, переживаемого Европой, не только не неизбежно в России, но даже мало возможно» [Чехов, 1976. Т. 3. С. 390]. Такая позиция была характерна для многих радикально настроенных русских интеллигентов, принимавших участие в «освободительном движении».
Перед Чеховым, автором «Иванова», встала проблема показать варианты «возбудимости», т. е. пассионарности, в системе создаваемых им драматургических образов. Его герои, Иванов и доктор Львов, представляют определенный уровень пассионарной возбудимости. Л. Н. Гумилев считал, что типичные герои Чехова не классические пассионарии, а « субпассионарии , у которых пассионарность меньше, чем импульс инстинкта», т. е. чисто бытового «здравого смысла», свойственного, как выражался Гумилев, «тихому обывателю». «У них как будто все хорошо, а чего-то все-таки не хватает», – пишет историк [Гумилев, 1990. С. 41]. Львову, например, для полноценной общественной деятельности хватает энергии и воли, но не хватает широты и глубины интеллекта: «Это тип честного, прямого, горячего, но узкого и прямолинейного человека, – пишет Чехов. – Про таких умные люди говорят: «”Он глуп, но в нем есть честное чувство”. Все, что похоже на широту взгляда или на непосредственность чувства, чуждо Львову. Это олицетворенный шаблон, ходячая тенденция», – таков безапелляционный диагноз Чехова [Чехов, 1976. Т. 3. С. 112].
Умному человеку Иванову видны все отмеченные качества Львова. Вместе с тем он понимает, что ему самому не хватает волевого начала. Такие люди, как Иванов, по утверждению писателя, «не решают вопросов, а падают под их тяжестью» [Там же. С. 111]. Благодаря отмеченной соотнесенности героев возникает напряженность драматургического конфликта, который завершается трагическим выстрелом, предсказанным еще в начале пьесы. Психологическая коллизия разрешается, условно говоря, выравнива- нием «импульсов пассионарного напряжения» героев. Иванов вспоминает свое прошлое, будучи спровоцирован агрессивным доктором Львовым, нанесшим ему жестокое оскорбление: «Постой, я сейчас это кончу! Проснулась во мне молодость, заговорил прежний Иванов!»
Но куда эта проснувшаяся молодость и энергия может повести героя, куда ему теперь идти? Энергия движения без идеала впереди обессмысливается. И вместо того, чтобы по житейской логике застрелить того, кто подложил под него психологическую «бомбу», он «взрывается» сам, кончая жизнь самоубийством. Этот мрачный конец как будто бы не сулит никакой перспективы. Но на катартический, «очистительный» смысл такой конец все-таки намекает. Можно заключить (хотя и с чувством горькой иронии), используя расхожую успокоительную логику, которая действует до сегодняшнего дня: если нет человека – нет и проблемы. Кончились его бесконечные мучения, отмеченные самим автором в цитированном письме к Суворину: утомление, скука, чувство вины, одиночество.
Проблема трагического «исхода» имела и другой, дополнительный акцент. На него в свое время обратил внимание Л. Фейербах, который считал, что «смерть – благо и даже право – священное естественное право придавленного злом на освобождение от зла». Он коснулся вместе с тем и такой деликатной и психологически тонкой материи, как мотивация самоубийства, считая, что уход из жизни человека подтверждает его связь с нереализованными мечтами и идеалами. В своей работе «О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли» философ писал: «Я хочу умереть, ибо я не хочу жить без того, что, наперекор моей воле, отняла или хочет отнять у меня враждебная судьба, независимо от того, есть ли моя собственная вина в этом или нет; я покидаю жизнь потому, что я не могу покинуть того, что я покинуть должен, и эту невозможность покинуть я могу выразить и доказать на деле только смертью: короче, я решаюсь умереть потому, что я должен разлучиться с тем, с чем нельзя разлучиться, лишиться того, чего нельзя лишиться, Жизнь – это связь с любимыми предметами, добровольная смерть – это разлука с ними, но такая разлука, которая выражает лишь не- расторжимость, необходимость этой связи; ибо разлука, которой я не могу пережить, которая связана с моим концом, является, конечно, доказательством нерасторжимости».
Свои рассуждения Фейербах завершает несколько неожиданно в гражданственном духе: «Даже тот, кто умирает смертью героя, отдает жизнь за родину, за свободу или за свои убеждения, – объявляет тем самым, что он не может абстрагировать от этих благ, что эта свобода и эти убеждения являются для него необходимостью, стоят в неразрывной связи с его существом и его жизнью» [Фейербах, 1955. Т. 1. С. 447]. Разумеется, эти соображения не поддаются иллюстративному сценическому воплощению, тем более что они носят характер теоретического комментария. Однако в данном случае имеет смысл в актерской интерпретации образа учесть отмеченную идейно-психологическую подоснову финального поступка главного героя.
Конечно, все больные русские вопросы в пьесе так и остались неразрешенными. Но Чехов верно говорил, что задача художника – правильно поставить вопрос, а не ответить на него. В письме к А. С. Суворину (27 октября 1888 г.) писатель замечает: «Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса (курсив Чехова. – В. О. ) . Только второе обязательно для художника. В “Анне Карениной” и в “Онегине” не решен ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус» [Чехов, 1976. Т. 3. С. 40].
Правильная постановка вопроса предполагала, конечно, размышления о грядущих исторических событиях, когда идейно «дозревшие» Львовы и Боркины должны были сойтись в смертельной схватке, Что из этого могло получиться и что реально в будущем получилось, Чехову, разумеется, было неведомо. И поэтому он не стал ничего прогнозировать, не выдвинул никаких догадок в этом направлении. Но вместе с тем он как художник, очевидно, понимал, что какая-то перспектива выстраиваться должна. Чехов много работал над текстом драмы, но так ничего и не придумал и завершил последнее действие самоубийством Иванова. Однако по- пытку осветлить мрачный финал и предложить соответствующий вариант окончания он все-таки предпринял. Но для этого ему нужно было написать какой-то дополнительный, завершающий текст, находящийся за пределами драмы, поскольку созданный им ранее практически не предполагал никаких изменений, приняв гармоничную классическую форму. И таким итоговым «текстом», созданным параллельно с «Ивановым», явился драматургический фрагмент, который он, вослед А. С. Суворину, озаглавил «Татьяна Репина».
Это была одноактная пьеса, события в которой ассоциативно связывались с заключительными эпизодами драмы «Иванов». Она играла роль своеобразного комментария, к которому должны были прислушаться упомянутые Чеховым «присяжные», т. е. читатели и критики, вынося свое окончательное суждение по поводу идейного смысла пьесы, в особенности ее четвертого акта. В «Татьяне Репиной» автор создал развернутую картину счастливого бракосочетания героя, который женится второй раз после того, как умерла его первая жена – Татьяна Репина. В драме «Иванов», как мы знаем, герой также должен был жениться на любимой и любящей его девушке Саше после смерти от чахотки его жены Сарры. Заостряя моральный смысл главного события, изображенного в пьесе «Татьяна Репина», Чехов вводит фигуру какой-то кликушествующей дамы, которая истерично проклинает героя пьесы за то, что его бывшая жена, Татьяна Репина, мертва, а он жив и счастлив: «Я отравилась из ненависти… Он оскорбил… Зачем он счастлив?.. Она в могиле, а он… он… В женщине оскорблен Бог…» А в толпе во время обряда венчания циркулирует слух: «Репина своей смертью отравила воздух. Все барыни заразились и помешались на том, что они оскорблены. – Даже в церкви отравлен воздух. Чувствуете, какое напряжение?»
В пьесе «Иванов», в конце четвертого действия, происходит нечто подобное: покойная Сарра тоже «отравила воздух», и над центральным героем нависло «проклятие». В этом отношении психологическая атмосфера финала пьесы похожа на ту, какую описал Чехов в «Татьяне Репиной». Но драматург остановил своего героя, Иванова, на «пороге», который тот не хочет и не может переступить. Обращаясь к невесте, Саше,
Иванов восклицает: «Сию же минуту, немедля откажись от меня! Скорее…». Ему кажется, что этот отказ спас бы его от мук совести и от осуждения «толпы». Тем более, что знак «проклятия» уже обнаружился в хлестком заявлении доктора Львова: «Николай Алексеевич Иванов, объявляю во всеуслышание, что вы подлец!» Выстрел Иванова прервал развитие событий, намеченное в «Татьяне Репиной».
Драма «Иванов» оказалась внешне и внутренне завершенной. Но тогда что же, кроме повторения сюжетной ситуации, предлагает Чехов читателю и зрителю в «Татьяне Репиной»? Прежде всего, следует обратить внимание на открытый финал пьесы. Сюжетно она не закончена, но закончена проблемно. И это проблемное окончание, по сути, можно и должно отнести и к драме «Иванов». В данном случае следует учесть религиозноэтическую направленность «Татьяны Репиной». Религиозная атмосфера, насыщающая пьесу, создается благодаря оригинальному художественному приему: бытовые «описания» происходящих событий, связанных с обрядом венчания, сочетаются автором с приводимыми тут же молитвословиями. Не важно, в каком композиционном порядке они цитируются автором. Важен их религиозный смысл в общей концепции произведения. Чехов приводит слова Господней молитвы. Архиерейский хор поет: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое…». Такой прием сакрализации светского текста перекодирует весь бытовой материал пьесы в «мистериаль-ный» план. «Мистериальный» смысл происходящего подчеркнут и словами священника: «Ибо в Канне Галилейской пришествием своим честен брак показавый…». Речь идет здесь, как известно, о явлении Христа, превратившего чудесным образом воду в вино, что явилось знаком Благословения.
Все эти маркированные автором текстовые фрагменты отбрасывают свет и на события, происходящие в пьесе «Иванов». То, что драматург не мог сказать собственными словами, он сказал молитвословиями. Так, например, жизненный подвиг таких героинь, как Сарра и Саша, «идущих на брачный пир», проясняется в контексте «Татьяны Репиной» благодаря выделению автором характерного момента венчания, когда следует так называемый «отпуст». Отпуст – это молитвос- ловие священника, в котором «упоминается о Боговенчанных Царях, равноапостольных Константине и Елене, как распространителях правоверия, и о святом мученике Прокопии, научившем дванадесять жен с веселием и радостью идти на мученическую смерть как на брачный пир» [Никольский, 1907. С. 731]. Сакральный оттенок поведения Сарры и Саши обнаруживается в том, что они по смыслу действия, наоборот, шли на «брачный пир» как на «мученическую смерть». Объективно это было именно так. Но субъективно они с радостным и открытым чувством избирали именно этот драматический вариант «судьбы», утверждая попутно то положение, что «уныние Богу противно».
Заключительным аккордом, который соотносим с финалом драмы «Иванов», могло бы логично явиться следующее молит-вословие, приведенное Чеховым в «Татьяне Репиной»: «Христос, истинный Бог наш… помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец!» А то, что провозглашенные автором высокие духовные истины могут относиться и к «маленькому человеку», которого Чехов так любовно изображал, в том числе и в своих пьесах, подтверждают и авторитетные богословы. Процитируем одного из них: «Промысел Божий, со всеми своими действиями, простирается не только на мир вообще, на роды и виды существ, но на каждое сотворенное существо в особенности» [Макарий…, 1999. С. 526].
Все высказанные нами соображения, относящиеся к сложному поэтическому «лабиринту сцеплений», едва ли могут быть буквально реализованы в сценических вариантах чеховских пьес. Чехов это понимал, когда сознательно нарушал границы стесняющей его драматургической формы, постоянно переходя только ему ведомыми путями в область эпической поэзии. «Избыточный» смысл текста подчас требовал мощных режиссерских и актерских усилий для своего воплощения. Он предполагал творческий эксперимент, а значит – принципиально новаторский подход. Это не всегда и не всем театральным деятелям удавалось осуществить. Но Чехов как бы говорил: если не можешь сделать так, как написано, делай так, как можешь, предусматривая при этом сохранение сущности авторского замысла. Чеховский театр до сегодняшнего дня следует по такому пути, открывая новые творческие горизонты.