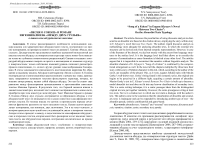"Песня о соколе" в романе Евгения Клюева "Между двух стульев": к типологии абсурдистских текстов
Автор: Семенова Нина Васильевна, Бабушкина Татьяна Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности использования дискурс-анализа для характеристики абсурдистского текста, построенного на приеме цитирования, на примере вставного текста из романа Е. Клюева «Между двух стульев». Дискурс-анализ представляется наиболее адекватной методологией для анализа текстов абсурда, где поверхностная структура текста может быть выведена только из глубинных семантических репрезентаций. Однако в ситуации с литературой абсурда можно говорить не просто о восхождении от языковых структур к поверхностным: только собственно языковой уровень позволяет рассмотреть процесс семантизации, т.к. на всех других уровнях смыслообразование блокировано. В статье доказывается невозможность восстановления нарратива без обращения к языковому анализу. Абсурдистский характер «Песни о соколе» Е. Клюева подтверждается и композиционным расположением: в романе все главы, кратные трем, завершаются вставными текстами фольклорного характера, которые, по мнению автора романа, являют собой образцы абсурда. Это как бы ставит знак равенства между фольклорными произведениями и хрестоматийно известным текстом Максима Горького. В результате того, что Горький оказался вписан в данный смысловой ряд, исходный текст начинает восприниматься в новом свете, приобретая при этом известную долю абсурда. Текст Максима Горького в романе Е. Клюева «Между двух стульев» достраивается до образцового абсурда, и этот абсурдистский текст не вписывается ни в какую известную классификацию вторичных текстов. По технике письма это центон: в произвольном порядке сочленяются фрагменты разъятого на части исходного текста. Однако центон предполагает цитирование, как минимум, двух источников. Это и не текст-«цитант», в котором приводится один чужой текст, вступающий в диалог с авторским текстом. Авторы статьи приходят к выводу о недостаточности классификации абсурдистских и вторичных текстов, которая может быть расширена за счет введения такого типа текста, как абсурдистская пародия, построенная исключительно на приеме комбинаторной игры.
Абсурдистский текст, "глубинная" и "поверхностная" структуры текста, дискурс-анализ, нарратив, цитация, центон, вторичный текст, пародия
Короткий адрес: https://sciup.org/149127129
IDR: 149127129 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00016
Текст научной статьи "Песня о соколе" в романе Евгения Клюева "Между двух стульев": к типологии абсурдистских текстов
Теория абсурдистского текста сегодня активно разрабатывается исследователями. В качестве его признаков рассматриваются «конфликт двух скриптов» (двух моделей мира), в результате чего абсурд превращается в комизм [Вайс 2004, 259-272]; нарушение «условий языковой связности»; лежащий в основе текста парадокс [Циммерлинг 2004,287-306]; упорядочивание абсурда за счет «структурного покоя», «структурного комфорта» [Клюев 2000, 68].
Дискурс-анализ представляется наиболее адекватной методологией для анализа текстов абсурда, где «поверхностная структура текста» [Дейк ван Т, Кинч В. 1989, 59], «поверхностная структурная и семантическая информация» [Дейк ван Т., Кинч В. 1989, 65], событие, система образов, хронотоп могут быть выведены только из «глубинных семантических репрезентаций» [Дейк ван Т, Кинч В. 1989, 63]. Однако в ситуации с литературой абсурда мы имеем дело не просто с восхождением от «глубинных», языковых, структур к «поверхностным», где препозиции выстраиваются «в результате анализа, направленного снизу вверх» [Дейк ван Т, Кинч В. 1989, 50]. Только собственно языковой уровень позволяет рассмотреть процесс семантизации, т.к. на всех других уровнях смыслообразование блокировано.
В подтверждение сказанного попытаемся показать обреченность попытки восстановить нарратив на примере вставного текста в романе «Между двух стульев» Е. Клюева [Клюев 2008, 63-64] (текст Е.В. Клюева выделен курсивом). Данный текст представляет собой парафраз «Песни о Соколе» Максима Горького.
«Высоко в горы вполз Уж и лег там - весь в белой пене, седой и сильный (следовательно, Уж выполз из моря), с разбитой грудью (или это результат падения с высоты; или же, возможно, последствие того, что птица схватила Ужа когтями, вознесла с земли, а потом, после битвы, выпустила), в крови на перьях (непонятно, чья это кровь: то ли самого Ужа, то ли это кровь и перья врага, т.е. Уж дрался с птицей), сердито воя: «О, твердый камень!» (восклицание-проклятие, которое Уж адресует камню, о который он ударился при падении). ...И сам, как камень, упал на землю. Эта фраза предпоследнего абзаца подтверждает именно такой ход событий. Сочинительный союз И и определительное местоимение «сам» в этом контексте указывают на зеркальность ситуации: кто-то (очевидно, Уж) упал на землю перед падением Сокола.
В диалоге Ужа и Сокола позиции полярно меняются по сравнению с исходным текстом: Уж подтверждает, что пришел его последний час, «гремя камнями», что можно истолковать как симптом предсмертной агонии, которая сопровождается сокращением мышц сильного тела (Уж - «седой и сильный»).
Сокол насмехается над раненым Ужом: Эх ты, бедняга, Уж, испугался! При этом избыточность второго обращения («бедняга» и «Уж») создает двуплановость восприятия: слово «уж» выступает и в значении наречия («Эх ты, бедняга, уж испугался»), и одновременно в роли имени существительного. Вслед за этим следует знаменитая сентенция, которая переадресована здесь Соколу: Летай иль ползай - конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет... Уж, таким образом, оказывается врагом Сокола, и врагом поверженным, что не отменяет его финального торжества: Пускай ты умер! В оборванной на полуслове фразе из «Песни о Соколе» Максима Горького меняется значение служебного слова «пускай»: оно теперь не уступительный союз, как в исходном тесте («Пускай ты умер!... Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!» [Горький 1949,1, 485]), а частица, которая «выражает <.. > согласие с чем-либо; хорошо, ладно, так и быть»

[Словарь современного русского литературного языка 1961, XI, 1734].
Однако даже при опоре на исходный текст не поддается объяснению, почему Уж должен броситься вниз, «скользя когтями», «теряя перья». Размывание бинарных оппозиций, четко обозначенных в тексте каноническом (Уж - Сокол, низ - верх), удовлетворительного объяснения возникшего нонсенса не дает, хотя само по себе маркирует семантические сдвиги.
Симптоматично в этом случае, что рассматриваемый вставной текст не имеет заглавия, а если бы имел, то назывался бы, скорее всего, не «Песня о Соколе», а «Песня об Уже». Тройная аллюзийная отсылка к горьковскому тексту в романе не случайно актуализирует именно фигуру Ужа:
«- Почему я не могу взлететь? - строго спросил Петропавел у Летучего Жуана.
-
- Ужи и ежи, как мы знаем из классики... - поверх телячьей ноги намекнул тот и отвернулся...» [Клюев 2008, 180] (контекстуально подразумевается «не летают»).
К Ужу отсылают и искаженные цитаты: «Рожденный ползать понять не может» [Клюев 2008, 77] и «Я не убился, а рассмеялся» [Клюев 2008, 18].
То, что позиция автора в абсурдистском тексте завуалирована, не вы ражена достаточно четко, хорошо видно при сопоставлении с текстом не абсурдистским. Так, например, роль Сокола четко эксплицирована в парадоксальном высказывании Дона Аминадо из исторического романа Валентина Лаврова «Катастрофа».
«Изящно паря, высоко в небе повис ястреб.
-
- Гордое пернатое! - с восхищением сказал Дон Аминадо. - Но птицы-то нас и погубили. Несомненно.
-
- Вы что, Аминад Петрович, хотите этим сказать? - заинтересовался Бунин.
-
- Ну а как же! Буревестники, соколы, ястребы, вороны. Петухи, поющие на вечерней заре. Альбатросы, которых ни один зоолог не видел. Умирающие лебеди. И, наконец, непримиримые горные орлы:
Сижу за решеткой в темнице сырой
Вскормленный на воле орел молодой...
Но вот явился самый главный “певец свободы” - с косым воротом и безумством храбрых. Покашлял в кулак и нижегородским баском заокал:
Над седой пучиной моря
Гордо реет буревестник,
Черной молнии подобный...
А что, птица действительно замечательная: и реет, и взмывает, и вообще -дело делает. Не то что гагары, которым “недоступно наслажденье битвой жизни...”. Дело в том, что “гром ударов их пугает”. Дело естественное, гром кого хочешь напугает... Зато теперь платим дорогой ценой за увлечение утками, кре- четами, орлами, воронами.
Ну, это уж планида такая у некоторой части пишущей братии: Россию ругают, а всякую шантрапу восхваляют. Будут слагать оды Ленину, Троцкому, Махно... -уверенно заявил Бунин. - Убей десять миллионов, и ты героем войдешь в историю» [Лавров 1994, 236].
Аллюзия к «Песне о Соколе» служит дискредитации понятий, соотнесенных по принципу метонимии: «Песня о Соколе» как произведение революционного романтизма, ее автор, «буревестник революции» - Максим Горький, и сама революция.
Не все так однозначно в романе Е. Клюева, где текст Максима Горького подвергается существенной трансформации, и непонятно даже, в какие отношения вставной текст в романе Е. Клюева вступает со своим окружением: это, по М.М. Бахтину, диалог-согласие [Бахтин 1996, 364] (в другом обозначении - «случай сочувственной цитации» [Клюев 2000, 161]) или диалог-полемика [Бахтин 1996, 364] - дискредитация произведения и автора.
Существенную роль для восприятия трансформированного текста Максима Горького играет само расположение его в произведении Е. Клюева. Дело в том, что в романе «Между двух стульев» все главы, кратные трем (3,6, 9,12, 15, 18,21), завершаются вставными текстами фольклорного характера, которые можно считать своего рода фразеологизированными в силу устойчивости их состава, воспроизводимости и, главное, широкой распространенности в современном культурно-социальном пространстве. Пять из них - детские считалочки («Раз, два, три, четыре, пять, Вышел зайчик погулять...», «Баба сеяла горох...», «Ехал Грека через реку...», «Вышел месяц из тумана...», «Обезьяна без кармана...») и один - сказка о Курочке Рябе. В финале же шестой главы дан переиначенный горьковский текст. Такое композиционное расположение не случайно и ставит как бы знак равенства между фольклорными произведениями и хрестоматийно известным текстом Максима Горького.
В романе «Между двух стульев» в конце каждой вставной истории имеется своего рода постскриптум, где автор размышляет о том, насколько абсурдны описанные в них ситуации, и, пытаясь якобы очистить их от абсурда, на самом деле в своем пересказе доводит их до крайней степени бессмысленности и полной нелепости. Так, например, в конце 21-й главы дается новая версия «Курочки Рябы»: «Жили себе дед и баба. Была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко - яичко не простое, а золотое. Обрадовался дед, обрадовалась баба. Взяли они золотое яичко, понесли на рынок. И там за это золотое яичко дали им десять тысяч простых. Сто яичек они съели, а остальные протухли. Не знаю, устраивает ли такая история вас, но меня... - как-то вдруг не очень» [Клюев 2008, 238].
Объясняя причины, по которым Горький оказался вписан в этот смысловой ряд, можно предположить, что известной долей абсурда обладал исходный текст - песня-сказание чабана Рагима (пример тому - фигура Ужа, который, вопреки своей природе, пытается летать). При этом меняются местами субъекты действия: смелый Уж вступает в смертельную схватку с Соколом (эта интенция есть и в первичном тексте, но о битве с врагом мечтает раненый Сокол). Здесь сам Сокол оказывается врагом, а безотчетной отвагой наделен Уж. Сокол советует Ужу броситься вместе с потоком, текущим из ущелья, в море. Два равных достойных соперника сходятся в поединке: раненый Уж и раненый Сокол. Уж побеждает Сокола, и мертвое тело поверженного противника уносит поток.
Абсурдность происходящего в «Песне о Соколе» засвидетельствовал И.А. Бунин, оставивший следующий недружественный отзыв: «Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто бы сказал, наконец, о том, какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как “Песня о соколе” - песня о том, как “высоко в горы вполз уж и лег там”, а затем, ничуть не будучи смертоносным гадом, все-таки ухитрился насмерть ужалить за что-то сокола, тоже почему-то очутившегося в горах» [Ильинский 2008,21].
Если на поверхностном уровне - уровне сюжета - абсурдность вставного текста в романе только намечена, то на глубинном, языковом, разражается настоящий «семантический скандал». Здесь оказывается важен эффект узнавания не просто исходного текста, но и языковых характеристик, которые прочно ассоциируются с героями и ландшафтными объектами в горьковской «Песне о Соколе». Е.В. Клюев вправе рассчитывать на то, что читатель хорошо помнит исходный текст, поскольку он входит в современный канон школьного образования. Уже первая фраза состоит из узнаваемых характеристик Ужа («Высоко в горы вполз Уж и лег там»), потока («весь в белой пене, седой и сильный», «сердито воя»), Сокола («с разбитой грудью, в крови на перьях»). Последняя часть: «О, твердый камень!» - дана с изменением пунктуации (у Горького: «...и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень» [Горький 1949, I, 483]). Тот же принцип сочленения используется и в последующих предложениях. В результате нарушается субъектно-объектная организация текста: субъекты наделяются объектными характеристиками и обратно. Возникают образы кентавры: Уже-поток, Уже-Сокол, Сокол-поток-Уж.
Новое соединение отрезков текста порождает нонсенсы, которые уравновешиваются за счет того, что Евгений Клюев называет «детальной про-строенностью структуры» [Клюев 2000, 68]. Прием цитации рассматривается им как «один из самых сложных способов акцентировать структуру» [Клюев 2000, 162]. В данном случае мы имеем дело, помимо лексических цитат, с метрической и ритмической цитацией. При этом вторичный текст графически оформлен как «версейная проза» [Орлицкий 1999,40-50], разбит на фрагменты, равные, как правило, одному-трем предложениям, что усиливает ритмическую упорядоченность текста.
Небезразличен для понимания смысловых приращений характер ввода цитаты. Предпосланный песне текст: «Тонкий и длинный, как игла, звук проткнул пространство», - с одной стороны, маркирует цитату, с другой -

намекает на грамматически небезупречную конструкцию, характеризующую соносферу в «Песне о Соколе»: «Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная (выделено нами. - Н.С., ТБ.) и шаловливая нота» [Горький 1949,1, 482]. Комментирующий этот пассаж афоризм персонажа романа «Между двух стульев» - Белого Безмозглого: «Была бы могила - желающие всегда найдутся!» [Клюев 2008, 63] - уравнивает героическую гибель Сокола в «Песне о Соколе» и негеройскую его смерть в переписанном тексте. В обоих случаях торжествует обыватель, но во вторичном тексте дегероизирован и образ Сокола.
Можно предположить, что текст Максима Горького в романе Е. Клюева «Между двух стульев» достраивается до образцового абсурда, и этот абсурдистский текст не вписывается ни в какую известную классификацию вторичных текстов. По технике письма это центон: в произвольном порядке сочленяются фрагменты разъятого на части исходного текста. Однако центон предполагает цитирование, как минимум, двух источников. Это и не текст-«цитант», в котором приводится один чужой текст, вступающий в диалог с авторским текстом (если не признать за авторский текст введение двух предлогов: «в» и «на», чем авторское присутствие и ограничивается) [Центоны и цитанты]. В нашем случае «семантический сдвиг системы» [Кузьмина 2009, 77] позволяет увидеть в «Песне о Соколе» Е. Клюева какой-то неизвестный ранее вариант вторичного текста - абсурдистскую пародию, построенную исключительно на приеме комбинаторной игры.
Список литературы "Песня о соколе" в романе Евгения Клюева "Между двух стульев": к типологии абсурдистских текстов
- Бахтин М.М. Из архивных записей к работе «Проблема речевых жанров» // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 364-374.
- Вайс Д. «Грамматика» абсурда: абсурд как категория текста // Абсурд и вокруг / под ред. О. Бурениной. М., 2004. С. 259-272.
- Горький М. Собрание сочинений: в 13 т. Т. 1. М., 1949.
- Дейк ван Т., Кинч В. Макростратегии // Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 41-67.
- Ильинский И. Горький и Бунин: друзья-враги. Цит. по: Литературная газета. 2018. № 13 (6637). С. 20-21.
- Клюев Е. Между двух стульев. М., 2008.
- Клюев Е.В. Теория литературы абсурда. М., 2000.
- Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. 5-е изд. М., 2009.
- Лавров В. Катастрофа. М., 1994.
- Орлицкий Ю. На грани стиха и прозы (Русское версе) // Арион. 1999. № 1 (21). С. 40-50.
- Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. Т. 11. М.; Л., 1961.
- Центоны и цитанты. [Электронный ресурс]. URL: http://slovomir.narod.ru/ slovarevo/ant/14.html (дата обращения 10.04.20018).
- Циммерлинг А. Логика парадокса и элементы абсурдистской эстетики // Абсурд и вокруг / под ред. О. Бурениной. М., 2004. С. 287-306.