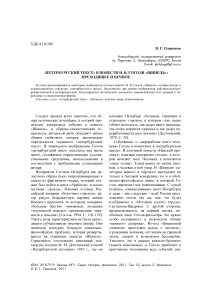«Петербургский текст» в повести Н. В. Гоголя «Шинель»: преходящее и вечное
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые особенности поэтики повести Н. В. Гоголя «Шинель», которая входит в композиционную структуру «петербургского цикла». Выделяются два уровня изображения действительности: реалистический и метафизический. Анализируются поэтический «механизм» взаимодействия этих уровней и переходные художественные формы.
"петербургский текст", "шинель", поэтика, жанр, повествование
Короткий адрес: https://sciup.org/14737413
IDR: 14737413 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи «Петербургский текст» в повести Н. В. Гоголя «Шинель»: преходящее и вечное
Следует прежде всего заметить, что общая поэтическая атмосфера, в которой происходят конкретные события в повести «Шинель», и образно-стилистическая тональность авторской речи обладают неким общим свойством, которое закономерно определяется термином «петербургский текст». В творческом воображении Гоголя «петербургский цикл» мыслился как некое целое, создаваемое определенными художественными средствами, используемыми в соответствии с проблемными установками автора.
Восприятие Гоголем Петербурга как целостного образа было запрограммировано в одном из фрагментов очерка, который должен был войти в цикл «Арабесок» и носил заглавие «Дождь». Называя столицу Российской империи «болотным городом», автор рисует безрадостную картину жизни Невского проспекта, по которому шныряют «большие бестии» чиновники, людишки «плутовской породы», проявляющие «жадность к деньгам» [Гоголь, 1994. С. 118, 119]. Такого рода характеристики не были преходящим субъективным мнением автора. Они намечали контурно большую социальнофилософскую проблему, которая развертывается на страницах повести «Шинель». Серьезность гоголевских замечаний подтвердил позднее Ф. М. Достоевский в своей «Петербургской летописи» 1847 г., где он называет Петербург «больным, странным и угрюмым» городом, в котором «так скоро гибнет молодость, так скоро вянут надежды, так скоро портится здоровье и так скоро перерабатывается весь человек» [Достоевский, 1978. С. 34].
Собственно, о «переработке всего человека» Гоголь и повествует в «петербургском цикле». В ключевой повести «Невский проспект» показана панорамно «толпа», в которой исчезает лицо Человека, а появляется «лицо толпы». Толпа живет по своим законам, а человек в ней умер. В «Шинели» категории живого и мертвого выступают не только в бытовой конкретике, но и в обобщенно-философском плане, в который Гоголь переводит все повествование. С одной стороны, «ошинеливание» всего Петербурга и даже – как следствие – всей России представлено почти так же, как это будет изображено в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. С другой стороны, прорисовывается, на первый взгляд, необычное лицо Гоголя-философа, что нужно особо подчеркнуть в творческом облике «великого сатирика». Из-под официозной «шинели» проступает мысль о «вечном»: о рождении человека, его жизни на грешной земле, смерти и возможном бессмертии. Уместить это в рамках реально-бытового сюжета невозможно, и Гоголь прибегает к притчевому изложению всех событий, свя-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 2: Филология © В. Г. Одинокое, 2011
занных с жизнью героя, которая трансформируется в житие.
Г. П. Макогоненко указал на возможность сравнения судьбы Акакия Акакиевича с житием Акакия Синайского [1985. С. 318– 319]. Но главное здесь даже не в прообразе, а в художественной трактовке Гоголем универсальной схемы жизни, восходящей к Божественной воле Творца. Такой поход в принципе свойствен многим писателям, которые продолжали так или иначе традиции Гоголя – художника и религиозного мыслителя. Русские исследователи отметили характерное национальное явление – воплощение философского содержания многих произведений в художественной форме. В коллективной монографии «Философия Шеллинга в России» обращено внимание на такое понятие, как «эстетическая интуиция», восходящее к шеллингианскому учению. Автор одного из разделов, В. В. Лазарев, замечает: «Одно из коренных основ шеллингианского мировидения – эстетическая интуиция. Русскому философствованию также очень свойственно облачаться в художественную форму и под этой формой развивать философское содержание» [Философия Шеллинга…, 1998. С. 482]. Частное, бытовое в этой позиции растушевывается, четко проступает одно общее, которое, однако, сливается с частным и через него постигается. Такого рода «эстетическая интуиция» проявляется и у автора «Шинели» сразу же, с первой страницы художественного повествования.
Следует сказать, что автор начинает рассказ не с общих положений, а с описания всякого рода частностей. Но художественный парадокс заключается в том, что «частности» типизированы до такой степени, что являют собой в отдельности и совокупности обобщенную картину жизни индивидуума и общества. Открывается текст провоцирующей фразой: «В департаменте…». Гоголь сам поставил это многоточие, чтобы у читателя после некоторой паузы проснулось желание узнать, в каком «департаменте»? Но... «но лучше не называть, в каком департаменте». Дальше повествование продолжается в том же духе: «Итак, в одном департа-менте служил один чиновник». Выделение шрифтом сделано самим автором, А приведенная фраза подчеркнуто напоминает стиль притчи.
Правда, дальше Гоголь, «играя» с читателем, указывает не только чин «вечного титулярного советника», но и фамилию героя, которая вроде бы должна выявить что-то сугубо индивидуальное. Однако дальнейшие объяснения автора решительно перечеркивают и это предположение: «Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то происходила от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно». Безликий башмак и безликая шинель сошлись в одной точке – на безликом вечном титулярном советнике. Моделирование общего вольно или невольно приводит Гоголя к эпопейности, принцип которой был уже заложен в статье «О малороссийских песнях» и практически реализован в «Тарасе Бульбе». Теперь же это была модификация – городская эпопея. И реализована она была прежде всего в области «глобального» конфликта, сформированного, как мы видим, с помощью повествовательного элемента, органично входящего в общую стилевую партитуру повести. Не случайно Б. М. Эйхенбаум, размышляя над тем, как сделана «Шинель, обратил внимание прежде всего на стиль, определив его как «сказовый». В этом аспекте исследователь отмечает четко проступающие элементы «эпического сказа» [1986. С. 57].
Заметный на первых страницах повести такого рода стиль проявляется и дальше, маркируя предметы и функции их в сюжетном плане и формируя «виртуальный» образ мира, проявляющий себя в различных модификациях. «Просто чиновник» предстает как органическая часть «чиновного народа», трактуемого Гоголем как своеобразный социальный «космос». Гоголь определяет его словом «всё»: «…когда всё уже отдохнуло от департаментского скрыпенья перьями…» В эпической стилевой тональности, соединяющей мир человека и природы, преподносятся читателю и самые обыкновенные погодные явления. Гоголь подчеркивает, что перед «врагом всех», который именуется петербургским морозом, «бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны». И дальше, в том же типизированном плане излагаются последующие прогнозируемые события: «Всё спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям».
Но как видно даже из приведенных примеров, чиновничий «эпос» находится постоянно на грани пародии, которая переходит в анекдот о мелком чиновнике, у которого украли шинель. В неанекдотической стихии такую ситуацию трудно себе представить, хотя Гоголь ее постоянно и успешно преодолевает. Такая стихия вступает в свои права владения уже сразу после приведенной выше цитаты: «Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели». Итак, появилась тема шинели, в которой сохранился религиозный элемент всеобщей «греховности». Далее тема развертывается в художественной тональности «натуральной школы», которую автор «Шинели», как известно, сам и создал. Под покровом шинели оказался весь чиновничий мир.
Утрата шинели теперь означала крушение мира в социальном и психологическом аспектах. Гоголь, дойдя в изложении художественного материала до этой границы, метафорический образ «ошинеленного мира» переводит в сугубо предметный мир Акакия Акакиевича, у которого шинель самым элементарным образом сняли на улице грабители. Но чтобы развернуть в драматическом плане тривиальную ситуацию, Гоголь использует условно «параллельный» текст, изображающий трагедию «маленького человека», потерявшего с утратой шинели «всё».
Сначала возникает идея шинели как обретения нужной вещи, ибо старая шинель уже не греет нашего героя. Но поскольку реализовать замысел оказывается не так просто чисто материально, повествование переключается в план драматический и даже трагический, связанный с психологическими коллизиями. Чуть раньше Гоголь заставил читателя обратить внимание на одну деталь, которая переводила тему державного Петербурга в профанирующий контекст бытового анекдота: играющие в «штурмовой вист» и прихлебывающие чай чиновники «пересказывали вечный анекдот о ко- менданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади фальконетова монумента». Если вспомнить слова А. С. Пушкина «Куда ты скачешь, гордый конь?», становится очевидной ирония автора, открывающего границу между «драматическим» и «анекдотическим». Бытовая ситуация приобретения шинели в своих художественных модификациях в контексте повести постоянно выходит на иной уровень, который можно определить как драматический и даже философско-метафизический.
Посмотрим, как это конкретно реализовано в повести. Итак, идея шинели уже прорисовалась в сознании героя. И автор, следуя за ним, начинает ее развивать. Естественно, Башмачкин идет к портному, который решительно заявляет: «Нет, нельзя поправить: худой гардероб!» Далее эпизод преподносится автором в стилистике «натуральной школы» и завершается итоговой фразой портного Петровича, которая потрясает Акакия Акакиевича: «...А шинель уж, видно, вам придется новую делать». Реакция оказывается почти непредсказуемой: «При слове “новую” у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться». Анекдотичность ситуации и серьезная психологическая реакция персонажа в процессе повествования постоянно взаимодействуют, создавая особую поэтическую фактуру. Эти переходы очень зыбкие, Стилевые перебои создают напряженную атмосферу в описании различных сцен и логически приводят в общем повествовательном контексте к драматическому исходу, представленному автором в виде сцены, когда с Башмачкина стаскивают «драгоценную» шинель и наступает психологический крах, как при утрате уже упомянутого «всего», что представляет жизненную ценность. Но этот крах Гоголем подготовлен, и он выглядит благодаря «лабиринту сцеплений» как действие неких сил, которые выше человека. Такой силой оказывается и властитель судьбы Акакия Акакиевича, портной Петрович, которого Гоголь аттестует как нечто «общее», неизбежное, подобно античному «року». Еще до окончательного внутреннего краха героя он прокладывает к его погибели прямую дорогу, и не как личность, а как судьба. Башмачкина он вводит в транс, заявляя: «Да три полсотни с лишком надо будет прило- жить...». Магические «три полсотни» потрясают героя. Характерна его реакция: «Полтораста рублей за шинель! - вскрикнул бедный Акакий Акакиевич...» И тут же к чисто бытовой констатации факта, слегка эмоционально окрашенной, добавляется психологическая деталь, которая буквально взрывает будничную ситуацию, меняя ее психологическую тональность: «...вскрикнул, может быть, первый раз от роду». В качестве ремарки эта фраза могла бы оказаться и в контексте какой-либо трагедии. Гоголь таким образом подготовил почву для драматического центрального конфликта, синтезировавшего в художественном плане описание бытовых деталей анекдотического характера с почти трагедийной подоплекой происходящего.
Шинель оказалась очень дорогой в двух смыслах - бытовом и психологическом. Заметим, что Гоголь выступает в подобных случаях не только как философ, но и как психолог. Обретение Башмачкиным шинели, приобщив его «высшему» обществу, изменило весь его духовный уклад «маленького человека». Пошлейший чиновничий мир вдруг заиграл какими-то необыкновенными красками. Гоголь придумал «апофеоз» Акакия Акакиевича Башмачкина. Добротная шинель, как у «всех», жизнь которых Гоголь представил в виде чиновничьего «эпоса», открыла перед ним новый мир, изменив его внутреннюю сущность: «его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель». И далее: «Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения».
Эти оптимистичные сценки, апеллируя к интуиции читателя, уже настораживают его и готовят к закономерно необходимому и внутренне ожидаемому центральному конфликту, ибо без него выбранный писателем жанр повести в своей классической форме просто не мог бы состояться. Первая половина повествования в бытовом и философичном плане заканчивается сценой грабежа и последующим бунтом против «значительного лица», религиозно-философская глубина которого обнаруживается особенно четко в контексте христианской гносеологии, предусматривающей понятие «Лица», закономерно предполагающее явление «Лика». Оно проявится в метафизическом плане в финале повести.
Метафизическая линия жизни героя теперь прорисовывается в обобщенном плане в виде «модели» жизни человека вообще. А что произошло с конкретным человеком? В глобальном масштабе произошло то, что происходило и происходит со всем человечеством. Автор сообщает читателю, что человек родился, живет... В общем, показывает «жизнь человека». Эпическая тональность повествования предполагает естественный и неотвратимый исход: в общем -родился, жил, умер. Однако такое заключение еще не конец. Акцентированная автором форма подачи материала, связанная с жизнью Акакия Акакиевича, трансформирует жизнь героя, превращая ее в «житие». Переход в эту тональность подчеркнут еще и тем, что обнаруживается в судьбе Баш-мачкина такое явно сакральное явление, как жизнь после смерти. С этим дополнением схема жизни Акакия предстает в виде формулы: рождение, жизнь, смерть, жизнь после смерти «Житие» как жанр проступает в повести в форме «намека», поэтической подсказки. Бытовые, анекдотические элементы, конечно, затушевывают сакральное начало, но оно все-таки является и сюжетообразующим фактором, и поэтическим инструментом, с помощью которого автор объясняет читателю духовные связи между миром человека и «Тем, кто выше его».
Гоголь прозревал две очевидные для него «реальности»: одна выступала в бытовой форме, другая - как царство духа в религиозно-философском смысле. Первая проявила себя в эпизоде ограбления Башмачкина, после чего он решил отправиться с жалобой в «высшие инстанции». Для Гоголя этот эпизод был очень важен, так как давал ему возможность обнаружить двойной смысл этой встречи со «значительным лицом»: служебно-бытовой и сакральный, который писатель зашифровал и только в финале повести, в «жизни» Башмачкина после смерти несколько приоткрыл глубокое значение вроде бы очень забытовленного эпизода появления героя перед грозным начальником. Итак, что же произошло?
А произошло то, что была шинель - и нет шинели. В изображаемом бытовом пространстве, в сущности, - это самое важное. Приведем текст Гоголя: «Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег, и ничего уж больше не чувствовал». Такого рода «реквиемом» можно было бы в гипотетическом варианте, в духе «натуральной школы» и закончить повествование, Однако от «пинка коленом» герой по одной, ведомой только Г оголю «параболе» залетает в иную сферу бытия, в которой, как уже было замечено, господствуют законы «Того, кто выше человека». Вначале Гоголь набрасывает контуры фигуры обыкновенного начальника, к которому собирается с жалобой обратиться Башмачкин. Эту ситуацию автор обыгрывает в разных вариантах, постепенно поднимаясь по административной лестнице. Наконец, он добирается до некой символической персоны, которая обозначена как «значительное лицо». И вот в этом пункте происходит процесс раздвоения, «бифуркации».
Особо знаменательной линией повествования является история конфликта со «значительным лицом», который как «игрушка-вертушка» повертывается к читателю то своей бытовой, то метафизической стороной. Такая двойственная структура интерпретации явления утверждается Гоголем как творческий принцип и в образной форме доводится до сведения читателя сразу же в первой петербургской повести «Невский проспект», в заключительном словесном пассаже автора: «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитым сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка, Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящуюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой». Такова изнанка мира, открывающаяся взору автора, который информирует об этом читателя. Но вместе с тем пустяковое, незначительное, на первый взгляд, явление может заключать в себе нечто важное, скрытое за профанной формой выражения: «Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете».
В рассматриваемом случае Гоголь как бы говорит: вы, читатели, думаете, что речь идет о каком-то зазнавшемся чиновнике, который строит из себя административно высокозначимое лицо? Нет, за этой «жанровой» сценой стоит совсем другой, предполагаемый образ именно того, кто «повыше человека». Но этот образ не лежит на поверхности. Он, как впоследствии в поэтике А. П. Чехова, уведен Гоголем в «подтекст», который прочитывается в ключе авторской религиозно-этической идеи. Бытовой аспект сюжетного построения повести проясняет образ «начальника», который, красуясь своей «значительностью», прогоняет Акакия Акакиевича, способствуя его болезни и смерти. Однако образ начальственной персоны под пером Гоголя обретает не свойственный бытовому образу метафизический смысл.
Писатель подробно обыгрывает в повести именно такой смысловой аспект. Деперсонализация, связанная с этим аспектом, начинается с широкой типизации понятия «значительности». Гоголь в тексте это понятие выделяет даже шрифтом, поясняя, с каким явлением (не личностью) столкнулся герой. Перед Башмачкиным замаячил образ «значительного лица» : «Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к значи-тельному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица , это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделалось значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное». Поиграв таким образом с читателем по поводу смысла слова «значительность», писатель оставляет нетронутым понятие «лицо», которое отслаивается от конкретного его носителя, превращаясь под пером Гоголя в категорию духовно-религиозного плана. Оно должно сыграть в идейном смысле особую роль, поскольку «Лицо» уже само по себе значительно, и в религиозном плане осмысливается как знак приближения к Божественному миру, к отражению в нем «Лика».
Заметим, что эта идея не реализуется конкретно в художественном повествовании, она прочитывается через наименование, через систему ассоциативных связей. Идея закодирована в самой словесной фор- муле и обнаруживает себя на абстрактнотеоретическом уровне. В этом проявляются мудрость и тонкое художественное мастерство писателя, который в «царстве мертвых» разглядел духовный «свет в конце тоннеля» и указал на него пророческим перстом. Такая концепция поддерживается традиционно и сугубо религиозными воззрениями на аналогичную ситуацию. «Лицо» в богословской интерпретации предшествует «Лику».
Религиозный философ П. Флоренский особо обращает внимание на такого рода иерархию понятий. В своей работе «Иконостас» он указывает на два принципиальных видения мира: «от скудости» и «от полноты». Онтологическая противоположность точек зрения, по Флоренскому, «лучше всего характеризуется противоположением слов «личина» и «лик»» [Флоренский, 1996. С. 433]. Между этими понятиями стоит «лицо», предшествующее «лику», Для Флоренского очень важным составляющим элементом в данной триаде является «лицо», которое закономерно трансформируется в «лик». Он отмечает, что в Библии существуют понятия «образ Божий» и «Божье подобие». Образ Божий – это «онтологический дар Божий» [Там же. С. 434]. Под «Божьим подобием» следует понимать «потенцию, «способность духовного совершенства», возможность воплотить этот образ « в жизни, в личности, и таким образом явить его в лице» [Там же]. И когда в лице обнаруживается пробившаяся «через толщу вещественной коры» энергия образа Божия, лицо становится «ликом». «Лик есть осуществленное в лице подобие Божие», – заключает свои рассуждения Флоренский [Там же]. Он подчеркивает также, что по-гречески «лик» называется «идеей», т. е. «эйдосом». Эйди-ческая направленность образа «значительного лица» у Гоголя просматривается в стремлении автора найти и обозначить, хотя бы умозрительно, положительный идеал в изображенном в повести мире «мертвых душ», к которым скоро присоединится уже не метафорически, а биографически «распеченный» большим начальником Башмачкин. Гоголь подготавливает почву для осмысления и переосмысления факта смерти героя. Писатель подчеркивает, что главный смысл метаморфоз судьбы Акакия Акакиевича следует искать не в самом факте его физической смерти, а в метафизической жизни за гробом.
В реальном, бытовом плане жизнь «маленького человека» закончилась. Можно было бы к этой истории присоединить какую-либо лирическую или дидактическую концовку и завершить историю в плане поэтики «натуральной школы». Но художественная перспектива Гоголя, которую он выстраивает в «Шинели», ведет мысль читателя к чему-то более значительному и глубокому. Вот в этом пункте повествования и возникает сакральный абрис «лица», указывающего на того, кто, отправив героя в мир мертвых, обеспечил ему вместе с тем загробное бессмертие. В этом акте задействован уже не реальный образ и не его абстрагированная проекция, а «лик», Божественная воля, вне которой ничего подобного свершиться не могло. И обычная история мелкого канцелярского чиновника превращается в «мистерию», которая может быть обозначена как рождение, жизнь, смерть и бессмертие великомученика Акакия.
Жизнь в царстве мертвых в реалистическом плане могла быть показана только в виде слухов или какой-либо анекдотической истории, неправдоподобие которой обосновано принципом: «передаю то, что слышал». Но Гоголь не исключает и определенной доли реального, действенного вмешательства «высших сил», специально намекающих на присутствие единой Божественной воли в истории с Акакием Акакиевичем и человеческой истории вообще. Здесь макромир сочетается в едином комплексе с микромиром, прямо в духе трактовки этих понятий уже упоминавшимся нами немецким философом Шеллингом.
Микромир, бытовая среда предстает у Гоголя в форме анекдотической стихии. Появление мертвеца, снимающего шинели с обобщенных фигур обидчиков героя, это, конечно, анекдот. Он так и оформлен словесно: «Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух». И в этом мире от него не осталось ничего, по сути, человеческого: «оставалось очень немного наследства, именно пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот». Исчезло бесследно и само существо: «Акакия Акакиевича свезли и похоронили». И нет его, как и не было: «И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было». Далее следует типизирующее авторское резю- ме: «Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу…».
В петербургском «чиновничьем эпосе» такой антигерой занимал свое законное место. Но Гоголь тут же трансформирует этот пародийный псевдоэпос, переводя судьбу Башмачкина в общечеловеческий план: оказывается, на него «обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира». Такая идентификация позволяет автору трактовать судьбу героя как трагедию человека в мире. Гоголь внес в повествовательный текст ремарку: «Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание». В этом плане писатель предопределил «фантастический реализм» Достоевского, реализм в «высшем смысле». Неожиданно обнаруживается инобытие умершего героя и месть его всем за всё перенесенное. Это уже бунт, знак прорыва в иной мир, который пока еще не принял форму образного воплощения и только контурно намечен как нечто «иное», по распространенному выражению современных философов.
Фантастичность финала заключается в том, что «у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели…». Один чиновник «узнал» в мертвеце Акакия Акакиевича. Молва толкует все происходящее в духе сплетен. Выясняется, что было ограблено и значительное лицо. В свете происходящего это событие можно связать с реальными подвигами неизвестного вора, который материализуется в самом конце повести. Один будочник почти задержал «мертвеца». Но тот, остановясь, спросил: «Тебе чего хочется?». После этого он «показал такой кулак, какого и у живых не найдешь». Однако в тексте повести есть тонкий авторский намек на то, что призрак, именно призрак действительно «ограбил» значительное лицо. Описан эпизод так, что трудно понять, что произошло на самом деле, но автором зафиксирован факт: шинель-то как физический предмет исчезла безвозвратно. Гоголь в подробностях изложил все стадии ограбления, которые в системе его поэтики оборачиваются то реальной, то фантастической стороной. Предоставим слово автору, чтобы в этом убедиться. Обратим внимание на то, что автор счел необходимым отметить одну маленькую деталь: «значительная персона» ехал довольно быстро, поскольку его ожидало нечто приятное: «Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: “К Катерине Ивановне”». О движении красноречиво говорит и ветер, который «так и резал в лицо», «хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову». И тут «вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник». Едва ли кто, кроме того же «ветра», это мог сделать при быстром движении саней. Однако это был всё-таки человек. Но в такой ситуации реальный грабитель исключается. Подобное в соответствующих обстоятельствах мог совершить только «призрак» Этим призраком и оказался узнанный Акакий Акакиевич, который охотился за шинелью значительного лица. Дальше происходит нечто невероятное: описываются и покривившийся рот мертвеца, и его реплика относительно шинели, и главное то, что чиновник «сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою».
Вопрос заключается в том, в каком пространстве все это происходит и где при этом находится реальный кучер? Очевидно, что все происходит в двух сферах – реальной и мистической, которые соединяются по принципу «ленты Мёбиуса». Далее, в обычной обстановке, ограбленный чиновник «не-своим голосом» произносит: «Пошел во весь дух домой!». И домой он приезжает уже без шинели. Заметим, что шинель исчезла не с предполагаемым реальным похитителем, который, впрочем, ничего подобного в предлагаемых обстоятельствах совершить и не мог, а вместе с призраком. А это уже явление мистериального мира, проявление комплекса «живое – мертвое», т. е. знак того, что живой мир «мертв», а мертвый мир «живой» и действенный. В образной сфере они переходят друг в друга. Можно сказать в данном случае, что Гоголь уже стоит на пороге «Мертвых душ», он уже эти «души» прозревает.
Обобщенная философско-художественная формула гоголевской поэмы намечена в «Шинели». В целом же, в системе повестей обнаруживается автором и гипотетический выход из царства «мертвых». Мысль такого рода проступает в «Записках сумасшедшего», герой которых взбунтовался, в сущности, против «ошинеливания», против подавления личности и потребовал тройку борзых коней, которые должны были унести его с «этого света», но не унесли, а перенесли героя и вместе с ним тему спасения в плоскость судьбы не только одного человека, но и всей России, находящейся в движении, которое программируется уже не отдельной личностью, а Богом: «мчится, вся вдохновенная Богом» [Одиноков, 2010. С. 70–85]. «Шинель», ориентированная, таким образом, по отношению к целостному «петербургскому циклу», оказалась в символических проблемно-художественных границах между «Невским проспектом» и «Записками сумасшедшего» на подступах к поэме «Мертвые души», которая замыкала, объек- тивно и по замыслу автора, грандиозный цикл созданных им произведений, в совокупности составляющих своеобразную «книгу бытия».
«PETERSBURG`S TEXT» IN GOGOL`S STORY «SHINEL’»:
TRANSIENT AND ETERNAL