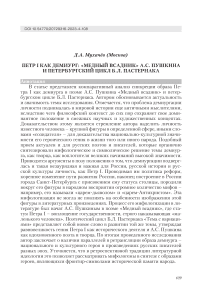Петр I как демиург: «Медный всадник» А.С. Пушкина и петербургский цикл Б.Л. Пастернака
Автор: Мухачв Д.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен компаративный анализ синкреции образа Петра I как демиурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» и петербургском цикле Б.Л. Пастернака. Автором обосновывается актуальность и значимость темы исследования. Отмечается, что проблема демиургации личности поднималась в мировой истории еще античными мыслителями, вследствие чего философский контекст до сих пор сохраняет свое доминантное положение в смежных научных и художественных концептах. Доказательством этому является стремление автора наделить личность известного человека - крупной фигуры в определенной сфере, иными словами «созидателя» - для доказательства национально-культурной значимости его героического гения в жизни того или иного народа. Подобный прием актуален и для русских поэтов и писателей, которые органично синтезировали мифологическое и символическое решение темы демиурга, как творца, как воплотителя великих начинаний высокой значимости. Приводятся аргументы в позу положения о том, что демиургации подверглась и такая незаурядная и важная для России, русской истории и русской культуры личность, как Петр I. Проводимая им политика реформ, коренное изменение пути развития России, наконец построение в России города Санкт-Петербурга с присвоением ему статуса столицы, породили вокруг его фигуры в народном восприятии огромное количество мифов -например, его называли «царем-дьяволом» и «царем-Антихристом». Эта мифологизация не могла не повлиять на особенности изображения этой фигуры в литературных произведениях. Процесс его мифологизации в литературе был начат А.С. Пушкиным в поэме «Медный всадник», где статуя Петра I - воплощение государственности, строго наказывающая «маленького человека». Поэтический цикл Б.Л. Пастернака «Тема с вариациями» представляет собой новое слово в развитии той же темы, утверждая равновеликость гения Петра I как исторического деятеля и А.С. Пушкина как вдохновенного поэта и творца. По итогам проведенного исследования автор заключает о наличии параллелей в ретрансляции образа демиурга -национального и культурного героя в произведениях русских писателей разных эпох. Уточняется, что в ретроспективной традиции литературной идеологии это позволяет рассматривать мифологемы в синтезе с образами героев, являющихся фронтир-символами исторической памяти народа.
Демиург, петр i, а.с. пушкин, б.л. пастернак, мифологема, национальный культурный герой
Короткий адрес: https://sciup.org/149144346
IDR: 149144346 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-108
Текст научной статьи Петр I как демиург: «Медный всадник» А.С. Пушкина и петербургский цикл Б.Л. Пастернака
В Древней Греции существовал целый ряд философских школ, отличающихся и по мировоззрению, и по методам философствования, и по определениям, даваемым тем или иным понятиям. Одним из таковых является понятие «демиурга», которое в различных философских школах принимало разнообразные трактовки. Начиная от космогонических, определяющих демиурга как «творца мира из Хаоса» – как это сформулировано, например, в диалоге Платона «Тимей» [Афонасин 2013; Лебедев 2021; Файбышенко 2021], и до понимания демиурга как «всякого человека, работающего для людей, будь то ремесленник или должностное лицо, исполняющее определенные общественные обязанности» – в соответствии с буквальным толкованием этого древнегреческого слова – от «демос» – земля, народ и «ургос» – дело, труд, работа [Скворцов 2021; Терегулов 2019]. В более широком смысле демиургом позднее назывался фактически любой создатель чего-либо значимого. Однако именно в таком толковании понятие демиурга приближается к мифологическому понятию национально-культурного героя, иными словами мифологического персонажа, который (возможно с помощью помощников и соратников, и / или противостоя злым силам) добывает или создает для своего народа (нации) нечто особо значимое: от различных наук и ремесел и до законов и предписаний; некоторые национально-культурные герои почитались как великие военные, политические деятели, основатели городов и проч. [Березовская 2010]. Что-либо из этих функций, и / или многие из них сразу на протяжении веков приписывали различным выдающимся историческим личностям – героям нации, по сути, мифологизируя их образ.
То, насколько образы в поэзии А.С. Пушкина и заложенные им поэтические традиции оказали влияние на дальнейшее развитие поэзии и творчество поэтов последующих поколений, образно выразила А.С. Сергее-ва-Клятис: все они «перекликаются Пушкиным». То есть, в их творчестве по-разному преломляются пушкинские образы, используются введенные им поэтические приемы, реализуются и находят свое дальнейшее развитие заложенные им поэтические традиции. В полной мере это относится и к Б. Пастернаку. Который, в результате творческих поисков и сомнений, «…пройдя через горнило футуризма, выковал себе чистый, поистине пушкинский голос, звучание которого было слышно далеко за пределами его родной страны» [Сергеева-Клятис 2021, 332].
И, как можно заметить уже на основе известных фактов истории, практически все основные демиургические черты в том или ином виде присутствуют в деятельности Петра I. Он строил флот и армию и управлял ими. Он сам владел многими ремеслами и основами наук, положил начало развитию многих производств и изысканий. Он был инициатором преобразований, коренным образом изменивших экономический и народнохо- зяйственный облик страны, в том числе с помощью освоения восточных регионов России (прежде всего, Урала и Сибири). Кроме того, Петр I создал систему государственного управления и Табель о рангах, составившие основу иерархии служилых людей. Наконец, он стоял у истоков основания Петербурга. Несомненно и его противостояние многим силам: как стихии, так и врагам внешним и внутренним, и просто ограниченным людям, не понимавшим его великих устремлений и судьбоносных новаций. Даже черты внешнего облика Петра, его высокий рост, недюжинная сила и высокий ум трактовались нередко как сверхчеловеческий признак.
Некоторые демиургические черты (хотя и только некоторые) просматриваются и в других пушкинских героях – например, в образе Екатерины II и ее великих современников – полководцев, ученых, поэтов («Воспоминание в Царском селе»). Именно в этом произведении едва ли не впервые поэт ставит в один ряд по значимости и государственные дела, и полководческие победы, и поэтические достижения.
Также А.С. Пушкин интересовался деятельностью донского казака Ермака Тимофеевича, положившего начало освоения русскими Сибири. Намерение написать поэму на этот сюжет он выразил в «Воображаемом разговоре с Александром I»: «Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму “Ермак”» [Пушкин 1938, 319]. Также и Евгений Баратынский в письме 1826 г. одобряет этот замысел: «Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму “Ермака”. Предмет истинно поэтический, достойный тебя» [Баратынский 1894, 346]. Хотя эта идея поэта так и не была реализована.
Так или иначе, перечисленные здесь, да и многие другие пушкинские образы объединяет то, что они наделены духом как созидания, так и разрушения, как благой воли, так и злой, а кроме того – они величественны, возвышаясь над миром «простого человека». И в этом смысле образ Медного всадника – как скалы, твердыни, противостоящей любым бурям, и природным, и жизненным – доводит такое противопоставление до предела.
Указанные значимые параллели прослеживаются в поэме «Медный всадник», своеобразие которой во многом определяется тем, что еще с самых первых экспериментов с произведениями крупных форм (то есть, фактически уже с поэмы «Руслан и Людмила») А.С. Пушкин выбрал для себя, а затем совершенствовал в своем творчестве позицию «автора-повествователя». Поясняющего текст, комментирующего его, высказывающего свое мнение, но как бы находясь за рамками произведения. Такая позиция как нельзя лучше подходила к изображению и грандиозных, почти мифологических событий, и камерных, лирических сцен «частной жизни» людей (см.: [Пушкин 1977]).
Благодаря именно такой манере, оба, казалось бы, несовместимых, мира, оба изобразительных плана сочетаются и в «Медном всаднике». Мир державной России, созданной Петром Великим, застывший в камне и бронзе, но совершенно игнорирующий «маленького человека». Так Петр поступал и при своей жизни, во имя своих державных замыслов, таким остался он и в образе Медного всадника. Этот мир величия деяний Петра разворачивается с того момента, как он при основании города стоит «на топком берегу», только еще лелея свои великие думы. Воплощение его замыслов прослеживается в сценах постройки города: («...в гранит одела-ся Нева...»). И вот уже вместо пустынных берегов, где «челн стремился одиноко», вырастает каменный город, куда «корабли со всех концов земли толпой стремятся», вместо темного леса – поднимаются «пышные сады», и наконец, над построенным трудами многих людей городом возносится символ царя-демиурга [Глебова 2021]: Медный всадник на гранитной скале, простирающий руку над своим творением.
И только где-то на краю этого величественного мира находится место для простых утех: «бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз». В этом непритязательном мире проходит жизнь бедного чиновника Евгения, который «Живет в Коломне, где-то служит, / Дичится знатных и не тужит». И все его мечты – о тихом счастье с любимой, о воспитании детей, да о благополучии в старости: «И станем жить, и так до гроба / Рука с рукой дойдем мы оба, / И внуки нас похоронят...».
Но вольная стихия воды не побеждена, и в этом ощущается предвестие будущих бед: «Плеская шумною волной / В края своей ограды стройной, / Нева металась, как больной / В своей постеле беспокойной». Вспомним также, что и тяжелую болезнь, приведшую Петра к смерти, связывают со спасением людей во время одного из первых наводнений – так образ демиурга сливается с образом стихии, которую он стремился обуздать.
Наконец, камни разрушены, и происходит грандиозное наводнение, сцены которого одновременно чудовищны («гробы с размытого кладбища) и величественны («И всплыл Петрополь, как тритон, / По пояс в воду погружен»). В этом смысле характерно также, что правящий в это время император (Александр I) со стихией совладать не может, поэтому оказывается ближе к простым горожанам, чем к величию своего державного прародителя.
А тем временем Евгений, застигнутый бурей, спасается, забравшись на каменного льва, совсем рядом с величественным памятником Петру, что высится «к нему спиною», то есть остается безучастным к бедам еще одной жертвы обстоятельств. И здесь появляется еще один мир, как бы смешивающий воедино и величественный мир Петра-демиурга, и мир одинокого и взбунтовавшегося против несправедливости мир «маленького человека». Это мир стихии, где Нева предстает как одушевленный образ: «... так тяжело Нева дышала, как с битвы прибежавший конь». Мифологичен и перевозчик, соглашающийся переправить Евгения на другой берег небезопасной реки – как Харон через реку Стикс в царство мертвых. В происходящем далее вновь намечается параллель между двумя главными героями повествования. Евгений: «Ужасных дум / Безмолвно полон, он скитался. / Его терзал какой-то сон». (Петр же в начале поэмы: «На берегу пустынных волн / Стоял Он, дум великих полн.…»).
Прослеживается и еще одна теснейшая взаимосвязь между этими мирами: постройка Петербурга унесла множество жизней простых людей, – но множество унесло их и наводнение: «…кругом, / Как будто в поле боевом, / Тела валяются». Такая мысль о бессмысленных жертвах, горьких утратах (их бы не было, не будь город построен в столь рискованном месте) приводит Евгения к решительному шагу [Файбышенко 2021]. Он, чувствуя себя равным с «державцем полумира», выкрикивает ему осуждение, хотя и очень неопределенное: «Добро, строитель чудотворный! ... Ужо тебе!..». Им движет мысль, что Петр (как и следовало бы демиургу), вначале построил город, а теперь пытается своей простертой рукой защитить его. Защитить свое творение, но не людей – как делал это Петр при жизни, жертвуя многим и многими ради задуманных им целей. Поэтому Петр и преследует дерзкого человека, посмевшего усомниться в величии его замыслов – как, будучи живым, преследовал бы любого возмутителя спокойствия. При этом очень характерно, что Евгений отнюдь не гибнет в ту же ночь (о чем говорит концовка поэмы). Ведь впоследствии, памятуя о происшедшем, он обходит пристанище Медного всадника «другой дорогой». То есть, Петру, как и при его земной жизни, и вместе с тем как это и подобает демиургу, чужда беспредельная жестокость. Так же «для разумения, для острастки» нередко поступал он с людьми хотя и дерзкими, но чем-то понравившимися ему, или вызвавшими понимание и сочувствие [Леонтьева 2008]. Думается, именно в таком смешении реального и мифологического миров и состоит главный пафос «Медного всадника».
Однако, в контексте рассматриваемой нами темы необходимо заметить, что пушкинский сюжет, несомненно: был оригинален. И напротив, в лирике ХХ в. многое значительно сложнее, даже если «сюжет отталкивается от заданной ситуации» [Гельфонд 2006, 2] – как формулирует М.М. Гельфонд. В данном случае «заданность» ситуации определяется использованием, в качестве отправной точки, уже известных, как в художественной литературе, так и фольклора сюжетов. В цикле Б.Л. Пастернака «Тема с вариациями» это сюжеты пушкинских произведений.
Особенности обращения Б.Л. Пастернака к пушкинскому творчеству привлекали исследователей и ранее [Баевский 1959; Ветошкина 2010; Zhukova 2020]. В рассматриваемом же нами ракурсе значимо, что его поэтический цикл «Тема с вариациями» в первой публикации в альманахе «Круг» 1923 года носил название «Стихи о Пушкине». В качестве исходных, для этого цикла выступают сюжеты четырех пушкинских произведений: «К морю», «Медного всадника», «Пророка» и «Цыган», переосмысленные в свойственной Б.Л. Пастернаку манере «скорописи» [Пастернак 1990; Supian et al. 2022]. Безусловно, особую значимость в этом имела приверженность писателя к фольклору (в первую очередь, к русским сказкам), к которому, как указывают Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак, он испытывал «живой и глубокий интерес», сохранявшийся на протяжении всей творческой жизни. Так, за пять лет до написания «Тем с вариациями» поэт выступал в Политехническом музее на литературном вечере, совместно с известной собирательницей и исполнительницей северного фольклора О.Э. Озаровской и сказительницей и писательницей из Пинежского уезда Архангельской губернии М.Д. Кривополеновой. Он с восторгом вспоминал эту встречу в своем письме к О.Э. Озаровской.
Также Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак подчеркивают, что «попав же во время первой мировой войны в 1915–1916 гг. на Урал и в Прикамье, Б. Пастернак тщательно помечал все особенности народного говора, внося диалектные слова в свои ранние, писавшиеся тогда стихи» («Душа», «Июльская гроза», «Эхо» и др.). Урал и в Прикамье входят в сознание писателя не как «территории на карте», а как особый социум, экзотические страны, где все иначе, чем в привычном столичном мире; «главное здесь – странное сочетание цивилизации и девственной дикости», отмечает М.В. Загидуллина. Однако, несмотря на чисто «художническое» восприятие Прикамья и Приуралья, продолжает автор, Пастернак постигает и непривычный для него оригинальный миропорядок коренных народов – уральцев, коми-пермяков, марийцев, манси, башкир и т.д. [Загидуллина, 1998, 60]. Из записей фольклора этих мест впоследствии «черпались материалы для стихотворных и прозаических работ позднего времени» [Альфонсов 1990, 51], среди которых и «Доктор Живаго» [Пастернак 2003; Vukas 2019; Zhang 2019]. Как указывает В.Н. Альфонсов, уже «в лирике Пастернака периода войны силен «мифопоэтический», сказочный элемент», и «нечто сказочное <…> у Пастернака возникает в самых реальных сюжетах повествовательного плана» [Альфонсов 1990, 247].
Ритмико-синтаксическая структура «Медного всадника», как первоисточника для поэтического цикла «Темы с вариациями» сохраняется. Более того, фраза «На берегу пустынных волн / Стоял он, дум великих полн» отнесена Б.Л. Пастернаком к самому А.С. Пушкину – которому, таким образом, придается демиургическая суть. То есть, продолжая видение А.С. Пушкиным демиургической сущности поэзии (наряду с реформаторской и научной), Б. Пастернак также ставит поэтическое творчество в позицию, равновеликую другим гениальным свершениям. Параллель между образами очевидна даже в визуальном аспекте: как фигура Петра, так и Пушкина в этом описании «равно выражает предельное напряжение духовных сил, необходимое для воплощения мечты в жизнь», – подчеркивает З.А. Ветошкина [Ветошкина 2010, 54]. В соответствии с таким посылом переосмысливается и сюжет «Медного всадника» – одного из наиболее значимых для Б.Л. Пастернака пушкинских произведений. Так, противостояние Евгения с призраком Медного всадника у Пастернака полностью исчезает. Но тем ярче видится аналогия «создания города как сотворения мира», сущность Петра как демиурга.
Соответственно этому, и стихия в «Теме с вариациями» вызывает не ужас (как в «Медном всаднике»), а восприятие равенства демиурга с ней: «на восхищенье / был вольный этот вид суров». То есть, стихия и соперничает с демиургом, но и укрощается его силой и волей (в чем соответствующий пушкинский мотив получает свое дальнейшее развитие и акцентировку). При этом, используя узнаваемые рифмовки «Медного всадника», Б.Л. Пастернак совершенно не уделяет внимания конфликту «маленького человека» с демиургом. Но создает величественный миф о сотворении нового, рукотворного мира, при этом начинания Петра ставятся равновеликими пушкинской поэтической вселенной.
Еще одна оригинальная особенность «Тем с вариациями» состоит в том, что в другой вариации из того же цикла демиургические мотивы сближают посыл «Медного всадника» с пушкинским «Пророком». При этом в центре такого сближения находится поэт уже не собственно как личность, и даже не как субъект действия – а как творец своего поэтического мира, и созерцатель этого мира в момент творения (сближаются меридианы и параллели, самум в Марокко и заснеженный Архангельск). Но такое вдохновение предполагает и высочайшую ответственность – ту, которой не наделен самовластный Петр-демиург (хотя величие поставленных им задач не меньше), но должен быть наделен всякий большой поэт.
Хотя присутствует в этом цикле и еще одна очень важная смысловая параллель, хотя внешне и построенная в большей степени на антитезе. Во время наводнения, Евгений спасается на спине каменного льва возле здания Сената. В цикле Б.Л. Пастернака же, эпиграфом из Ап. Григорьева, вводится тема сфинкса, расширяя пространственные и смысловые координаты [Силантьева 2022]. Вместе с тем по мнению А.Ю. Сергеевой-Кля-тис, такой образ становится и олицетворением «загадочной гениальности» Пушкина, и одновременно «связи времен». Казалось бы, событийно и образно Пушкин с самого начала связан с образом моря, а сфинкс с пустыней. Сфинкс призван олицетворять могущество фараона, поэт же утверждает свое могущество творчеством. Хотя именно дальние предки Пушкина происходят из народов Африки, и эту преемственность утверждает слышимый в ночной тиши поэту «тихий детский смех пустыни», – то есть, предельно искренний, добрый и жизнеутверждающий. Даже то, что действие стихотворений «Темы с вариациями» происходит ночью, позволяет применить для обеих этих монументальных фигур «…прием так называемого рембрандтовского освещения: они как бы ярко подсвечиваются, вырываются из темноты, поскольку действие стихотворений происходит ночью…. Сфинкс освещается голубоватым светом луны, Пушкин – свечами» [Сергеева-Клятис 2009, 41]. Более того: при этих свечах поэт пишет стихотворение «Пророк», само по себе выражающее еще одну грань деми-ургического образа – предсказание будущего в уже существующем и продолжающем свое становление мире.
В заключение сказанного можно заметить, что поэтический цикл Б.Л. Пастернака представляет собой новое слово в развитии демиургиче-ской темы: он утверждает равновеликость гения Петра I как исторического деятеля, и А.С. Пушкина как вдохновенного поэта и творца. С научной точки зрения это позволяет уточнить параллели художественного «опыта» демиургации национального культурного героя в произведениях этих и других писателей. С позиции эволюции литературных традиций и идеологии поэтического творчества это позволяет рассматривать мифологемы в органическом синтезе с образами героев, являющихся фронтир-симво-лами исторической памяти народов
Список литературы Петр I как демиург: «Медный всадник» А.С. Пушкина и петербургский цикл Б.Л. Пастернака
- Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака. Л.: Советский писатель: Ленинградское отделение, 1990. 366 с.
- Афонасин Е.В. Демиург в античной космогонии // Scholae. Философское антиковедение и классическая традиция. 2013. Т. 7. № 1. С. 69-108.
- Баевский В.С. Пушкин и Пастернак. К постановке проблемы // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1959. Т. 49. № 3. С. 231-243.
- Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Баратынского. Киев; Харьков: Издательство книгопродавца-издателя Ф.А. Иогансона, 1894. 404 с.
- Березовская С.С. Концепт культурного героя как универсалия культуры // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 338. C. 68-71.
- Ветошкина З.А. Структура лирического цикла Б.Л. Пастернака «Тема с вариациями» // Научный журнал КубГАУ. 2010. № 60. С. 52-56.
- Гельфонд М.М. Пушкинские сюжеты в цикле Б.Л. Пастернака «Тема с вариациями» // Новый филологический вестник. 2006. №. 3. С. 1-13.
- Глебова И.И. Ракурсы русской революции: образы власти в культуре начала XX в. // Труды по россиеведению. Вып. 8. М.: ИНИОН РАН, 2021. С. 49-71.
- Загидуллина М.В. Уральские страницы романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» // Вестник Челябинского государственного университета. 1998. № 1. С. 60-65.
- Лебедев С.П. Демиург и космос в платоновской теологии // Вестник РХГА. 2021. № 4-1. С. 68-74.
- Леонтьева О.Б. «Страшен царь Петр» // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008. Т. 10. № 1. С. 20-24
- Пастернак БЛ. Полное собрание сочинений с приложениями: В 11 т. Т. 7: Письма, 1905-1926, 2005. М.: Слово, 2003. 822 с.
- Пастернак Б.Л. Стихотворения. Поэмы. Переводы. М.: Художественная литература, 1990. 544 с.
- Пушкин А.С. Медный всадник // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 4. Л.: Наука, 1977. С. 273-288.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 6 т. / под ред. Ю.Г. Оксмана, М.А. Цявловского. Т. 6: Письма. 1815-1837. М.: Academia, 1938. 651 с.
- Сергеева-Клятис А.Ю. «Перекликаться Пушкиным»: Ходасевич и Пастернак о массовой и элитарной поэзии // Литературный факт. 2021. № 1(19). С. 325333.
- Сергеева-Клятис А.Ю. Пушкин и Пастернак: из комментариев к первой части цикла «Тема с вариациями» // Литература: приложение к газете «Первое сентября». 2009. № 11 (июнь). C. 40-43.
- Силантьева В.И. Трансфер и трансформер в межвидовом художественном пространстве (литература и живопись) // Вестник культурологии. 2022. № 2(101). С. 127-148.
- Скворцов Л.В. Возможна ли новая формула «личного Бога»? // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия: Реферативный журнал. 2021. № 1. С. 147-178.
- Терегулов ФШ. Демиург и дериваты образования человека // Народное образование 2019. № 1. С. 79-92.
- Файбышенко В.Ю. Восстановление в памяти: историчность, перформатив-ный акт, эпифания (исторический, поэтический и политический аспекты) // Вестник Свято-Филаретовского института. 2021. № 38. С. 214-240.
- Ilievski V. The Demiurge and His Place in Plato's Metaphysics and Cosmology // Time and Cosmology in Plato and the Platonic Tradition / eds. D. Vázquez, A. Ross. London: BRILL, 2022. P. 44-77.
- Supian S., Prikhoda E, Dallyono R. et al. The Creative Legacy of the Great Russian Poet Boris Pasternak: Traditions and Innovation in His Poetic Works // Journal POETIKA. 2022. Vol. 10. № 2. P. 142-150.
- Vukas D.L. The Sound of Silence in Boris Pasternak's "Doctor Zhivago" // Сибирский филологический форум. 2019. № 4 (8). P. 57-73.
- Zhang X. Chinese Literary Scholars about the Novel "Doctor Zhivago" by B. Pasternak: Narrative Characterization // Polylinguality and Transcultural Practices. 2019. № 4. Vol. 16. P. 549-559.
- Zhukova O.A. The Philosophical Modus of Russian Literature: Boris Pasternak's Creative Experience // Russian Journal of Philosophical Sciences. 2020. № 63(7). P. 21-38.