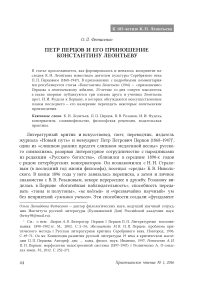Петр Перцов и его приношение Константину Леонтьеву
Автор: Фетисенко Ольга Леонидовна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 185-летию К. Н. Леонтьева
Статья в выпуске: 1 (66), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживается, как формировалось и менялось восприятие на- следия К. Н. Леонтьева известным деятелем культуры Серебряного века П. П. Перцовым (1868-1947). В приложениях с подробными комментария- ми републикуется статья «Константин Леонтьев» (1916) - «приношение» Перцова к леонтьевскому юбилею, 25-летию со дня смерти мыслителя, а также впервые публикуются три письма друга и ученика Леонтьева прот. И. И. Фуделя к Перцову, в которых обсуждаются неосуществленные планы последнего - его намерение переиздать некоторые леонтьевские произведения.
К. н. леонтьев, п. п. перцов, в. в. розанов, и. и. фудель, консерватизм, славянофильство, философская рецепция, издательская практика
Короткий адрес: https://sciup.org/140190156
IDR: 140190156
Текст научной статьи Петр Перцов и его приношение Константину Леонтьеву
если не яркого писателя <…> то чрезвычайно гармоничного и правиль-ного»2. В том же письме, где дан столь детальный разбор характера собеседника, Розанов предсказывал, что Перцова ждет тот же путь, что пройден Страховым: без внешнего успеха, но «чистый и спокойный»3.
Именно в общении с Розановым развивается интерес Перцова к Константину Леонтьеву. Вместе они сетуют на печальную «литературную судьбу» Леонтьева, то и дело обращаются к его образам и терминологии. По воспоминаниям С. Н. Дурылина, на принадлежащем Перцову экземпляре леонтьевского двухтомника «Восток, Россия и Славянство» (М., 1885–1886) была надпись: «Учебник смелости», которую «очень любил» Розанов4. Интересно, что тому же Дурылину Перцов напишет в конце 1926 года, что Леонтьев и в послереволюционные годы оставался «главным и самым интимным» его «собеседником»5.
В февральском письме 1898 года Розанов призывал своего младшего друга работать «над искусством и общими культурными задачами»6. Он не знал еще, что именно этим Перцов и был занят. Еще в 1897 году, изучая в Венеции историю и трансформации ее художественной школы (через несколько лет его наблюдения войдут в книгу «Венеция»), он пережил озарение, перенеся открытую им формулу параболического движения, описывающую историю искусства, на историю всемирную. Именно тогда возник замысел большого философского труда7 (более поздние авторские названия: «Основания диадологии», «Космономия», «Основания космономии»), предлагающего «мировую морфологическую фор-мулу»8. Этот труд, претендующий на то, чтобы составить «завершение и подлинное раскрытие новой и самостоятельно-русской философии»9, еще в его зачатке (как по-розановски говорил сам Перцов, «эмбрионе»)
Розанов назвал «огромной исторической фугой»10. У книги был основательный фундамент, который тщательно обдумывался и пополнялся годами, но вещественное воплощение шло так медленно, что к 1925 году были написаны лишь две первые главы, а затем работа продолжалась с перерывами до начала 1940-х годов11.
В начале ноября 1898 года Перцов перечитывает ранние статьи Розанова, размышляя, какие из них стоит переиздать, и приходит к неожиданному для себя наблюдению: «…читаю о Леонтьеве ― однако сей последний чуть-чуть не похитил у меня из-под носу мою Парабо-лу!»12. Выходит, о леонтьевской теории «триединого процесса развития» он узнал сначала из розановского ее изложения.
Более глубокое освоение трудов Леонтьева предстоит ему только в следующем году. 25 августа 1899 года Перцов сообщает Розанову: «Вот я читал недавно К. Леонтьева (все 2 тома прочел13). Вот кто мне очень интересен. Какая блестящая фигура! Как-то даже не отдельными его чертами (ум, оригинальность и т. д.) восхищаешься, а всем его обликом ― настоящий крупный и своеобразный человек, среди нынешних сереньких совсем необычайный. Даже жаль, что почти всё им написано о политике ― у него глубина понимания жизни несравненно больше, чем у Страхова, Данилевского и т. д. К<ак> интересно у него о христианстве! Я не говорю, что я с ним согласен, но вот с кем стоит и хочется философствовать…»14
Розанов, обрадованный этим известием, отвечал: «И Вы начинаете заражаться Леонтьевым. Да, одна из привлекательнейших фигур за XIX век у нас. <…> А ведь Вы, батенька, и Мережк<овский>, понюхав
Леонтьева ― отвали<ли> же было со скукой. Да, великий ум и необыкновенно обаятельный . У меня есть много его писем15. Прочтете. <…> Да, именно этот эллин чуден к<а>к Аполлон, в полном своем лике; и по мне также выше он Стр<ахова> и Данил<евского>. Но Страхов ― праведник, наш русский святой; у него хочется руку поцеловать: а Леонтьев ― хочется посмотреть на его чудный бег на Олимпиях политики»16.
Перцов был немного возмущен этим напоминанием о том, что он не сразу стал «леонтьевцем», и 2 сентября 1899 года парировал: «Мережковский <…> что Вы меня всё им шпыняете? <…> пишете: „Вы с Мереж<ковским>, понюхав Леонт<ьева>, чуть было не отошли“. Это уж клевета ― я с первой же брошюры Л<еонтьева> (о национ<альном> во-пр<осе>17) ― его забыть не мог»18.
В статье «Личность Владимира Соловьева» (1900) Перцов упомянул Леонтьева как последнего из славянофилов, примкнувшего к ним вынужденно, «стиснув зубы»19. Как замыкающего «плеяду» «восточников» (такое название Перцов предлагал взамен неточного «славянофилы») он рассматривал Леонтьева и в своем основном незавершенном труде, подчеркивая при этом, что Константин Николаевич — «такая яркая фигура, что, в сравнении с нею, весь ряд выглядит тускло»20. С конца 1890-х годов Перцов печатался в газете «Новое время» (постоянным ее сотрудником он был с 1908 года21). В некоторых опубликованных здесь статьях он также вспоминал Леонтьева22.
Хорошо известна издательская (добавим: меценатская) деятельность Перцова. Он составил и издал сборники «Молодая поэзия» (1895), «Философские течения в русской поэзии» (1896), в 1899–1900 годы был издателем и редактором четырех книг Розанова23 и «Стихотворений» Д. П. Шестакова (1900). Как выясняется теперь, думал он и о посмертном переиздании отдельных трудов Леонтьева. Эта тема обсуждается в его несохранившейся переписке со священником Иосифом Фуделем (ниже24 опубликовано три выявленных в Пушкинском Доме ответных письма), одним из близких учеников Леонтьева, будущим издателем его сочи-нений25. Идею переиздания брошюры «Наши новые христиане» (1882) о. Иосиф сразу не одобрил, против же того, чтобы Перцов подготовил отдельное издание статьи «Анализ, стиль и веяние», он не возражал, но и эта идея почему-то не получила воплощения. Возможно, это было связано с тем, что к тому времени Перцов уже был занят подготовкой к изданию журнала «Новый путь».
В дальнейшем Перцов вошел в возглавляемый одним из ближайших друзей Леонтьева К. А. Губастовым кружок его памяти26, собиравшийся с 1908 года, и должен был стать одним из авторов подготовленного силами кружка «Литературного сборника» памяти Леонтьева, который вышел в 1911 году к 20-летию со дня кончины мыслителя и писателя27. Издание было задумано еще в 1909 году, Перцов был привлечен к подготовке на одном из ранних этапов, причем к нему обратились с просьбой подыскать и других авторов. Один из инициаторов издания, А. М. Коно-плянцев, 29 января 1910 года напоминал о том, что Перцов обещал написать «статью об исторических воззрениях Леонтьева»28. Перцов, однако, медлил, и через год, 20 февраля 1911 года, Коноплянцев снова напоминал ему о не исполненном обещании: «Вы обещали (и вполне определенно)
приготовить статью для этого сборника, если не ошибаюсь — по вопросу об исторических взглядах Леонтьева. <…> Если она у Вас не приготовлена, то наверное Вам не будет затруднительно написать ее, не задерживая печатание Сборника. С своей стороны прибавлю, что было бы очень желательно видеть Вас участником в ряду других авторов сборника, так как избранная Вами тема очень интересна и очень важна для характеристики взглядов Леонтьева, Ваше же знание Леонтьева и понимание его служат гарантией того, что и статья Ваша будет одной из лучших. Говорю это без комплиментов. Если статья не готова, то не отказывайтесь от участия в сборнике. Ведь теперь уже и поздно и трудно искать кого-либо другого, кто бы мог вместо Вас написать на эту тему. Пусть хоть через 20 лет после смерти Леонтьев будет утешен, что его почитатели могут сделать хоть немногое для его памяти»29.
9 апреля Коноплянцеву снова пришлось вопрошать: «Готовите ли Вы свою работу? Ведь если всё ограничится лишь представленными рукописями, то придется сказать, что Сборник не удался и леонтьевское дело погибло. Одним „легким чтением“ заполнять его — это создать такую пустяковину, из-за которой нечего было и начинать всё это предприятие»30. К лету выяснилось, что обещание не будет исполнено. 23 июня 1911 года Коноплянцев просил Б. В. Никольского обеспечить замену31 и сообщал: «П. П. Перцов хотел и обещал (твердо обещал) прислать статью тоже об исторических учениях Л<еонтье>ва, но когда узнал, что из теоретических статей в Сборнике будет лишь его одна, отказался от этого (мы виделись с ним лично)»32.
Но Перцов не отказался от замысла статьи об историософии Леонтьева и исполнил его. Статья, однако, осталась ненапечатанной и была в дальнейшем утрачена. Из писем Перцова к Розанову мы узнаем несколько деталей этой истории.
24 сентября 1915 года: «„Новое Время“ — унылая газета. Если напишешь что получше — они или прячут в приложение <…> или вовсе не „пускают“. Второй месяц „лежит“ мой фельетон о К. Леонтьеве, а там впервые (насколько знаю) сделано основательное возражение против его
„микробной“ теории („воспаление легких“). Но „Нов<ому> Времени“ мил „балаган“ <…> и это печатается „стремглав“»33.
Из дальнейшей переписки (письмо от 10 октября) выясняется, что это была статья для рубрики «Литературные заметки» под названием «Об одном чародее (К. Леонтьев)»34. В названии звучала отсылка (не замеченная современными комментаторами писем Перцова) к посвященному Леонтьеву его учеником А. А. Александровым еще в 1884 году стихотворению «Чародей»35. Эта деталь, а также предполагаемое время написания статьи (отсчитываем два месяца от конца сентября), позволяют с уверенностью сказать, что поводом к ее созданию послужил выход брошюры с воспоминаниями Александрова о Леонтьеве и письмами Леонтьева к нему.
Обратим внимание на две вещи. 1) Статья была вовсе не апологетического характера: Перцов полемизировал с Леонтьевым. Прозвучавшее в письме шуточное определение «„микробная“ теория» напоминало, как справедливо отмечено и в комментариях к указанному месту, о медицинском примере, иллюстрировавшем в книге «Византизм и Славянство» леонтьевскую теорию «триединого процесса развития» (клиническая картина развития острой пневмонии). 2) Статья была отвергнута редакцией. В 1915 году уже не было в живых А. С. Суворина, который был когда-то знаком с Леонтьевым (и, кстати, в 1891 году отказался переиздать один из его романов — «Одиссей Полихрониадес»), недолюбливал его, неоднократно еще при жизни Леонтьева помещал в своей газете отзывы о нем, порой даже уничижительного характера, а позд нее сдерживал Розанова от изл ишних по поводу Леонтьева восторгов36.
Неясно, что же, т.е., собственно, кто в редакции после ухода Суворина мог служить препятствием для напечатания статьи Перцова. Думается, что просто текст показался слишком сложным для газеты, которая все больше ориентировалась на «балаган», как заметил в одном из процитированных выше писем сам Перцов.
Однако, несмотря на недавний «афронт» со статьей «Об одном чародее», к 25-летию со дня смерти Леонтьева Перцов написал для того же «Нового времени» небольшую статью о писателе «с такой странной судьбой»37. И по изящной форме, и по богатству смысла она смело может быть отнесена к лучшему, что было сказано о Леонтьеве в тот юбилейный год. А слова о «космическом» эстетизме вводят эту скромную по задачам газетную статью в круг претекстов перцовской «Космономии». Предлагаем читателю републикацию этой заметки, сопровожденную примечаниями.
Во втором приложении впервые публикуются по автографам (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. №№ 1499–1501) три письма о. Иосифа Фуделя к Перцову. Авторские подчеркивания в них переданы курсивом, принадлежащие Перцову (сделанные им в первом письме) — собственно подчеркиванием.
Приложение 1
П. Перцов
Константин Леонтьев
(К 25-летию со дня смерти. † 12 ноября 1891 года)
Вряд ли найдется в русской литературе другой писатель с такой странной судьбой. Странной и литературно, и биографически. В биографии — сперва медик, военный доктор во время севастопольской войны; потом дипломат (консул) на Ближнем Востоке; потом, после внезапного религиозного переворота, афонский послушник38; далее — разорившийся бесхозяйственный помещик, проживавший все больше около Оптиной пустыни; в последние почти годы цензор в Москве39; и наконец, в последние месяцы жизни тайный постриженик той же Оптиной, уже брат Климент40 — вместо некогда блестящего, гордого, яркого Константина Николаевича Леонтьева, который за сорок лет, уже после Афона, все еще влюблялся, «а в меня и тем более», по собственному нескромному признанию41.
Литературно — это первоклассный талант, который так неизвестен, что, говоря о нем, нужно предварительно объяснять, кто это такой.
«Большая публика» в лучших случаях путает его с П. М. Леонтьевым42 (сподвижником Каткова), а в худших (и обычных) ничего о нем не знает. А между тем талант Леонтьева был так многогранен: публицист, философ, критик, и еще беллетрист, с весьма незаурядным художественным дарованием, и с такими оригинальными сюжетами, как жизнь и быт балканского и греческого Востока. Беллетристы ли не популярны в России? Но в этом заколдованном случае не помогла и беллетристика: повестей и романов Леонтьева так же никто почти не знает, как и его статей.
«Судьба!» Древний Рок! Сам Леонтьев так и объяснял эту свою литературную заколдованность, видя в ней с «оптинской» точки зрения некоторое «веление свыше»43. Но вот теперь, оглядываясь издали на причудливый «лик» этого анархиста-реакционера, благочестивого эстета, православного Алкивиада44, невольно хочется крикнуть ему «за предел»: да какой же другой судьбы хотели вы для себя, К<онстантин> Н<ико-лаевич>? Не вы ли так упорно, так страстно, непримиримо ненавидели всякий «средний уровень», всякую «обыденность», доказывая и убеждая, задолго до Ницше, что только индивидуальная сила и оригинальность имеют право на жизнь и на наше внимание? Ну, вот Рок и услышал вашу проповедь, применив ее прежде всего к самому проповеднику. «Судьба» самого Леонтьева вышла совершенно исключительной, ни на чью непохожей, и по-своему такой художественно-завершенной, что с ней не сравнится в этом смысле даже судьба Герцена или Чаадаева. В этом гордом своем «отвержении» Леонтьев остался самой красивой фигурой «российской словесности». И, мнится, если бы показать ему «во мгновение времени» всю эту его литературную участь, как она определилась в перспективе годов, он молча удовлетворенно кивнул бы им головой…
В последние годы «открытия» Леонтьева — и, пожалуй, с легкой руки В. В. Розанова, на которого Леонтьев оказал никогда не стирающееся влияние45, стали писаться статьи о нем, выходить книги46, вышел сборник его памяти47, переизданы сочинения48, написана богословская о нем диссертация (свящ. Аггеева)49. И нет сомнения, что к 50-летнему юбилею напишется целая маленькая литература. Леонтьев именно такой писатель, которые живут не при жизни, а после смерти.
«Русский Ницше» ― это определение того же Розанова успело пустить корни50. Вполне верным его трудно признать, хотя бы уже потому, что трудно представить себе Ницше при каких бы то ни было условиях укрывшимся под сень какой-нибудь западной Оптиной пустыни, ― нашедшим разрешение своей жизненной и духовной борьбы в потаенно носимом нательном кресте негласного постриженика. Совсем другие горизонты верований и исканий — и в конце концов совсем другая ду ховная культура, иная наследств енная и окружающая среда…
Но и помимо этих «объективных» условий, мне кажется, пишущие о Леонтьеве обычно преувеличивают черты его эстетизма. Неустанный проповедник «разнообразия и сложности в жизни», он легко превращается под пером современных искателей и поклонников красоты (черта времени!) в какого-то русского Оскара Уайльда или Флобера51. Но, как справедливо заметил уже в своем интересном очерке о Леонтьеве (в сборнике его памяти) г. Б. Никольский, ― нет такой эстетики, которая могла бы завести человека в монахи52 . Помимо все того же основного водораздела «Востока» и «Запада», помимо того, что у Леонтьева, как это часто бывает на Руси, все «мирское» в сущности не доходило до «корня души», ― даже пресловутый этот его «эстетизм» нужно принимать cum grano salis53. Лучшей меркой действительной напитанности человека эстетической стихией можно считать его отношение к искусству. Оскар Уайльд, Флобер, у нас Тургенев — энтузиасты искусства, тонкие его знатоки и гурманы.
Что же Леонтьев? И к искусству собственно (помимо все той же «красоты жизни») он почти равнодушен, во всяком случае не энтузиастичен. Из всех искусств он имеет тяготение только к тому, в котором упражнялся сам, т.е. к изящной литературе. Но литературный эстетизм есть самое распространенное явление в России времен Пушкина-Тургенева-Толсто-го. Его следует считать более национальной чертой, чем личной. Гораздо показательнее в этом смысле любовь к пластическим искусствам (далеко не столь популярным в русской среде). И к ним Леонтьев не проявляет никакого особого интереса54. Живя так долго в Константинополе, столько о нем написав политических и религиозных размышлений, он ничего не собрался написать о храме св. Софии, даже, кажется, не упоминает о нем55. Ничего не написал и о греческих древностях, о Парфеноне, о мозаиках в Салониках (где был консулом)56. Странный «эстет»! Тургенев плакал от умиления, глядя в Берлине на пергамские мраморы57. Можно себе представить, что он нашел бы в Афинах, если бы г-жа Виардо пустила его погулять по Востоку. Прочитайте у Флобера страницы такого путешествия (в письмах)58! Леонтьев был в Афинах59, но об этом можно не догадаться по его писаниям. Он только выбранил современные Афины за то, что в них нет «красоты быта»60.
В этом все и дело: Леонтьев был совсем не западный эстет, а восточный мистик, искавший под псевдонимом «красоты» не столько собственную художественность, проявленную в человеческом творчестве, сколько пышное раскрытие и взаимную гармонию всех жизненных сил — и природы, и истории, и личности. Его «эстетизм» был какой-то космический : он стремился к «космосу» в древнем значении этого слова — к какому-то общему «ладу» вселенной. И в этом глубоко сказалась в нем подлинная русская стихия, ― и с этим его устремлением не в поверхностном раздоре, а в глубоком тоже «ладу» находились религиозные запросы его души.
Поэтому и мог он, начав жизненно «эстетикой», кончить втайне надетым большим крестом61…
Приложение 2
Письма отца Иосифа Фуделя к П. П. Перцову (1902–1911)
10 января 1902 г., Москва 62
10-го янв<аря> 902 г.
Многоуважаемый
Петр Петрович!
Спешу Вам сообщить, что по поводу Вашего предложения издать статью К. Леонтьева «Анализ»63 я входил в сношение с племянницей К. Леонтьева, Марьей Владимiровной Леонтьевой, коей по духовному завещанию предоставлено право распоряжаться литературным наследием К. Л<еонтьева>64. (Двум другим наследницам предоставлено только право участия в доходах от этого наследства65.)
Марья Владимiровна Леонтьева выразила свое полное согласие на то, чтобы предоставить Вам право издания сочинения К. Леонтьева «Анализ, стиль и веяние» при соблюдении следующих условий:
-
1 .) Издание должно быть отпечатано в количестве 1200 экземпляров (может быть и меньше)66.
-
2 .) За покрытием от выручки всех расходов по изданию, весь чистый доход должен делиться пополам между наследницами К. Леонтьева и издателем, причем желательно, чтобы наследницы были раньше удовлетворены 67.
-
3 .) По отпечатании издания — наследницам должно быть предоставлено бесплатно от 15 до 20 экземпляров книги, для раздачи родственникам.
-
4 .) При печатании книги, последняя корректура листов для просмотра должна быть предоставлена мне — Священнику И. Фудель.
В дополнение к этим 4-м условиям, М. В. Леонтьева выразила желание, чтобы в начале книги «Анализ» было приложено хоть краткое предисловие68.
Вот и всё самое существенное и важное, что необходимо для издания. О всех подробностях и затруднениях, какие Вы можете встретить при соблюдении этих условий, мы с Вами сговоримся или письменно, или лично при свидании. Имейте в виду, что М. Вл. Леонтьева нотариальной доверенностью, выданной еще 7-го апреля 1897 года, предоставила мне право на ведение всех дел по изданию, печатанию и продаже сочинений Константина Леонтьева69.
И в данном случае она просит Вас обращаться прямо ко мне за разрешением всех вопросов по изданию.
Покорнейше прошу Вас, многоуважаемый Петр Петрович, ответить мне поскорее, согласны ли Вы приступить к изданию «Анализа» на предложенных условиях и нет ли с Вашей стороны каких-либо вопросов и затруднений?
Мой адрес: г. Москва, Центральная Пересыльная Тюрьма70, Священнику Иосифу Ивановичу Фудель.
С истинным почтением к Вам
Ваш покорнейший слуга
Священник Иосиф Фудель.
15 января 1902 г., Москва71
Многоуважаемый
Петр Петрович!
Относительно издания «Новых христиан»72 К. Леонтьева я ничего определенного Вам не могу сказать теперь. Этой брошюры у меня нет и не было; хотя во 2-м томе Сборника всё это было напечатано73. Тем не менее надо достать и экземпляр отдельной брошюры. Спрошу об этом всем у наследницы.
Но мне представляется, что переиздание «Новых христиан» в отдельном издании будет некоторым анахронизмом. Нет сомнения, что если бы К. Леонтьев был жив и задумал бы переиздать эту брошюру, он многое изменил бы и дополнил в оценке своей Л. Толстого, в виду всего того, что Л. Толстым написано было после 85-го года74. Ведь тогда религиозные убеждения Л. Толстого только намечались, а теперь они слишком выпукло обрисовались. Хорошо ли с этой точки зрения переиздавать вновь сочинение автора не в Полном Собрании его сочинений, а отдельной брошюрой?
Издание «Анализа»75 не может вызвать таких возражений. Это произведение классическое и неизменное. Да притом по своей объективности оно не может ни в ком вызвать враждебного чувства по отношению к К. Леонтьеву, что также очень важно.
Я не вижу причины, почему бы не издать «Анализа» теперь, а что-либо более яркое из сочинений К. Леонтьева немного позже. Есть прекрасные вещи из не вошедших в два тома Сборника. Об этом я переговорю с наследницей и напишу Вам в Казань.
Корректурой «Анализа» я интересуюсь не с внешней стороны (это всецело Вам принадлежит), а со стороны самого текста, т. е. тех поправок, которые будут внесены в текст на основании имеющегося у Розанова исправленного экземпляра Анализа76. Но вопрос этот, думаю, можно решить так: ведите последнюю корректуру сами, но чтобы не замедлять печатания, требуйте из Типографии себе листы в двух экземплярах: один из них будете посылать мне. Или же, если это невозможно, то лишний экземпляр гранок мне пришлите. Только всего.
Хорошо было бы мне с Вами повидаться при Вашем проезде через Москву; если остановитесь хоть на несколько часов, заезжайте, или пришлите телеграмму — где Вас видеть.
С истинной преданностью
Священник Иосиф Фудель.
15-го янв<аря> 902 г.
26 апреля 1911 г.77
Милостивый Государь
Петр Петрович!
Статью К. Леонтьева «Анализ, стиль и веяние», которую Вы так ценили, удалось наконец издать книгой78. Посылаю ее Вам в надежде, что это будет Вам приятно. К сожалению, не знаю Вашего адреса и посылаю в Новое Время.
Пользуюсь случаем засвидетельствовать Вам свое глубокое уважение
Ваш покорный слуга
Протоиерей Иосиф Фудель.
26 апр<еля> 911.
Москва. Арбат. Никольский, 2379.
Список литературы Петр Перцов и его приношение Константину Леонтьеву
- Воспоминатели мгновений: Переписка и взаимные рецензии Василия Розанова и Петра Перцова. 1911-1916/Изд. подгот. А. Дмитриев и Д. Федоров. СПб., 2015 (Сер. «Литературные изгнанники»).
- Дурылин С. Н. В своем углу. М., 2006.
- Козырев А. П. Константин Леонтьев в «зеркалах» наследников//К. Н. Леонтьев: pro et contra: Антология: в 2 кн. СПб., 1995. Кн. 1. С. 417-435.
- Коноплянцев А. М. Письма к П. П. Перцову//РО ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1308-1311.
- Лавров А. В. Введение в «Диадологию» П. П. Перцова//Полярность в культуре. СПб., 1996. С. 204-216.
- Лавров А. В. Литератор Перцов//Перцов П. П. Литературные воспоминания. М., 2002. С. 5-34.
- Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т./Подгот. текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2000 -издание продолжается.
- Никольский Б. В. К характеристике К. Н. Леонтьева//Памяти Константина Николаевича Леонтьева: Лит. сб. СПб., 1911. С. 365-381.
- Памяти Константина Николаевича Леонтьева. † 1891 г. Литературный сборник. СПб., 1911.
- Перцов П. Константин Леонтьев//Новое время. 1916. 26 нояб. № 14618. С. 4.
- Перцов П. П. Литературные воспоминания. М., 2002.
- Перцов П. П. Первый сборник. СПб., 1902.
- Перцов П. П. Письма к В. В. Розанову (1898-1899)//РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77-80.
- Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб., 1913.
- «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания/Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012.
- Резниченко А. И. П. П. Перцов: морфология недостроенной системы (1897-1947)//Резниченко А. О смыслах имен. М., 2012. С. 252-271.
- Розанов В. В. Письма к П. П. Перцову (1897-1899)//РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176-178.
- Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012.
- Фудель И. И., прот. Письма к П. П. Перцову (1902, 1911)//РО ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1499-1501.
- Фудель С. И. Воспоминания//Фудель С. И. Собр. соч.: в 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 13-108.