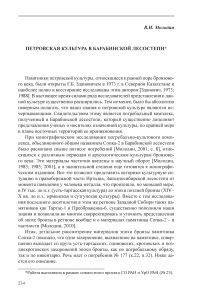Петровская культура в Барабинской лесостепи
Автор: Молодин В.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521624
IDR: 14521624
Текст статьи Петровская культура в Барабинской лесостепи
Итак, детальное рассмотрение материалов эпохи бронзы памятника Сопка-2 показало, что одно захоронение, выявленное на памятнике, совершенно выпадает из круга усть-тартасских, одиновских, кротовских и поз-днекротовских захоронений эпохи бронзы, как по погребальному обряду, так и по инвентарю. Речь идет о погребении № 177 (к.22, п.32). Ниже дается его описание.
Погребение № 177 (к.22, п.32) памятника Сопка-2 расположено в центральной части некрополя в глубине террасы. Захоронение грунтовое. Могильная яма не перекрыта насыпью кургана. Могила перерезает группу захоронений одиновской культуры № 170, 172, практически полностью уничтожив последние (рис.1). Совершенно очевидно, что она сооружена позже этих захоронений и вряд ли ее создатели имели о них представление, когда устраивали свое захоронение. Могила в плане имеет вытянутую овальную форму. Яма ориентирована по линии СВ-ЮЗ. В центре могильной ямы погребена женщина в возрасте 20-25 лет (A^^^^lt^^ s )*. У мерш а я была положена на левом боку, в скорченном положении, головой на СВ (рис.1). Кости правой руки у покойной отсутствовали. Левая рука лежала i^^ sit^^, вытянуто вдоль туловища. На большой берцовой кости обнаружена бронзовая, прокованная с обеих сторон пластина, удлиненной формы, с неровным краем (рис. 2, 1 ). Определить ее принадлежность не представляется возможным. На левом предплечье умершей вверх дном был поставлен сосуд (рис. 2, 2 ).
Прежде всего, очевидно, что погребение № 177 является моложе оди-новских стратиграфически и не может быть причислено к захоронениям данной культуры. Кроме того, несомненным индикатором культурной принадлежности данного захоронения является целиком сохранившийся сосуд, который требует особого рассмотрения (рис.2- 2 ). Сосуд представляет собой небольшой горшок слабо профилированной формы. Венчик его короткий, слегка отогнутый и приостренный, шейка выражена, тулово одутловатое, дно широкое, плоское. Вся поверхность сосуда украшена нанесенным гладким штампом композицией в виде волнообразных линий, слегка более углубленных на стыках «волн». Дно сосуда украшено прямыми прочерченными линиями, структурированными на четыре зоны покрытыми взаимо-перпендикулярной штриховкой, образующей узор, напоминающий стилизованную свастику. Как видим, сосуд достаточно своеобразен и конечно разительно отличается как от усть-тартасской, так и от одиновской и кротовской посуды. Своеобразие сосуда и его близость к керамике петровской культуры уже отмечались автором и Е.В. Ламиной [Молодин, Ламина, 1989, с. 116].
Наиболее близкие аналогии мы находим в посуде I и V т ипов ке р ами к и петровской культуры по периодизации Е.Е. Кузьминой [Кузьмина, 2008, с. 97-98]. Как подчеркивает исследо в атель, посуда этих типов часто орнаментировалась целиком [там же, с. 98]. Исследователь далее констатирует, что на петровской посуде нередко встречается «волнистый орнамент, выполненный широкими желобками» [там же, с. 90]. Ближайшие аналогии охарактеризованному сосуду мы находим на поселении Новоникольское-I [там же, с. 109, рис. 17-3], могильнике Петровка [Зданович, 1988, с. 34,
Рис. 1. Погребение петровской культуры на могильнике Сопка-2.
Рис. 2. Погребальный инвентарь из захоронения петровской культуры на памятнике Сопка-2.
1 – бронзовая пластина; 2 – сосуд.
рис. 7-5,9], поселении Петровка-П [Зданович, 1988, с. 48, рис. 16-7]. Не позволяет сомневаться в предлагаемой идентификации и погребальный обряд захоронения № 177 могильника Сопка-2. В петровском погребальном обряде имеют место грунтовые могильники, типичные, прежде всего, для захоронений детей. Умерших хоронили на левом боку, в скорченном положении (при этом преобладает слабая степень скорченности трупа) [Зданович, 1988, с. 135]. Е.Е. Кузьмина отмечает неустойчивость ориентировки умерших при преобладании восточной и северо-восточной ориентации [Кузьмина, 2008, с. 93].
Как видно, все перечисленные черты погребальной практики носителей петровской культуры полностью совпадают с захоронением № 177 могильника Сопка-2. Аналогии сосуда из этого захоронения с петровской керамикой позволяют сделать однозначный вывод об отнесении данного комплекса к петровской культуре.
В свое время Г.Б. Зданович справедливо подчеркивал, что «к востоку от Иртыша материалы петровского типа не обнаружены» [Зданович, 1988, с. 132]. Таким образом, перед нами первое петровское погребение, обнаруженное более чем за 200 км к востоку от Иртыша. Явная эпизодичность данного сюжета позволяет говорить, что носители данной культуры лишь изредка совершали столь далекие путешествия на восток в чуждую для них инородную среду носителей кротовской культуры, западной границей которой было как раз Прииртышье [см. Генинг, Гусенцова, Кондратьев и др., 1970, с. 28].
Таким образом, публикуемое захоронение петровской культуры из центральной Барабы свидетельствует о том, что проникновение за Иртыш носителей андроновской культурно-исторической общности началось задолго до федоровской экспансии на восток. Думаю, что в таком случае может быть понятен и своеобразный комплекс керамики, обнаруженный при раскопках могильника Ростовка на нижней Оми, отличающийся орнаментацией в виде волнообразного узора, украшением дна и налепных валиков по шейке горшка [Матющенко, Ложникова, 1969, табл. 17-2,5,8,9]. Авторы раскопок абсолютно обоснованно выделяют его в особую, третью группу предлагаемой ими классификации посуды [Матющенко, Синицына, 1988, с. 92, рис. 84]. По нашему мнению, сложение этой, вне всякого сомнения, своеобразной группы, может объясняться синкретизмом кротовских и петровских керамических традиций*, в таком случае петровское проникновение на восток уже не будет выглядеть как какой-то случайный эпизод. Последние находки на могильнике Тартас-1 свидетельствуют, вероятно, и о возможных проникновениях на территорию Иртышского правобережья носителей как петровской так и алакульской культуры, а также групп населения юго-западных окраин андроновской общности [Молодин, Мыльникова, Новикова и др., 2009, с. 341].
Все вышеперечисленное свидетельствует о значительно более сложных культурно-исторических процессах, протекавших в степях и лесостепях Евразии в эпоху ранне-развитой бронзы, чем нам порой представляется.