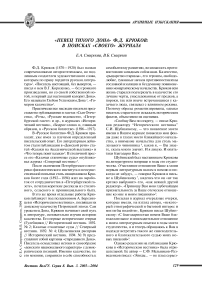«Певец тихого Дона» Ф.Д. Крюков: в поисках «своего» журнала
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975037
IDR: 14975037
Текст статьи «Певец тихого Дона» Ф.Д. Крюков: в поисках «своего» журнала
Ф.Д. Крюков (1870—1920) был назван современниками «второстепенным, но подлинным создателем художественного слова, которым по праву гордится русская литература»1. «Писатель настоящий, без вывертов, — писал о нем В.Г. Короленко, — без громкого произведения, но со своей собственной нотой, и первый дал настоящий колорит Дона». Его называли Глебом Успенским Дона2, «Гомером казачества»3.
Практически все наследие писателя представлено публикациями в газетах «Сын Отечества», «Речь», «Русские ведомости», «Петербургской газете» и др., в журналах «Исторический вестник», «Бодрое слово» и, главным образом, в «Русском богатстве» (1896—1917).
В «Русское богатство» Ф.Д. Крюков приходит, уже имея за плечами определенный писательский опыт. Его литературным дебютом стали публикации в «Донской речи» статей «Казаки на Академической выставке» и «Что теперь поют казаки»4. В столичной прессе его «Казачьи станичные суды» опубликовал журнал «Северный вестник»5.
После окончания Петербургского историко-филологического института и неосуществленной попытки стать священником Крюков более года (1892—1894) жил на заработок от сотрудничества в «Петербургской газете», печатая короткие рассказы из столичного, сельского и провинциального быта.
В это же время отдельные работы Крюков публикует под псевдонимом А. Березин-цев в «Историческом вестнике», посвящая их донскому казачеству Петровской эпохи. Сам уроженец Дона, Крюков начинает свой путь в литературе, основательно изучив историю казачества. Его первые исторические очерки (Гулебщики // Исторический вестник. 1892. № 2; Казачьи станичные суды // Северный вестник. 1892. № 4; Шульгинская расправа // Исторический вестник. 1894. № 9) представляют собой картины «стародавнего Дона». Писатель осмысливал истоки и своеобразие «донского национального характера» с демократических позиций. Именно казачество, по его мнению, сохранило в себе способность к самобытному развитию, возможность противостояния западным соблазнам. Казачество, «рыцарство старины», его героизм, свободолюбие, гуманные начала противопоставлены сословной изоляции и бездумному повиновению монархическому начальству. Крюков всю жизнь старался подчеркнуть в казачестве его лучшие черты, унаследованные от предков, а пороки, так или иначе встречающиеся у казачьего люда, связывал с влиянием режима. Поэтому образы романтизированы, однако писатель старается не искажать исторических фактов, объективно их оценивая.
«Сообщу Вам по секрету, — писал Крюков редактору “Исторического вестника” С.И. Шубинскому, — что появление моего имени в Вашем журнале повысило мои фонды даже в глазах моего ближайшего начальства, а внимание начальства для столь маленького чиновника6, каков я, — Вы знаете, сколь много значит. И я ликую. И опять-таки благодарю Вас».
Шубинский был наставником Крюкова на литературном поприще в годы его студенчества. «Участливое отношение Ваше к моим первым литературным шагам я помню и никогда не забуду», — говорил Крюков в письме к Шубинскому7, надеясь что он «не так крепко выбранит» его, «как всякий другой редактор». «Приношу Вам мою глубочайшую признательность за Ваше отеческое отношение ко мне и моим писаниям»8.
Посылая в журнал очередные очерки, которые имели, на взгляд автора, «некоторый этнографический и бытовой интерес и могли бы подойти», Крюков писал Шубинскому: «С благодарностью помня Ваше благожелательное и снисходительное отношение к моим литературным опытам в годы моего студенчества, я и теперь обращаюсь к Вам в надежде встретить такого же снисходительного и благожелательного судью моих новых писаний»9.
Однако рецензия на публикации Крюкова в «Историческом вестнике» была отрицательной. Ее автор — С.Ф. Мельников-Раз-веденков писал: «Этюды... — не плод серьез-
кого изучения данного сословия, а просто смехотворные статейки», причем «это не серьезный юмор, в котором слышатся скорбные нотки, вызванные теми или другими ненормальными явлениями, а разухабистое гоготание человека, не задумывающегося над тем явлением, над которым он смеется». «Мне кажется, — продолжает критик, — что молодой автор по неопытности стал на ложную дорогу, выливая помои на голову земляков. <...> Он нисколько не поспособствует улучшению народной жизни, огульно и голословно потешаясь над казачеством, не указывая серьезно слабых сторон его быта». Причем целью рецензии автор считал не столько «указать на ошибку», сколько «устыдить, дабы тот [Березинцев] проверил наблюдения и познакомил читателя с результатом», апеллируя к редактору «Исторического вестника», как такой серьезный журнал «дает место подобным очеркам, не относящимся к области серьезных произведений»10.
Крюков много работал — после смерти отца на его иждивении были мать, брат и две незамужние сестры, однако «урывал время для литературы»: «Есть во мне какой-то “писательский” дух, который не дает мне покоя», — говорил он ". Он пытался расширить тематику своих произведений, выйти за пределы этнографии и исторических описаний. Жизнь, которая его окружала,— эта «пестрая, нескладная, но вместе <с тем> и глубоко интересная сутолока человеческих взаимоотношений»12 — давала огромный материал для творчества. Она была для Крюкова «самой интересной книгой»13, которую нужно было изучать. «Жизнь, — писал он, — каждый жизненный акт заключает в себе элемент борьбы, вся история человечества есть борьба — или — иначе — стремление вперед — к счастью, к красоте жизни и т. п. Чем больше людей могут принять активное участие в этой работе человечества, тем она будет успешнее, и я верю, что наступят времена, когда главное зло — именно обязательность и чрезмерность труда — будет устранено, и труд станет удовольствием, а не средством для добывания пропитания. Тогда наступит свобода, и — может быть — на земле воплотятся более красивые формы. Поэтому наличность свободы и достаточных материальных средств у народа (будут ли это... мещане, мелкие... городовые, учащиеся, дьячки — все равно) не будет непременно обусловлено борьбой и нами — мы уже люди труда, — а вызовет лишь более быстрый посту пательный шаг вперед; для примера можно указать на ту же Германию, или Англию, или Америку, или Швецию»14.
Крюков считал себя народником: «Вкус у меня устаревший, — писал он А. Тинякову, своему ученику по Орловской гимназии, — я держусь группы народников и в экономических, и в эстетических взглядах»15. О том же свидетельствует и А.Г. Горнфельд, говоря, что Крюков был народник по общественным влечениям в своих произведениях»16. Поэтому неудивительно и неслучайно, что именно «Русское богатство» — журнал легального народничества — стало главной литературной трибуной писателя. Характерно, что сотрудники «Русского богатства» употребляли термин «писатель-народник» в очень широком смысле, имея в виду беллетристов, пишущих о жизни крестьян зачастую вовсе не с народнических позиций. Однако основное назначение журнала редакция видела в решении воспитательных задач: в ноябре 1905 года Короленко в письме к Анненскому высказывался о задачах ближайшего будущего. Он писал: «Воспитывать в народе привычки элементарной гражданственности и самоуправления — огромная работа и надолго»17. В целом журнал поддерживал реалистическое направление демократической журналистики, в нем сотрудничали многие писатели-реалисты старшего поколения [Г.И. Успенский, К.М. Станюкович, А.М. Горький, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.Г. Гарин-Михайловский, А.И. Куприн, Е.Н. Чириков, Л. Мельшин (П.Ф. Якубович) и др.]. Редакция взыскательно отбирала к публикации те произведения, которые не вызывали сомнения в прогрессивности содержания. Злободневность, политическая и социальная острота, реализм — вот основные критерии, предъявляемые к авторским материалам.
Будучи редактором «Русского богатства», Короленко считал, что народный писатель, изображая любые события или интимные чувства отдельных людей, сумеет осветить их с общественной точки зрения, вскрыть общественный смысл события, показать, как проявления интимной жизни определяются характером жизни общественной. Короленко видел в журнале «большой рупор для обличения зла»18.
Крюков стремился на литературной ниве осуществить свою давнюю мечту о служении народу, возникшую под непосредственным воздействием идей Л.Н. Толстого 19. Отослав в редакцию свои первые произведения, Крюков записывает в дневнике: «Неужели не при- мут? Одна только думушка, одна мысль об этом... Ах, если бы приняли... Я ничего не могу делать, меня берет тоска. Я думаю: были люди, были писатели, как Глеб Успенский и др. И я хочу быть писателем, бойцом на поприще пера, а между тем у меня нет ничего. Я люблю свой народ, рад послужить, но не могу, не могу. Господи! Смилуйся! У меня есть пыл, у меня сердце сильно бьется, изнывает при мысли о других, а судьба равнодушно давит. Господи! Пошли утешение!»20
В июле 1903 года, имея в творческом «багаже» опубликованные в «Русском богатстве» «Казачку» и «На тихом Дону», Крюков с гордостью писал Тинякову: «В день своего отъезда из Орла я получил от Короленки письмо, в котором он уведомил меня о том, что принимает второй мой рассказ, так что в портфеле редакции “Русского богатства” лежит два моих рассказа, но ни один из них еще не напечатан. Он предполагал пустить один в летних книжках, поэтому думаю, что в конце июля или августа появится рассказ мой “Из дневника учителя Васюхина”, а осенью рассказ “В родных местах”»21.
Тема казачества, экзотическая и малораз-работанная в то время, была самой судьбой дарована Крюкову и в существе своем отвечала идейной программе и устремлениям народнического журнала, проявлявшего пристальное внимание к жизни российской провинции, нуждам и чаяниям русского мужика. Казак же, как отмечал А Серафимович в письме Крюкову, — «тот же мужик в особенной обстановке»22.
Была еще одна причина привязанности писателя к «Русскому богатству» — постоянная поддержка, оказываемая молодому автору со стороны редакции, особенно В.Г. Короленко. Крюков считал, что в писателя он выработался в значительной степени благодаря помощи Короленко, который отнесся к нему с большим вниманием, исправлял его рукописи, ободрял и поощрял к дальнейшей работе. По-отечески относился к начинающему писателю и другой сотрудник журнала — Н.Ф. Анненский. После его смерти Крюков писал Горнфельду: «<...> Потеря Ник<олая> Фед<оровича> надолго придавила к земле все «Р<усское> богатство». И ничего неожиданного как будто нет в его смерти, а все кажется невероятным, что его нет, что он смолк навеки, что кресло его пусто... Невероятно, что голоса его милого, всегда доброго такого, не услышим, — бывают, должно быть, такие люди, с которыми представление о смерти никак не вяжется...»23
Позже, став штатным сотрудником журнала и частью единого редакционного коллектива, письма к коллегам Крюков неизменно заканчивал: «Передавайте привет товарищам». Слово «товарищ» бытовало в леволиберальной народнической среде с поры Великих реформ, и им охотно пользовались сотрудники журнала, считавшие себя наследниками революционных демократов, хранителями «наследства». Крюков любил это обращение, и даже когда в редакции возникали разногласия, «товарищи» всегда морально поддерживали друг друга.
Двадцатилетнее сотрудничество Ф.Д. Крюкова в «Русском богатстве» во многом предопределило его творческую судьбу. Журнал стал для писателя серьезной общественной и литературной школой. Лучшее из написанного Крюковым до 1917 года увидело свет именно на страницах этого ежемесячника. Органично вписавшись в журнальный контекст с публикацией «Казачки», Крюков прежде всего своим творчеством снискал заслуженное уважение у коллег, что позволило ему стать одним из редакторов «Русского богатства». «А много ли у нас в “Русском богатстве” таких по форме “хороших” беллетристов? — писал П.Ф. Якубович, один из редакторов журнала, В.Г. Короленко, возглавлявшему редакционный коллектив. — Кроме Вас, я, право, знаю только одного — Ф.Д. Крюкова»24.
Список литературы «Певец тихого Дона» Ф.Д. Крюков: в поисках «своего» журнала
- Горнфельд А.Г. Памяти Ф.Д. Крюкова//Вестник литературы. 1920. № 6. С. 15. 2 См.:
- Бирюков Ф.Г. Бытописатель народной жизни//Крюков Ф.Д. Рассказы. Публицистика. М., 1990. С. 18.
- Автономов П. Бытописатель земли донской//Донская волна. 1918. № 23. 4
- Донская речь. 1890. 18 марта и 29 апр. -соответственно. 5
- Северный вестник. 1892. № 4.
- Мельников-Разведенков С.Ф. Наше казачество в журнальных статьях//Донская речь. 1894. 13 дек.; 15 дек.
- Письмо Ф.Д. Крюкова С.И. Шубинскому от 24 сент. 1896 г. ОР РНБ. Ф. 844. Ед. хр. 65. Л. 96.
- Письмо Ф.Д. Крюкова А.И. Тинякову от 8 июля 1903 г. ОР РНБ. Ф. 774. Ед. хр. 22. Л. 4499.
- Письмо Ф.Д. Крюкова И.Н. Захарову от25нояб. 1912 г. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1348. Ед. хр. 35. Оп. 4. (Далее -РГАЛИ). 14
- Письмо Крюкова А.И. Тинякову от 8 и-юля 1903 г.
- Письмо Ф.Д. Крюкова А.И. Тинякову от 8 авг. 1909 г. ОР РНБ. Ф. 774. Ед. хр. 22. Л. 4501.
- Горнфельд А. Указ. соч. С. 15.
- Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1956. С. 417.
- Протопопов С. Воспоминания о В.Г. Короленко//Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 185.