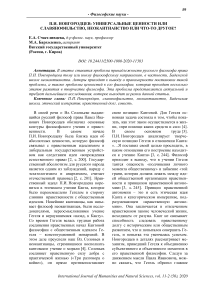П.И. Новгородцев: универсальные ценности или славянофильство, неокантианство или что-то другое?
Автор: Счастливцева Е.А., Бархоленко М.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 11-2 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится проблема принадлежности русского философа права П.И. Новгородцева тому или иному философскому направлению, в частности, Баденской школе неокантианства. Авторы приходят к выводу о правомерности постановки такой проблемы, а также проблемы ценностей в его философии, которая проходит несколько этапов развития в творчестве философа. Эта проблема представляется актуальной и требует дальнейшего исследования, которое выходит за рамки данной статьи.
П.и. новгородцев, славянофильство, неокантианство, баденская школа, этический императив, нравственный долг, совесть
Короткий адрес: https://sciup.org/170187001
IDR: 170187001 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11383
Текст научной статьи П.И. Новгородцев: универсальные ценности или славянофильство, неокантианство или что-то другое?
В своей речи о Вл. Соловьеве выдающийся русский философ права Павел Иванович Новгородцев обозначил основные контуры философского учения о нравственности. В самом начале П.И. Новгородцеву была близка идея об абсолютных ценностях, которую философ связывал с нравственным идеализмом и либеральным государственным устройством как следствием идеи «возрождения естественного права» [2, с. 200]. Государственный абсолютизм для русского народа является одним из заблуждений, наряду с эсхатологизмом и анархизмом, считает отечественный правовед [2, с. 201]. Нравственный идеал П.И. Новгородцева коренится в этическом учении Канта, которое было переосмыслено Гегелем в сторону слияния нравственности с общественным идеалом. Новейшие кантианцы, как называет философ неокантианцев, были исследователями, переосмыслившими учение Гегеля и вернувшимися «назад, к Канту». Со времен Гегеля велась трудная работа соединения нравственных начал Кантовой философии с общественным идеалом Гегеля – конституционной монархией. В этом деле преуспели наш Вл. Соловьев и неокантианцы, стремившиеся восполнить кантовское учение о морали [4]. Соловьев соединяет нравственную силу добра с практической жизнью («Три разговора о войне»), он прямо противопоставляет свою позицию Кантовой. Для Гегеля основная задача состояла в том, чтобы показать, как этот закон осуществляется в жизни, «при помощи каких средств и сил» [4]. В своем основном труде [3]. П.И. Новгородцев анализирует творческую позицию Гегеля в отношении Канта: «…Я поставил своей целью проследить, в каком отношении его построение находится к учению Канта» [3, с. 244]. Философ приходит к выводу, что в учении Гегеля таится опасность «подчинения личного момента общественному» и забвение «той грани, которая должна лежать между идеей общественной организации нравственности и принципом нравственной автономии» [3, с. 245]. Принцип нравственной автономии – это и есть этическая идея Канта о категорическом императиве, подразумевающем «нравственную автономию». Она заключается в отвлеченном нравственном законе человеческой жизни, исходящем от разума. Кант не связывает способность следовать нравственному долгу с историческим или общественным развитием, что и попытался совершить Гегель, и попытка эта увенчалась успехом. Новгородцев в деталях рассматривает механизм, приведший Гегеля к объединению субъективного и объективного моментов в его нравственной философии. Следуя за движением мысли Павла Ивановича, можно сказать, что Гегель обратил главное внимание на объективную сторону нравственности, тогда как у Канта прослеживается только одна ее субъективная сторона – это совесть и долг. (Следует сказать, что философско-мировоззренческая проблема соотношения субъективного и объективного момента решалась одним из основоположников Баденской школы неокантианства Г. Риккертом [5]). Совесть у него является тем элементом, тем неразложимым, неисчезающим остовом, который остается у человека в момент совершения им поступка. Совесть человека – от чистоты, априорности нашего разума, который и наделяет субъекта нравственностью. Причем человек совершает моральный выбор между добром и злом. «Объективная реальность морального закона не может быть доказана никакой редукцией, – говорит Новгородцев, – и никакими усилиями теоретического разума, ни умозрительного, ни эмпирически-обоснованного. Она представляет собой нечто непосредственно данное для разума» [3, с. 84]. Разум «оценивает действительность согласно со своими принципами». «Мысль Канта состоит в том, чтобы возвысить нравственное сознание над цепью причин и следствий, над течением времени, над миром опытных явлений». «Ничто не может заглушить голос совести», – говорит Кант устами Новгородцева, ибо совесть есть разум и свобода [3, с. 5].
В отличие от Канта, по мысли Новгородцева, Гегель стремится к осуществлению нравственного идеала, причем он рассматривает этот идеал как реальную силу, направляющую «отдельных лиц путем приобщения их к общей нравственной жизни» [3, с. 161]. Мораль кантовского категорического императива провозглашала автономию воли и требовала безусловного уважения личности, ее достоинства; она подчеркивала достижения Французской революции. Так, Гегель в письме к Шеллингу от 16 апреля 1795 года писал: «От Кантовой системы и его высшего завершения я ожидаю в Германии революции; принципы для нее уже даны; их надо только обработать и распространить на все до сих пор существовавшее знание». «Нет лучшего признака времени, как тот, что человечество представляется достойным уважения само по себе; это доказывает, что ореол, окружавший притеснителей и земных богов, исчезает. Философы доказывают это достоинство, а затем и народы научатся его чувствовать и не только требовать, но и присваивать себе свои попранные права» [3, с. 164-165]. Эта связь человека и общества, а в целом и государства, образует основу нравственной философии Гегеля. Народ у него выступает главным связующим звеном между Абсолютной идеей и историческим развитием государства. Личная нравственность приводится в единство с нравственностью общественной. Это и есть новый монистический взгляд Гегеля. «Теперь Гегель еще больше утвердился на той мысли, что моральное развитие лиц обусловливается с необходимостью общим строем и духом народной жизни, которая в свою очередь отражает в себе некоторую высшую необходимость абсолютного начала» [3, с. 191192]. И, тем не менее, Новгородцев упрекает Гегеля, вслед за Чичериным, в том, что общественный авторитет является для немецкого классика основанием морали, поскольку содержание ее черпается, в том числе из общественной среды. П.И. Новгородцев полагает, вслед за Кантом, что единственным источником нравственности является совесть, проистекающая из автономии разума. Между тем у Гегеля «твердые основы общественной организации ставятся выше личного сознания» [3, с. 222-223]. Таким образом, лозунг «Назад к Канту!» является оправданным у неокантианцев, тем более, исторически достоверно, что философское мировоззрение и ценностная теория Риккерта испытывают сильное влияние философии Канта [5]. Сам П.И. Новгородцев находится под влиянием В. Виндельбанда, его философии о Канте [1].
В конечном итоге, концепция универсальных ценностей претерпевает в мировоззрении русского философа и правоведа идейное крушение. Общезначимыми для него становятся взгляды славянофилов, в отношении которых он первоначально поддерживал острополемическую позицию Вл. Соловьева. Под влиянием русской революции философ пересматривает свое отношение к наследию славянофилов и Достоевского: он говорит, что подлинные основы культуры и права были даны именно в их трудах – это религиозное и национальное сознание народа, его верность «вековым традициям и святыням» [4].
Список литературы П.И. Новгородцев: универсальные ценности или славянофильство, неокантианство или что-то другое?
- Виндельбанд В. История Новой философии. Т. 2. От Канта до Ницше. - М., 2007. - 511 с.
- Данильян О.Г, Байрачная Л.Д., Максимов С.И. и др. Философия права. - М., 2004. - 416 с.
- Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. Два типических построения в области философии права. - М., 1901. - 245 с.
- Новгородцев П. И. Идея права в философии Вл. Соловьева. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: az.lib.ru/n/nowgorodcew_p_i/text_1901_soloviev.shtml
- Основные положения теории ценностей Г. Риккерта. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://bstudy.net/600990/filosofiya/osnovnye_polozheniya_teorii_tsennostey_rikkerta