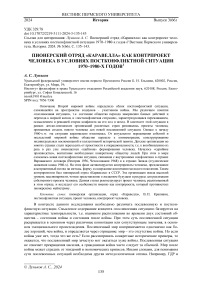Пионерский отряд «Каравелла» как контрпроект человека в условиях постконфликтной ситуации 1970-1980-х годов
Автор: Луньков А.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Проектирование человека в постконфликтной культуре второй половины XX века: СССР, ФРГ и ГДР
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Окончание Второй мировой войны определило облик постконфликтной ситуации, сложившейся на пространстве социумов - участников войны. Мы различаем понятия «послевоенная ситуация», т.е. состояние общества периода завершения боевых действий и перехода к мирной жизни, и «постконфликтная ситуация», характеризующаяся переживанием, осмыслением и реакцией сторон конфликта на его ход и исход. В контексте этой ситуации в рамках детско-юношеских организаций различных стран развивались проекты человека, призванные создать нового человека для новой послевоенной ситуации. Однако к началу 1960-х гг. эта ситуация кардинально изменилась. От актуального переживания событий и последствий мировой войны общество перешло к коммеморации, конструированию индивидуальных воспоминаний и коллективной исторической памяти. Детские организации во многих странах стали переходить от проектности к операциональности, т.е. к возобновлению из раза в раз уже имеющегося «шаблона» формирования человека. Началось «серийное производство», воспитание необходимых конкретному обществу людей. При этом в мире сложилась новая постконфликтная ситуация, связанная с внутренними конфликтами в странах Варшавского договора (Венгрия 1956, Чехословакия 1968) и в странах Запада (студенческие движения конца 1960-х). На этом фоне активизируются контрпроекты человека, предлагавшие альтернативный взгляд на методы, форму и содержание воспитания молодого поколения. Таким контрпроектом был пионерский отряд «Каравелла» в СССР. Эта организация имела высокий уровень пассионарности, четкое представление о желаемом будущем и ресурсы для реализации собственного проекта человека. Данная статья реконструирует проект человека, реализованный в этом отряде, и исследует его особенности именно как контрпроекта, который противостоял пионерскому мейнстриму.
Пионерская организация, отряд «каравелла», в. п. крапивин, постконфликтная ситуация, проект человека, контрпроект человека
Короткий адрес: https://sciup.org/147246542
IDR: 147246542 | УДК: 329.78 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-135-143
Текст научной статьи Пионерский отряд «Каравелла» как контрпроект человека в условиях постконфликтной ситуации 1970-1980-х годов
Венгрия относятся к странам, которые проиграли войну, были оккупированы и потеряли значительную часть своей государственности. СССР, на котором мы сконцентрируемся в данной статье, войну выиграл, но столкнулся с необходимость восстанавливать колоссальные разрушения на своей территории. Югославия представляет собой уникальную страну, которая смогла самостоятельно освободить свою территорию от фашистской оккупации и войти в число стран-победительниц в войне. США войну также выиграли и не имели необходимости восстановления своей территории.
Концепт посткофликтной ситуации дает возможность как объяснять природу различных социальных явлений, так и сравнивать постконфликтные ситуации, возникающие в разных странах в рамках одного темпорального измерения, например, после Второй мировой войны. С. Форман, С. Патрик и Д. Саломонс подчеркивают такой признак наступления постконфликтной ситуации, как снижение масштабов военных действий до уровня, при котором можно начинать работу по реинтеграции и восстановлению [ Forman , Patrick , Salomons , 2000, p. 2]. Сама по себе подобная постановка проблемы не дает четких критериев перехода конфликта в постконфликт. Важным является акцент на масштабах боевых действий, т.е. интенсивности насилия и степени его организованности. Если понимать военный конфликт как организованное насилие, то постконфликтная ситуация начинается только тогда, когда «одна или несколько групп людей прекращают убивать и начинают сотрудничать, устанавливая таким образом мир. Установить мир – быть в состоянии (или, по крайней мере, попытаться) жить вместе, жить рядом, точнее, сотрудничать» [ Боянич , 2023, с. 160]. Если пытаться масштабировать традиционные для конфликтологии взгляды, относящиеся к динамике конфликта, на войну и мир после войны, то сделать это возможно только с помощью аналогий. В структуре постконфликтной ситуации, в случае конфликтов с участием личности или группы, выделяют этапы частичной и полной нормализации отношений. Первая характеризуется сохранением негативных эмоций, переживаемых участниками конфликта. Полная нормализация отношений наступает после рефлексии участниками конфликта важности и возможности дальнейшего конструктивного взаимодействия. По аналогии с этими тезисами можно говорить о национальной психологической травме как о результате пережитых нацией интенсивных эмоций, связанных с войной. Мы говорим именно об интенсивности, но отнюдь не о модальности эмоций, так как, на наш взгляд, нация, пережившая бурный триумф после победы в войне, также является травмированной. Однако это тема для отдельного исследования. Возвращаясь к приведенной выше цитате Петара Боянича, полная нормализация отношений становится возможна тогда, когда личности, группы и институции находят в себе силы действовать конструктивно вопреки переживаемой травме.
Постконфликтная конструктивная деятельность быстро обретает черты проективности из-за целого ряда факторов. Прежде всего послевоенное восстановление страны всегда осуществляется в форме проектов, так как речь идет об отдельных объектах (промышленные предприятия, населенные пункты и т.д.), а не об абстрактных явлениях, таких как экономика, мирная жизнь и т.д., которые применимы в контексте пропаганды и идеологической работы. Далее такая деятельность организована во времени, разделена на этапы и имеет образ конечного результата, образ желаемого будущего, достижение которого означает завершение проекта и начало рутины. И, наконец, постконфликтная проективная деятельность чаще всего связана с мобилизацией ресурсов и усилий. Эта структура напрямую коррелирует с войной как формой организованной деятельности проектного характера. Поэтому можно утверждать, что проекты постконфликтного восстановления органически вытекают из особенностей хода и, главное, исхода войны для конкретной страны. При этом и сама война разбита на специфические отрезки, что имеет важные следствия для постконфликтного периода. «Такое понимание подразумевает определенное регулирование и последующую трансформацию войны в мир посредством разнообразных практик, которые используются в ее различные периоды» [Там же].
Еще одним теоретическим основанием данного исследования является концепция контрпроекта. Целью реализации контрпроекта является контринститут – «отдельный институт, существующий параллельно или даже в оппозиции к действующим институтам и различным индивидуальным или групповым актам. Для него характерно производство множества критиче- ских и ангажированных действий, направленных на обновление, изменение и деконструкцию закосневших авторитарных моделей» [Там же, с. 163]. Здесь мы говорим о достаточно редких ситуациях, когда текущий мейнстрим проектирования институтов не устраивает группу людей, которые обладают настолько высоким уровнем притязаний или, если угодно, пассионарности, что создают и делают успешным свой проект. Пионерский отряд «Каравелла» как раз пример такого контрпроекта, который даже пережил саму пионерскую организацию СССР.
Центральным элементом методологии данного исследования является инструментарий философской антропологии, который в данном случае предполагает не просто философскую рефлексию проблемы человека, а создание междисциплинарных связей между конфликтологией, изучением проектирования человека сравнительно-историческими исследованиями. Конфликтология при этом дает аппарат всестороннего анализа природы конфликтов, их эволюции от зарождения до стадии завершения (разрешения). При этом антропологический смысл постконфликтной ситуации часто остается за границей конфликтологического анализа. Поэтому понятие «проектирование человека» используется здесь как связующее звено между аспектами анализа. Мы используем модель четырех уровней проектирования: когнитивного, морального, эстетического и телесного. Эта модель стремится объединить трактовки феномена человеческого на философском, социальном, идеологическом, педагогическом уровнях анализа.
Важным в методологическом плане является исход войны для конкретной страны (поражение или победа и их дальнейшее содержание: независимость, зависимость, оккупация и т.д.). Сюда мы также относим наличие ресурсов или доступа к ним для постконфликтной реконструкции, включенность в новую глобальную международную инфраструктуру и культурные особенности страны, оказавшейся в постконфликтной ситуации: традиционные формы концептуализации конфликта и его нравственной оценки в культуре (например, агонизм), практик разрешения и преодоления конфликтов, ритуалов примирения и прощения. Поэтому различные обстоятельства и культурные условия постконфликтной ситуации задавали рамки проектирования того, каким должен быть человек для нового послевоенного мира. Эти же обстоятельства и условия задают методологические рамки исследования.
Мы понимаем процесс проектирования как специфическую интеллектуальную деятельность, опрокинутую в социальную и культурную практику, прежде всего педагогику и разного рода воспитательную и просветительскую работу. Исходя из этого главными институтами проектирования человека и реализации этих проектов являются детские и молодежные организации постконфликтного периода. Именно за детей и подростков шла борьба между проектами и контрпроектами. Во всех рассмотренных странах на момент наступления постконфликтного периода уже были определенные институты по проектированию человека и реализации этих проектов. Пионерская организация и скаутское движение, различные молодежные организации религиозного характера и т.д. охватывали своим влиянием огромное количество детей и подростков по всему миру. Кроме того, наряду с институтом, который становится социально одобряемым и поддерживаемым государством, возникают «теневые» институты (например, по криминальной «социализации» молодежи), либо контринституты – установления, предлагающие альтернативный взгляд на проект человека для желаемого будущего. Эти контрпроекты человека могут конкурировать с мейнстримом или находиться относительно него в параллельной социальной реальности. Последняя ситуация крайне редка, так как проекты одной направленности всегда конкурируют за ресурсы.
Для эмпирического анализа контрпроектов человека используется предложенная сербским философом П. Бояничем методология изучения институций, для которой базовыми понятиями являются «институция», «проект», «контринституция» [Bojanic, 2022, р. 21‒22]. Институция понимается как «начало чего-то совершенно нового, положенное, прежде всего, с помощью письменного документа или устава и подразумевающее открытие общего блага или достояния, и которое, в свою очередь, создает новых действующих лиц, поколения и наследников» [Ibid., p. 13‒14]. Если развить приведенное выше определение понятия «контринститут», то необходимо отметить, что «контринституциональная практика является условием открытия новых, модифицированных правил, которые затем меняют связи между социальными актора- ми. Контринституциональные практики могут раскрыть фундаментальный институциональный парадокс: институты формируют людей, и в то же время люди формируют институты» [Ibid., p. 22]. Этот институциональный парадокс отсылает нас к необходимости использования понятия проекта человека для исследования постконфликтных ситуаций.
В некоторых случаях применялась методология дискурс-анализа. Это делалось для выделения из текстов дискурсов, т.е. социально обусловленной организации системы речи и действия. Любая речь не только что-то высказывает, но также объясняет то, что высказывает, проясняя собственные основания или причины. Таким образом, текст можно разложить на речевые высказывания, благодаря чему будут прояснены содержащиеся в них обусловленные проективной деятельностью значения, нормы и правила.
После окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны на территории СССР сложилась постконфликтная ситуация, которая характеризовалась рядом значимых для нашего исследования моментов. Дети и подростки военных лет оказались в ситуации «украденного детства». Риторика советских руководителей и организаторов пионерского движения 1920‒1930-х гг. воплотилась на практике в изнуряющий труд вместо выбывших взрослых, участие в боевых действиях на фронте и в партизанских отрядах, вынужденное переселение и т.д. Кроме того, дети и подростки оказались особенно восприимчивы к пропаганде и проявлению сильных негативных эмоций. В период войны было нормой испытывать ненависть и агрессию к врагу, но после ее окончания эти чувства перестали иметь перед собой отчетливую цель и стали деструктивными. Поэтому в 1940‒1950-х гг. шло активное формирование нового проекта человека, который должен был реализовываться в рамках детcких и юношеских организаций СССР. Уже не «борец за дело мировой революции» и не «сын полка», а «прилежный ученик» стал главной целью и желаемым результатом проектирования (подробнее см. [ Луньков , 2023, с. 142‒147]). Именно в такой ситуации возник один из самых ярких и жизнеспособных контрпроектов человека.
Пионерский отряд «Каравелла» был создан в СССР в 1961 г. по инициативе группы свердловских детей и писателя Владислава Крапивина. Данная институция носила характер проекта человека, который начал реализовываться в условиях новой постконфликтной ситуации, которая характеризовалась не столько опытом Великой Отечественной войны, сколько итогами первых внутренних и внешних для стран Варшавского договора конфликтов. Разрыв отношений Югославии и СССР в 1949 г., события в Венгрии 1956 г., Пражская весна 1968 г., завершение хрущевской оттепели и другие события первых послевоенных десятилетий определили характер новой постконфликтной ситуации в СССР.
Основными приемами формирования самоидентификации детей и подростков СССР с начала 1950-х гг. были приобщение к идее советского патриотизма, укрепление коллективной памяти о подвигах и жертвах фронтовиков и тружеников тыла, романтизация ветеранов и военных действий [ Беневаленская , 2022, с. 129]. Другими словами, от направленности в «светлое будущее» вектор проектирования человека устремился в «героическое прошлое». Но даже этика и эстетика героического военного прошлого постепенно заменялись (если не сказать – подменялись) дискурсом повседневности. Быть не борцом, а прилежным учеником пионер должен был учиться на примерах героев войны. «Если в 1940-е гг. образ одного из идеалов пионеров З. Космодемьянской связывали с ее военными подвигами, то теперь вожатая рассказывала школьникам о Зое как примере упорства и настойчивости ученицы в овладении знаниями» [Там же, с. 130]. Исследования устной истории и интервью с пионерами 1960‒1980-х гг. показывают, что идеологическое содержание пионерской работы часто не вызывало интереса у детей и подростков и об этом они до сих пор не любят вспоминать. При этом выезды на природу и другие подобные виды активности, наоборот, имели для тогдашних пионеров большое значение и носили положительную эмоциональную окраску [ Нуркина , 2015, с. 98].
Другой важной особенностью официальной пионерии 1970‒1980-х гг. была ее тесная связь со школой. Изначально пионерская организация должна была объединять детей по принципу места работы их родителей (например, пионерская организация завода). За четкое разграничение деятельности пионерской организации и школы выступала еще Н. К. Крупская. Одна- ко эта «смычка» началась еще в 1930-е гг. и в послевоенный период получила свое логическое завершение в принципе «один класс - один пионерский отряд». «Поиск вариантов переноса базирования пионерских дружин и отрядов, или, по крайней мере, их деятельности за пределы школы велся энтузиастами в разное время во многих территориях страны. […] Однако для связанной мощными организационными, содержательными, материальными и иными нитями со школой массовой детской организации найти место вне образовательного пространства было практически невозможно» [Кирпичник, Трухачева, 2016, с. 263]. Наиболее ярким выражением пионерского официоза стали единые, массовые - в масштабах всего СССР - мероприятия, объединенные общими идеями. Двухлетнее Всесоюзное соревнование на лучший отряд (1962-1964), Всесоюзный смотр пионерских дружин «Сияйте, Ленинские звезды!» (1964-1967), Всесоюзная экспедиция пионеров «Заветам Ленина верны!» (1967‒1970) и самое глобальное событие - Всесоюзный марш пионерских отрядов (1970-1985). Эта программа «вобрала в себя опыт и самые плодотворные начинания республиканских, областных, городских, районных пионерских организаций страны, которые символически были названы маршрутами, а определенные временные отрезки Марша - этапами» [Балакирев, 2018, с. 3]. Это неожиданно четко соотносится с современным понимаем работы по постконфликтному восстановлению территории. С этой точки зрения «постконфликтное восстановление имеет целью разработку долгосрочных программ для оказания всеобъемлющей помощи стране и ее населению в политическом, социально-экономическом и психологическом направлениях» [ Абакумова, Рядинская, 2016, с. 213]. Таким образом, Всесоюзный марш пионерских отрядов можно трактовать не только как программу развития пионерской организации, но и как программу долгосрочной социальнопсихологической помощи детям и подросткам, находящимся в постконфликтной ситуации. Отсюда попытки преодоления буквального опыта войны и его замены на историческую память, которая целенаправленными усилиями была сформирована. Нужно иметь в виду, что пионеры 1970-1980-х гг. находились в повседневном и непосредственном общении с ветеранами войны и их опытом. Поэтому практически все этапы были посвящены памятным датам коммунистического движения или Великой Отечественной войны. Вектор движения всей пионерской организации с помощью политики памяти перенаправлялся в прошлое, заветам, идеалам и принципам которого пионер должен быть верен. Безусловно, сохранялись мероприятия и начинания, связанные с устремленностью в будущее, такие как Всесоюзный конкурс научно-технического моделирования «Космос», кружки юных техников и т.д. Но конкурс ‒ это не программа деятельность всей пионерской организации, а этика и эстетика «фронтира» так и не получила заметного места в системе ценностей и идеологии советской пионерии.
В подобной атмосфере стали появляться контрпроекты человека, содержанием которых были иные или видоизмененные идеалы. Подобным примером может служить пионерский отряд «Каравелла». Изначально в идеологической и практической платформе «Каравеллы» не предполагалось создавать альтернативу или конкурента пионерской организации. Более того, сам отряд и его руководитель пользовались своей включенностью в структуру пионерии и покровительством ее центральных органов (таких как журнал «Пионер») для противостояния со структурами местными. В этом состоит один из парадоксов контрпроектов человека. В природе контрпроекта заложена конкуренция за ресурсы с проектом мейнстрима. Но эта конкуренция всегда конкретна. Так как у «Каравеллы» никогда не было даже намерения выступать альтернативой пионерии как таковой, этот отряд пользовался покровительством центральных органов, потому что не претендовал на их ресурсы и более того олицетворял положительный пример реализации пионерских идеалов на практике. Но с местными пионерскими и школьными структурами «Каравелла» находилась уже в серьезном конфликте, так как претендовала на основные ресурсы - самих пионеров, благосклонность центральных органов управления и реноме.
Рассмотрим особенности отряда «Каравелла» как контрпроекта. В одном из интервью с основателем и руководителем отряда Владиславом Крапивиным есть воспоминания о составе воспитанников «Каравеллы» 1960-х гг. Писатель рассказывает, что некоторые ребята, с которыми он начинал работать, были достаточно агрессивны даже в играх: «Стоило большого труда отучить их от привычки во время игры нападать сзади, валить человека на землю, бить лежаче- го. Приходилось перестраивать все мировоззрение. А на основе чего можно было это сделать? Только на основе показа других норм, других отношений, другого понимания жизни» [Крапивина, 2015, с. 92]. Это новое понимание жизни не имело непосредственной опоры в чем-то хорошо известном. Нельзя было взять готовый шаблон, нужно было спроектировать новый образец. Всем известная строка из советской песни – «мы рождены чтоб сказку сделать былью» – была использована буквально и постепенно сложилась новая система воспитания, которую можно охарактеризовать как «вовлечение в воображаемое». Это «воображаемое» не было вариантом эскапизма, ухода от неудобной и неуютной реальности. Это было энергичное установление, институциализация воображаемого в реальном. Неслучайно большую роль в работе пионеров «Каравеллы» играли различные виды художественной деятельности, обладающие высоким влиянием на личность и общество, – журналистика и кинематограф, а сам Владислав Крапивин стал признанным классиком советской и российской литературы. Не считая полушутливого, полумифического акта основания отряда записью в бортовом журнале выдуманного корабля и попыток нащупать направление работы, «Каравелла» как институция и проект начинала в качестве корреспондентского пункта журнала «Пионер» [Лебедева, 2023, с. 43-47]. «Институционные признаки», такие как удостоверения юнкоров, красное знамя от журнала, отметки о выполнении поручений, полученные от институции всесоюзного значения, давали большую свободу деятельности на месте, в регионе. Поэтому «романтическая игра на чердаке дома» [Доможиров, 2011, с. 46] очень скоро стала серьезной работой. Вместо освоения профильных навыков и приобщения к элементам какой-либо профессии, чем в основном занимались многочисленные секции, кружки, дома и дворцы пионеров в тот период, работа с детьми в «Каравелле» была направлена на «формирование эмоционально-нравственного стержня личности подростков в условиях большого разновозрастного объединения. Эмоциональнонравственный стержень – комплекс устойчивых позитивно направленных идей, ценностей, мотивов подростка, определяющих фундаментальную характеристику личности и ее способность независимо принимать решения, а также самостоятельно действовать в ситуациях нравственного выбора на протяжении всей жизни» [Крапивина, 2015, с. 93].
Другой важной целью этого проекта стало формирование самостоятельности у детей и подростков. Владислав Крапивин писал, что «на принципе самоуправления основана вся пионерская организация. Поэтому пионеры должны пользоваться этим правом в своих отрядах: сами придумывать интересные дела, выбирать командиров, давать поручения товарищам, оценивать их поступки» [ Крапивин , 1982 b , с. 25]. «Учитель может быть помощником, советчиком пионеров, но быть у них командиром он просто не имеет права» [Там же, с. 27]. Как уже было упомянуто, проблема пионерского самоуправления в контексте того, что ведущей деятельностью для детей школьного возраста является учеба, и учеба именно в школе, остро стояла с момента зарождения пионерского движения. Когда же число пионеров стало исчисляться миллионами, эта проблема стала неразрешимой. В СССР просто не было и скорее всего не могло быть создано достаточной материальной базы для столь многочисленного детского движения. Невозможно было найти столько квалифицированных вожатых и инструкторов. И, что немаловажно, сложно себе представить реальное самоуправление в масштабе всей страны. Поэтому укрепление связи школы как очень сильной институции со своими традициями деятельности с пионерией было неизбежно. Однако эта ситуация как раз создавала повод для появления контрпроектов, таких как «Каравелла». Они могли в небольших масштабах реализовать то, что невозможно было сделать даже в масштабе региона.
После периода утверждения нового контрпроекта начался этап его расширения. В «Каравелле» появились детско-молодежный пресс-центр, школа пионерского актива, секция фехтования, киностудия, кораблестроительный цех, парусный яхт-клуб [Крапивина, 2015, с. 92‒93]. И все это в Свердловске, вдали от моря. Скорее всего, именно на этом моменте, когда первоначальное установление нужно масштабировать на все более многочисленное сообщество людей, большинство новых проектов прекращают свое существование или «замораживаются» на первоначальном числе участников. Здесь вполне уместно привести аналогию с масштабированием бизнеса, который конкурирует с уже существующими игроками на рынке. Эта деятельность всегда сталкивается с организационными и ресурсными проблемами. В случае нового проекта организационная проблема стоит еще острее, так как, скорее всего, участники этого начинания не обладают развитыми навыками организации. Кроме того, начинается борьба нового проекта за главный ресурс – за внимание и время его участников, на что в повседневной жизни всегда претендует большое количество иных видов деятельности. Наконец, подлинную проверку на жизнеспособность проект проходит после отхода от дел или смерти своих основателей. Отряд «Каравелла» пережил не только своего идейного вдохновителя, Владислава Крапивина, но даже саму пионерскую организацию и страну, в которой он появился.
Здесь важно остановиться на декларируемых принципах отряда «Каравелла». Сам Владислав Крапивин в одном из интервью сформулировал их так: «Первый наш пункт обязывает: ты – член “Каравеллы” везде и всюду. Одна форма, одни принципы. Держи честь отряда, будь ответствен за свои слова и поступки, где бы ты ни был. Второе правило: никогда не дразни слабых, “рыжих”, “очкастых”. ˂…˃ Третье правило – не бойся риска. Это правило, скорее, для руководителя, поскольку накладывает на него ответственность. ˂…˃ Четвертое правило: соблюдай все отрядные ритуалы. ˂…˃ И пятое правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не будь трусом!» [ Крапивин , 1982 a , с. 29]. Эти принципы должны были реализоваться в главных чертах личности воспитанника: «мальчишки должны сердцем принять святые вещи, должны в детстве ощутить бескорыстие дружбы, научиться быть непримиримыми ко всякой несправедливости и неравноправности» [Там же]. Это и есть тот самый эмоционально-нравственный стержень, который одновременно является точкой сборки нового человека, главным содержание проекта и способом преодоления личностью постконфликтной ситуации.
Таким образом, пионерский отряд «Каравелла» является яркой иллюстрацией контрпроекта человека. Для него был характерен ряд особенностей. Свое идейное содержание отряд формировал в строгом соответствии с официальной идеологической доктриной и стремился следовать ему без компромиссов. Это выражалось в последовательной реализации принципа самоуправления пионерского отряда, следовании идеалам, традициям и ритуалам пионеров не формально, а по сути. Главной целью данного проекта было формирование у ребенка эмоционально-нравственного стержня личности. Наиболее эффективно это делалось не на примерах «славного прошлого», а на «желаемом воображаемом», пронизанном этикой и эстетикой фронтира, приключений, борьбы за справедливость и т.д. Наконец, методы реализации проекта основывались на вовлечении детей и подростков в такие виды деятельности, которые были бы не просто интересны им, а требовали брать на себя ответственность, отстаивать свое мнение и придерживаться активной гражданской позиции. Журналистика, мореходное дело, фехтование, съемка фильмов и т.д. были не только сильно выбивающимися из повседневности видами активности для уральского ребенка, но и требовали воспитывать в себе и проявлять все указанные выше качества личности.
Список литературы Пионерский отряд «Каравелла» как контрпроект человека в условиях постконфликтной ситуации 1970-1980-х годов
- Абакумова И.В., Рядинская Е.Н. Особенности постконфликтного восстановления: отечественный и зарубежный опыт // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2016. № 4 (38). С. 208-214.
- Балакирев А.Н. Всесоюзный марш пионерских отрядов «Всегда готов!» и его реализация в Бурятии в 1970-1980-х гг. // Вестник Бурят. гос. ун-та. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2018. № 3. С. 3-10.
- Беневаленская Е.Н. Пионерская организация Алтайского края и формирование советской идентичности в 1945-1955 годах // Исторический курьер. 2022. № 6(26). С. 124-134.
- Боянич П. Война и прекращение насилия: проектирование справедливых институтов // Дискурс-Пи. 2023. Т. 20, № 3. С. 156-167.
- Доможиров В.И. Юнкоровское дело отряда «Каравелла» // Известия Урал. гос. ун-та. Проблемы образования, науки и культуры. 2011. Т. 89, № 2. С. 46-53.
- Кирпичник А.Г., Трухачева Т.В. Организуемая общественная жизнь детей: историческое наследство, состояние, перспективы (часть первая) // Вестник Костром. гос. ун-та. Педагогика. Психология. Социокинетика. 2016. Т. 22, № 2. С. 262-265.
- Крапивин В.П. Двадцать лет - вожатым // Уральский следопыт. 1982а. № 7. С. 29-30.
- Крапивин В.П. Хотим сами! // Пионер. 19826. № 7. С. 25-27.
- Крапивина Л.А. Формирование социальной компетентности подростков в разновозрастных объединениях гуманистической направленности // Образование и наука. 2015. № 5(124). С. 87-104.
- Лебедева С.В. Медиаобразовательные аспекты деятельности отряда «Каравелла» // Медиа. Информация. Коммуникация. 2023. Т. 37, № 3. С. 43-47.
- ЛуньковА.С. Эволюция идеологии пионерского движения в СССР, ГДР и Югославии в контексте постконфликтных проектов человека // Дискурс-Пи. 2023. Т. 20, № 3. С. 138-155.
- Нуркина К.К. Повседневная жизнь детей г. Омска в 1960-1970-х гг. в рамках регламентируемого пространства // Вестник Том. гос. ун-та. 2015. № 396. С. 96-101.
- Bojanic P. In-Statuere. Figures of Institutional Building. Frankfurt am Main: Klostermann, 2022. 392 p.
- Forman S., Patrick S., Salomons D. Recovering from Conflict: Strategy for an International Response. New York: New York University, Center on International Cooperation, 2000. 67 p.