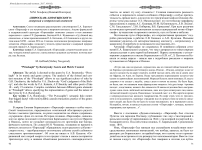"Пироскаф" Боратынского: жанровый и метрический контекст
Автор: Гельфонд Мария Марковна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (43), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению стихотворения Е.А. Боратынского «Пироскаф» в его метрическом и жанровом контексте. Анализ формальной и содержа-тельной структуры «Пироскафа» позволяет увидеть в нем значимые переклички с ода-ми Г.Р. Державина, балладой В.А. Жуковского «Суд Божий над епископом», а также произведениями П.А. Катенина, А.П. Беницкого и других поэтов конца XVIII - начала XIX вв. Сложное соотношение разнородных жанровых элементов «Пироскафа» позволяет уточнить представление о жанровой природе поздней лирики Е.А. Боратынского.
Е.а. боратынский, "пироскаф", семантический ореол метра, четырехстопный дактиль с односложным цезурным усечением, поэтика жанра, ода, баллада
Короткий адрес: https://sciup.org/14914671
IDR: 14914671
Текст научной статьи "Пироскаф" Боратынского: жанровый и метрический контекст
В лирике Евгения Боратынского «Пироскаф» занимает особое место. Своей тональностью, парадоксально сочетающей обостренную радость бытия с высоким трагизмом, он резко выделяется на общем сдержанно-«сумрачном» фоне его поэзии. История создания «Пироскафа», написанного во время последнего путешествия Боратынского на пути из Марселя в Неаполь, почти не оставляет возможности его прочтения вне биографического контекста. По словам Ю.Н. Чумакова, «плавание из времени в вечность вносится в “Пироскаф” обращенным ходом реального события -смерти поэта, - преобразующего поэтическое событие силой глубинного смыслового противотечения»1. Об этом же пишет и А.В. Кулагин: «Отраженный свет скорой смерти поэта придает стихам в нашем восприятии трагическую ноту, и никакая объективная реальность «жизнерадостного текста» не может эту ноту отменить»2. Сложная взаимосвязь реального события и лирического сюжета сообщила «Пироскафу» особую притягательность, прежде всего, для поэтов: его трагические мифологические обертоны чутко расслышал О.Э. Мандельштам3; его поэтические парафразы представлены в лирике А.С. Кушнера, Ю.М. Кублановского, Л.В. Лосева4, С.М. Гандлевского5, Т.Ю. Кибирова, В.Б. Кривулина6. При всем различии поэтических прочтений неизменным остается центральный мотив «Пироскафа»: путешествие из времени в вечность, путь из бытия в небытие.
Поэтические пути «Пироскафа», его «перспективная проекция»7 подробно рассмотрены в работах Е.В. Капинос и А.В. Кулагина. Меньшее внимание уделялось его непосредственному контексту - метрическому и жанровому. Попробуем по возможности восстановить его.
Автограф «Пироскафа» не сохранился. В новейшем собрании сочинений Е.А. Боратынского указано, что текст датируется по эпистолярным свидетельствам и дате первой публикации8. Первое упоминание о стихотворении содержится в письме Боратынского к Н.В. и С .Л. Путятам из Неаполя от конца апреля - начала мая с подробным рассказом о морском путешествии из Марселя в Италию.
«В три дня, как на крыльях, перенеслись мы из сложной общественной жизни Европы в роскошно-вегетативную жизнь Италии - Италии, которую за все ее заслуги должно бы на карте означить особой частью света, ибо она в самом деле ни Африка, ни Азия, ни Европа. Наше трехдневное мореплавание остается мне одним из приятнейших воспоминаний. Морская болезнь меня миновала. В досуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днем и ночью на волны. Не было бури, но была, как это называли наши французские матросы: tres gros temps <крепкая погода>, следственно, живость без опасности. В нашем отделении было нестраждущих один очень любезный англичанин, двое или трое незначущих лиц, неаполитанский maestro музыки, Николинька <младший сын> и я. Мы коротали время с непринужденностью военного товарищества. На море страх чего-то грозного, хотя и не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не было не только московского, но и парижского света. На корабле, ночью, я написал несколько стихов <«Пироскаф»>, которые, немного переправив, вам пришлю.. ,»9.
Вместе с посланием «Дядьке-итальянцу» «Пироскаф» был отослан Путятам для передачи Плетневу; публикация этих двух стихотворений в июльском номере «Современника» на 1844 г. стала первой посмертной публикацией поэта. Под ней стояла подпись: Е. Баратынский. Средиземное море. 1844.
Итак, «Пироскаф» был написан под сильнейшим воздействием непосредственных жизненных впечатлений, что вообще, кажется, не было характерно для Боратынского: по крайней мере, ни к одному из его произведений мы не встречаем столь развернутого автокомментария. Вместе с тем из письма следует, что «Пироскаф» был завершен и отослан для публи-

кации не сразу, т.е. спонтанность жизненного впечатления соединилась в нем с «тщательностью отделки»10.
Живые впечатления Боратынского - впервые предпринятое морское путешествие, предчувствие встречи с Италией, неожиданно образовавшееся братство легко переносящих морской путь товарищей - описаны уже в письме. В подтексте - безусловно, понятном Н.В. Путяте - остается их соединение с давними ожиданиями Боратынского: о морской службе он мечтал в ранней юности; Италия, известная ему по рассказам «дядьки» Giacinto Borghese, представлялась «земным Элизием»11, а «военное товарищество» напомнило, вероятно, о годах службы. Письмо Е.А. Боратынского очевидно перекликается с письмом Н.В. Путяты, написанным пятнадцатью годами раньше:
«Помнишь ли, любезный друг, те суровые, вековые границы, где провел ты многие годы молодости, где в первый раз мы встретились с тобою? - И как тебе забыть их! Впечатления, произведенные ими, мысли и чувства, волновавшие твою душу, сохранились в твоих звучных песнях и для тебя и для других; с ними сроднились и мои бесплодные воспоминания. Помнишь ли, как часто, средь сих мрачных картин угрюмой природы, пламенное воображение твое увлекалось в страны благословенного, роскошного Юга? Подобно первобытным сынам сих грозных скал, вслед за их могучими тенями, наши помыслы и желания стремились к той же цели, к тем же местам»12.
Резкий контраст прежних и новых жизненных впечатлений, поразительное совпадение мечты и реальности определили «верхний слой» тональности «Пироскафа»: напряженно-радостное приятие бытия. Это ощущение складывается как бы над смыслом «Пироскафа»: оно неотменимо присутствует уже в самом звучании текста.
Л.К. Чуковская в своих воспоминаниях описывает, как Корней Иванович Чуковский читал детям - ей и ее старшему брату Николаю - «Пироскаф»:
«Сколько тут непонятных слов и названий! Фетида, емлет, Элизий, Ливурна! А он не объяснял ничего, ровнехонько ни единого слова, только торжественно возглашал: “Баратынский”. И мы вместе с ним отдавались энергии ритма, наверное, не менее мощной в этих стихах, чем энергия ветра.
“Парус надулся. Берег исчез”.
Думаю, если бы кто-нибудь из нас - я, шестилетняя, или Коля, девятилетний, сами попробовали бы прочесть эти стихи, мы споткнулись бы на первой Фетиде и отложили в сторону книгу. Но читал нам он. И в его чтении, хотя он и не объяснял ничего, мы понимали не только красоту великого произведения искусства, красоту звуков, ритмических ходов, но и общий смысл, то, что можно условно назвать содержанием. Не смысл отдельных слов или строк, а то, что содержится в причудливом сплетении их, в строках и в строфах, в которые они сплавлены силою ритма.
Ритм - лучший толкователь содержания. И этот толкователь, отчетливо выведенный наружу голосом чтеца, растолковывал нам, что речь тут идет о воле человека, радостно пересекающего океан, о счастливой победоносной воле, противоборствующей бурным волнам, о том, что человек этот скоро увидит нечто еще более прекрасное, что зовется дивным и непостижимым именем: Элизий.
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной»13.
С «верхним слоем» сложно организованного смысла связана, прежде всего, метрика и строфика «Пироскафа». Он состоит из шестистиший, написанных четырехстопным дактилем с рифмовкой aabccb. Впоследствии - у А. Кушнера, С. Гандлевского, Л. Лосева, с некоторыми вариациями у Ю. Кублановского - такая строфа станет маркером «Пироскафа» и связанной с ним топики. У строфики «Пироскафа», кажется, нет непосредственных предшественников, но четырехстопный дактиль к моменту обращения к нему Боратынского уже обладал вполне отчетливым семантическим ореолом. Его подробно рассматривает в своей работе М.В. Акимова14 («Пироскаф» в ней не упоминается, поскольку выходит за хронологические границы исследования). По словам исследовательницы, «история метра началась в 1788 году с послания Карамзина “К Д(митриеву)” и с “Оды Российским солдатам на взятие крепости Очакова сего 1788 года декабря 6 дня, сочиненная от лица некоего древнего российского Пииты” Николева. Эти произведения задали два основных идеологических вектора в разработке метра. Они определены уже в послании Карамзина: это военная тематика и высокие жанры»15.
Военная тематика оды естественным образом акцентировала внимание на борьбе с врагом и его сопротивлении, причем аллегорическое изображение врага предполагало бурю, стихию, природный хаос, повергаемый мощью человека: «Чорная туча, мрачные крыла / с цепи сорвав, весь воздух покрыла, / Вихрь полуночный летит богатырь»16 (Г.Р. Державин, «На взятие Варшавы», 1794). «В целом ряде произведений этого времени, - пишет Б.М. Гаспаров, - вражеское нашествие представлено в мифологическом образе разлившихся вод»17. Речь идет об апокалипсической образности в поэзии 1812 г, но сам ее тип в русской оде сформировался раньше и связан с эпохой суворовских сражений. Воин-богатырь, с одной стороны, сам уподобляется буре, с другой - одерживает победу над ней, причем горизонтали природного и вражеского хаоса противостоит вертикаль как воплощение всесилия человека: «Граду коснется - град упадает; / Башни рукою за облак кидает; / Дрогнет Природа, бледнея пред ним»18.
Семантический ореол четырехстопного дактиля распространяется и на элегии рубежа XVIII-XIX вв., но здесь он также связывается с описаниями «мрачного ненастья, предгрозового затишья и последующей бури»19. В отдельных строках этих элегий можно увидеть не только метрический, но и лексический прообраз будущего «Пироскафа». Так, в начальных строках «Сентября» А.П. Беницкого возникает сходная с «Пироскафом» картина
дикой и грозной стихии:
Воздух колеблют бури ревущи, Небо покрылось вмиг темнотой, Быстро несутся влажные тучи, Дождь на долины льется волной. Все возвещает осень печальну: Хмурясь, нисходит мрачный Сентябрь20.
Связь метра с образом бури, ветра, «небесных хлябей», чувствами страха, ужаса и уныния оказывается весьма устойчивой21. Вместе с тем, вероятно, именно под влиянием элегии складывается еще один значимый контекст - балладный. Промежуточным здесь, скорее всего, оказывается «Кладбище» Н.М. Карамзина, двуголосие которого строится на контрасте инфернальных и идиллических представлений о смерти. Первый голос закрепляет представление о том облике смерти, который характерен для мира баллады:
Страшно в могиле, хладной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся, Белые кости стучат22.
Позже этот контекст отзовется в дактилических строфах баллады П.А. Катенина «Леший» («Молния в небе ярко сверкает; / Издали глухо слышится гром; / В тучах отсвюду дождь набегает; / Бор весь от вихря воет кругом»23) и в балладе В.А. Жуковского «Суд божий над епископом» (1831):
Были и лето, и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод; народ умирал24.
Отметим, что в балладе Жуковского возникает не только характерный для элегии и баллады мотив осеннего уныния, но и мотив водного странствия с тем же отчетливым противопоставлением горизонтали и вертикали (епископ Гатон, пытаясь избежать кары, плывет к замку на Рейне):
Башня из реннских вод подымалась;
Издали острым утесом казалась, Грозно из пены торчащим, она; Стены кругом ограждала волна25.
Ранее связь четырехстопного дактиля и мотива морской бури возникала в «Грусти на корабле» (1814) П.А. Катенина:

Ветр нам противен, и якорь тяжелый Ко дну морскому корабль приковал. Грустно мне, грустно, тоскую день целый; Знать, невеселый денек мне настал26.
Еще более близок к «Пироскафу» по времени создания и лирическому сюжету «Челнок» А.В. Тимофеева, дактилические строфы которого связаны с описанием шторма, а затем - корабля, счастливо пристающего к берегу:
Черные тучи, взвившись горами, Рвутся, грохочут, тонут в огне; Бурные волны стелются, скачут; Гром, непогода, буря, гроза.
Море дрожит от криков победных:
«К берегу! Пристань! Пристань! Ура!» Гордый корабль, взмахнув парусами, Режет, бросает, топит валы27.
Опубликованный в 1835 г. «Челнок» мог быть известен Боратынскому, однако, на наш взгляд, более вероятно, что у истоков метрики «Пироскафа» стоял не конкретный текст, а некая совокупность произведений и жанровых контекстов. И здесь необходимо помнить, что у «Пироскафа» в лирике Боратынского есть непосредственный метрический предшественник - фрагмент «Небо Италии, небо Торквата...», единственное, за исключением «Пироскафа», произведение поэта, написанное четырехстопным дактилем. Точными данными о времени его создания мы не располагаем. По свидетельству сына поэта Льва, «однажды еще в Москве он воскликнул экспромтом:
Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима, Родина неги, славой богата, Будешь ли некогда мною ты зрима? Рвется душа, нетерпеньем объята, К гордым остаткам падшего Рима! Снятся мне долы, леса благовонны, Снятся упавших чертогов колонны!»28
Таким образом, метр «Пироскафа» связывался в сознании Боратынского как с общими жанровыми и смысловыми ориентирами, так и с его собственной мечтой об Италии. Можно предположить здесь еще один ассоциативный шаг: итальянский поход Суворова непосредственно отразился в судьбе «дядьки Боратынского», Giacinto Borghese, и затем - в последнем
стихотворении поэта:
Что на твоем веку, то ль благо, то ли зло, Возникло при тебе - в преданье перешло: В альпийских молниях, приемлемый опалой, Свой ратоборный дух, на битвы не усталой, В картечи эпиграмм Суворов испустил. Злодей твой на скале пустынной опочил29.
Воспоминание о суворовских походах, в свою очередь, не могло не вызвать поэтических ассоциаций с державинским «Снигирем». За тождеством метра «Пироскафа» и «Снигиря» встает общий мотив противоборства человека року. Образ капитана в первой строфе «Пироскафа» как бы симметричен образу Суворова в «Снигире»:
Дикою, грозною ласкою полны, Бьют в наш корабль средиземные волны. Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром, Ветру наш парус раздался недаром: Пенясь, глубоко вздохнул океан!30 («Пироскаф»)
Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат31.
(«Снигирь»)
Семантический ореол, связанный, с одной стороны, с описанием зловещего природного хаоса, с другой - с памятью военного торжества, идеально соединил две противоположные интенции: метрический рисунок «Пироскафа» напоминает о шуме морских волн, и вместе с тем - о преодолении хаоса мощью человеческого разума. Неслучайно после «Пироскафа» его метрический рисунок закрепился за морской семантикой в «Фантасмагории» Каролины Павловой и тютчевском «Как хорошо ты, о море ночное....», а позже - в стихах В. Соловьева, В. Брюсова, Б. Садовского.
Обратимся к строфической и композиционной организации «Пироскафа». Он состоит из шести шестистрочных строф - те. тридцати шести стихов, метрика каждого из которых, в свою очередь, тоже предполагает кратность по отношению к шести. Строгая пропорциональность частей в составе целого напоминает о гармонических пропорциях «золотого сечения» или улицы зодчего Росси. Симметрия поддерживается и компози- ционно: три первые строфы «Пироскафа» представляют собой высказывание от «мы»: «бьют в наш корабль средиземные волны», «ветру наш парус раздался недаром», «наедине мы с морскими волнами»; последние три - высказывание от первого лица единственного числа: «Много земель я оставил за мною; / Вынес я много смятенной душою». Категория симметрии распространяется и на поэтическое время: в первых трех строфах речь идет о некоем общем времени, отсчет которого начался с отплытия пироскафа: «Вот над кормою стал Капитан. / Визгнул свисток его....»; «Парус надулся. Берег исчез»; в трех последующих - охватывает собой личное время героя, распространяющееся как в прошлое («С детства влекла меня сердца тревога / В область свободную влажного бога...»), так и в будущее («Завтра увижу я башни Ливурны, / Завтра увижу Элизий земной»), Кратность, соразмерность, симметрия строфической организации текста словно бы уравновешивают собой впечатление борьбы с хаосом, диссонанса, сопротивления, которые присущи метрическому строю «Пироскафа».
«Пироскаф» строится на множественных внутренних контрастах. В их числе - резкое и неожиданное соединение различных жанровых установок. По точному замечанию Л.Я. Гинзбург, поздний Боратынский - это «поэт индивидуальных контекстов и совмещенных противоречий»32; диапазон его лирики 1830^0-х гг. отнюдь не вмещается в элегические рамки, поскольку поэт словно бы выходит в те сферы бытия, которые каноническая жанровая система (к тому времени уже распадавшаяся) была не в силах вместить. В «Пироскафе» можно увидеть соединение различных канонических и неканонических жанров: оды, поэтического травелога, военной и заздравной песен, а в контексте судьбы поэта и автоэпитафии. Рассмотрим их подробнее.
Одический контекст «Пироскафа» отчетливо просматривается на уровне стилистики и эмблематики. За славянизмами как признаками одического словаря33 («брег», «набрежное», «длани», «днесь», «здравие», «благой») и сложным синтаксисом прослеживается трансформированный, измененный, но вполне узнаваемый мотив «последней битвы». Образ моря («волнистое лоно пучины») сохраняет память об эсхатологическом разливе вод и апокалиптической битве с ними; упоминаемые в «Пироскафе» Фетида и «влажный бог» (Посейдон) - в архаической мифологии принадлежат к хтоническим силам, чье поведение опасно и непредсказуемо. По наблюдению Е.Н. Лебедева, и «само слово Элизий звучит достаточно зловеще и, судя по всему, еще помнит свое изначальное, мифологическое значение (царство мертвых, место успокоения от земных тревог)»34. С непредсказуемостью «жребия» связан и едва намеченный балладный контекст: встреча с существом иного мира может, обернуться катастрофой, хотя надежда героя и разворачивает сюжет по другому пути:
Нужды нет, близко ль, далеко до брега! В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой Емлет она из лазоревой урны: Завтра увижу я башни Ливурны, Завтра увижу Элизий земной!
Вернемся к «одическому восторгу». Его предметом становится здесь, прежде всего, сам пироскаф - воплощение победы человека над хаосом бытия. В свете незадолго до этого изданных «Сумерек» с их декларативным неприятием «железного пути» века такой восторг кажется, на первый взгляд, странным, поскольку в последней книге Боратынского идеализированное прошлое отчетливо противопоставлялось шествующему «железным путем» веку. Как манифест неприятия прогресса понял «Сумерки» и В.Г. Белинский: «Бедный век наш - сколько на него нападок, каким чудовищем считают его! И все это за железные дороги, за пароходы - эти великие победы его, уже не над матернею только, но над пространством и временем!»35. А.С. Кушнер усматривает в «Пироскафе» прямую полемику Боратынского с Белинским: «Эта нотация больно задела Баратынского, так больно, что, по-видимому и стихотворение “Пироскаф”, написанное им в Италии, через два года, на пороге внезапной смерти, было его ответом критику»36.
Думается, ситуация несколько сложнее. Как «Последний поэт» не был только опровержением прогресса37, так и «Пироскаф» стал гимном не именно ему, а единству природы и техники, культуры и цивилизации, чудесным образом соединившимся в пироскафе. «Полупарусный, полупаровой кентавр», по образному определению ГМ. Кружкова, был незадолго до путешествия Боратынского внедрен лишь на относительно небольших морских перегонах (в России первый пироскаф начал действовать на маршруте Петербург - Кронштадт):
Мчимся. Колеса могучей машины Роют волнистое лоно пучины. Парус надулся. Берег исчез.
И в этом смысле название «пароход», появившееся в тургеневской публикации стихотворения Боратынского38, было глубоко неточным. Неслучайно греческое слово «пироскаф», бывшее изначально именем собственным, закрепилось как нарицательное во французском языке - а в русской поэтической традиции впоследствии неразрывно соединилось с тем судном, на котором некогда совершил свое морское путешествие Боратынский.
В центре поэтического мира «Пироскафа» - не идиллическая гармония человека и природы, но и не противостояние ей. Это борьба с хаосом бытия, в которой одерживается победа, это восторг, испытываемый в равной мере от победы и трудности ее достижения. В сопротивлении моря человеку есть особая притягательность мужества, спора, последнего братания с врагом. Неслучайно в «Пироскафе» возникает рудимент еще одного устойчивого жанра - заздравной песни («Пеною здравия брызжет мне вал!»). Вероятно, именно ее чутко расслышит один из самых точных читателей Боратынского - Мандельштам, когда соединит в «Сумерках свободы» реминисценции из песни Председателя («Пир во время Чумы») и «Пироскафа»:
Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год!
В ком сердце есть — тот должен слышать, время, Как твой корабль ко дну идет.
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля39.
Именно на этом фоне напряженно-радостного, смертельно опасного сопротивления и разворачивается судьба героя. При преимущественной обращенности Боратынского к прошлому, связанной как раз с жанром элегии, в «Пироскафе» возникают отношения со временем иного типа. Прошлое оказывается завершенным, итоги его подведены; совершенный вид глаголов отделяет этот рубеж, начиная отсчет нового времени с момента отплытия пироскафа:
Много земель я оставил за мною
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов, Прежде чем руки марсельских матросов Подняли якорь, надежды символ!
Признаки элегических размышлений о собственной судьбе здесь тоже есть - но именно они решительно оставлены в прошлом. «Пироскаф» как целое устремлен в будущее - нелинейное, незаданное, непредсказуемое. Так в предпоследнем стихотворении Боратынского на стыке разных жанровых контекстов формируется новая, высшая открытость бытию - готовность принять будущее каким бы оно ни было.
Список литературы "Пироскаф" Боратынского: жанровый и метрический контекст
- Чумаков Ю.Н. Сюжетная полифония «Моцарта и Сальери»//Чумаков Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 297.
- Кулагин А.В. Поэтические маршруты «Пироскафа»//Кулагин А.В. Пушкин. Источники. Традиции. Поэтика. Коломна, 2015. С. 220.
- Капинос Е.В. «Пироскаф» Баратынского как интертекст Мандельштама//Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Вып. 2. Новосибирск, 1998. С. 196-207.
- Скворцов А.Э. Самосуд неожиданной зрелости. Творчество Сергея Гандлевского в контексте русской поэтической традиции. М., 2013. С.73.
- Гельфонд М.М. «Я читал Боратынского…»: Виктор Кривулин//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 1 (2). С. 51-55.
- Меднис Н.Е. Еще раз о «рыцаре бедном»//Пушкин в XXI веке: вопросы поэтики, онтологии, историцизма: сборник статей к 80-летию профессора Ю.Н. Чумакова. Новосибирск, 2003. С. 139.
- Цивьян Т.В. Образ Италии в последнем стихотворении Боратынского//Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб., 2001. С. 29-39.
- Чуковская Л.К. Памяти детства. Мой отец -Корней Чуковский. М., 2007. С. 25-26.
- Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина. СПб., 1999. С. 89.
- Поэты-радищевцы. Л., 1979, С. 413. (Библиотека поэта, Большая серия).
- Акимова М.В. Семантика 4-стопного дактиля с односложным цезурным усечением в русской поэзии XVIII -начала XIX вв.//Славянский стих. Вып. VII. Лингвистика и структура стиха/под ред. М.Л. Гаспарова, Т.В. Скулачевой. М., 2004. С. 310-311.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. С. 80.
- Винокур Г.О. Наследство XVIII века в поэтическом языке Пушкина//Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 381-385.
- Лебедев Е.Н. Тризна. Книга о Е.А. Боратынском. М., 1985. С. 278.
- Кушнер А.С. По эту сторону таинственной черты. Стихотворения. Статьи о поэзии. СПб., 2011. С. 252.
- Корман Б.О. Субъектная структура стихотворения Баратынского «Последний поэт» (к вопросу о соотношении лирики Баратынского и Пушкина)//Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Т. 483. Пушкинский сборник. Псков, 1972. С. 115-130.