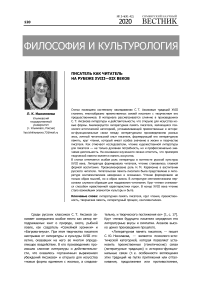Писатель как читатель на рубеже XVIII-XIX веков
Автор: Ишкиняева Лилия Камилевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3-4 (41-42), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена системному наследованию С. Т. Аксаковым традиций XVIII столетия, многообразию преемственных связей писателя с творчеством его предшественников. В материале рассматривается слияние в произведениях С. Т. Аксакова литературы и действительности, что открыло для искусства новые формы. Анализируется литературная память писателя, являющаяся психолого-эстетической категорией, устанавливающей преемственные и историко-функциональные связи между литературными произведениями разных эпох, личный читательский опыт писателя, формирующий его литературную память, круг чтения, который имеет особое значение в жизни и творчестве писателя. Как отмечают исследователи, чтение художественной литературы для писателя - не только духовная потребность, но и профессионально значимая деятельность. На основании изученного можно отметить, что примером творческой памяти является память искусства. В статье отмечается особая роль литературы в контексте русской культуры XVIII века. Литература формировала читателя, чтение становилось главной формой воспитания. Проанализирована роль Н. М. Карамзина в воспитании русского читателя. Читательская память писателя была представлена в литературе сентиментализма намеренно и осознанно. Чтение формировало не только образ мыслей, но и образ жизни. В литературе сентиментализма персонажи служили образцом для подражания читателям. Круг чтения становился способом нравственной характеристики героя. В конце XVIII века чтение стало важнейшим элементом культуры и быта.
Литературная память писателя, круг чтения, преемственность, творческая память, литературный процесс, сентиментализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14117520
IDR: 14117520
Текст научной статьи Писатель как читатель на рубеже XVIII-XIX веков
Среди русских классиков С. Т. Аксаков занимает совершенно особое место как автор неподражаемых книг о природе, охоте, рыбной ловле, как создатель «Семейной хроники» и «Багрова-внука». При этом творчество писателя неотрывно от литературы и культуры XVIII столетия, оказавших на него во многом определяющее воздействие. В его произведениях произошло слияние литературы и действительности, что оказалось «органичным выражением убеждений Аксакова» и открыло для искусства «новые формы единения с жизнью, а следова- тельно, и творческого постижения ее» [1, с. 17]. Круг чтения будущего писателя определил его литературные вкусы и симпатии. Аксаков высоко ценил произведения прошлого.
«Литературная память писателя, — пишет С. Ю. Николаева, — является психолого-эстетической категорией, которая позволяет установить преемственные (генетические) связи (литературные традиции) и историко-функциональные связи (т. е. особенности воплощения этих традиций на путях притяжения или отталкивания, продолжения или противостояния, развития или преодоления) между литературными произведениями разных эпох. Через посредство литературной памяти осуществляется творческий диалог одного писателя с другим» [6, с. 55].
Личный читательский опыт автора формирует его литературную память. Сам процесс чтения у писателя имеет творческий характер и воздействует на его эстетическое самоопределение, способствует совершенствованию его художественного мастерства. «Литературная память писателя является творческим стимулом и способствует осмыслению художником общих закономерностей историко-литературного процесса и меры собственной самостоятельности и новаторства» [6, с. 56].
Очевидно, что одним из важнейших источников в плане изучения литературной памяти писателя является его библиотека как таковая или же сохранившиеся сведения о ней, свидетельства самого автора или его окружения. «Круг чтения писателя восстанавливается также путем изучения “литературного слоя” в текстах его произведений, с помощью материалов мемуарного и эпистолярного наследия» [6, с. 56].
Литературная память писателя может по-разному проявляться в его произведениях: в цитатах и реминисценциях, в мотивной структуре, в сюжетно-композиционном строении, в типологии героев, в «памяти жанра», выборе жанровой традиции.
Можно назвать факторы, определяющие интенсивность и поэтику литературного слоя в художественном произведении. Как отмечает С. Ю. Николаева, это: 1) масштаб и особенности дарования художника; 2) этап творческой эволюции автора; 3) субъективные намерения писателя, сущность его замысла, его желание «полемизировать, уточнять или поддерживать своего литературного предшественника» [6, с. 56]; 4) характер переживаемой автором эпохи.
«Преемник воспитывается не только итогами мысли предков, извлекаемыми из общения с людьми (мыслями, как говорится, носящимися в воздухе, никому в частности не принадлежащими), но и произведениями прежних веков, слагаемыми этих итогов, взятыми порознь, произведениями современников и предшественников в их особенности. Чем богаче прошедшее литературы и обширнее пользование им, тем при равенстве прочего разнообразнее могут быть новые произведения» [8, с. 399].
По мысли Ю. М. Лотмана, примером творческой памяти является память искусства. Па- мять порождает новые тексты, она представляет собой часть «текстообразующего механизма» культуры, и «здесь активной оказывается потенциально вся толща текстов» [4, с. 200—202].
Отмеченная проблема по-разному предстает в различные историко-культурные эпохи. Так, Ю. М. Лотман говорит об особой роли литературы в контексте русской культуры XVIII века, о неуклонном росте количества изданий, тиражей и читателей. Установка, что литература формирует читателя, приводила к тому, что созданные в произведениях классицизма и сентиментализма характеры становились «активной моделью читательского поведения» [5, с. 141]. Не в меньшей мере литература века Просвещения формировала общественное мнение о характере и функции писателя, о его независимости от земных владетелей и ответственности за свои творения. Чтение становилось главной формой воспитания. Большую роль в воспитании русского читателя сыграл Н. М. Карамзин. Он «видел главное средство просвещения читателя в искусстве, а не в морализировании. Читатель начинает с примитивных романов и движется вперед, развивая свой вкус и возвышаясь душой и умом» [5, с. 144].
Особое значение имеет чтение в жизни и творчестве писателя. «Чтение художественной литературы для писателя не только духовная потребность, но и профессионально значимая деятельность, — пишет Л. Г. Жабицкая. — Писатель должен быть глубоко осведомленным в литературном наследии прошлых эпох и важнейших литературных явлениях его времени. Ясно, что чтение в собственном литературном творчестве писателя имеет важнейшее значение. Проблема состоит в том, чтобы выяснить, какова специфика чтения у литератора, какую роль играет художественное восприятие в формировании его таланта. Этот вопрос изучается литературоведением как проблема истоков творчества писателя и литературных влияний, но как проблема психологии литературного творчества он остается почти неисследованным» [2, с. 17—18].
В этом плане особенно многогранной предстает ситуация русского XVIII века, когда литературный процесс имел ускоренный и «чрезвычайно концентрированный характер. Знакомство с французской литературой XVII столетия: Буало, Расином, Корнелем, Мольером — совпало по времени с проникновением в круг активного чтения Вольтера, Монтескье, Руссо. Пуффен-дорф и Беккариа, Лейбниц и Локк, Бэкон и Сен-Мартен, Шекспир, Аддисон, Мильтон, Фенелон, Прево, Сервантес, Лесаж, Рамсей и Т. Мор, Скаррон и Мариво сплошь и рядом встречаются в Петербурге, в Москве или деревенском кабинете образованного дворянина на одном и том же столе» [5, с. 148].
Лотман Ю. М. указывает, что «не только хронологический, но и культурно-географический охват произведений, устремившихся в головы и души русских читателей и литераторов XVIII века, был предельно широким. Здесь встречались итальянская комическая опера и датская нравоучительная комедия Гольберга, испанец Балтазар Грассиан и Ангел Силезский, швейцарец Галлер и шотландец Барклай. Можно с уверенностью сказать, что ни одно крупное идейно-художественное явление европейского Ренессанса, барокко, классицизма не прошло мимо русской культуры XVIII века. Ни одна из европейских культур той эпохи не знала такой меры открытости и таких контрастных столкновений разноликих культурных традиций. Не следует забывать и о мощном воздействии античной традиции, с одной стороны, и о никогда в реальности не обрывавшейся связи с культурой допетровской Руси, с другой, — чтобы представить себе то силовое поле культурного напряжения, которое создавалось в России XVIII века» [5, с. 148]. Круг зарубежных авторов неуклонно пополнялся благодаря произведениям российских писателей.
Не только переживаемая историко-культурная эпоха, но и другие факторы существенны для формирования читательских вкусов и эстетических принципов будущего автора. «Роль чтения художественной литературы не одинакова в разные периоды творческой биографии писателя. В период становления таланта чтение играет большую роль, так как оно значимо для формирования мироощущения, миропонимания писателя» [2, с. 26].
Читательская память писателя, как отмечает современный исследователь, «это один из наиболее важных стимулов художественного творчества, часто мы обязаны ей многими прекрасными страницами» [9, с. 104—105].
Читательская память писателя намеренно и сознательно была представлена в литературе сентиментализма, которая поставила также проблему читающего героя. В русле этого течения соединились автор, читающий герой и реальный читатель в образе «чувствительного человека». Подобное явление специфично для сентиментализма и связано с распространением читательского интереса в эту эпоху. «Чтение — важнейшее занятие “чувствительного человека”. <…> “Читающий герой” оставался наиболее характерной фигурой в русской литературе конца XVIII — начала XIX в.» [3, с. 123, 140].
«В письмах, дневниках, мемуарах, — отмечает Н. Д. Кочеткова, — все более значительное место стали занимать сообщения о прочитанных книгах, вызванные ими размышления» [3, с. 122].
Писатели-сентименталисты изображали чтение как важнейшее занятие «чувствительного человека». Герои их произведений любят читать и много времени проводят за книгой. Н. Д. Кочеткова отмечает, что по текстам литературных произведений рубежа XVIII—XIX веков можно воспроизвести примерный круг чтения героев.
В литературе сентиментализма персонажи служили образцом для подражания многочисленным читателям, и сам автор, как правило, оказывался на стороне тех героев, которые поступали «по-письменному», т. е. следовали «тем нравственным идеалам, которые герой почерпнул из прочитанных книг» [3, с. 136]. В повести Карамзина «Рыцарь нашего времени» эта тема нашла художественное воплощение. Чтение формировало не только образ мыслей и чувств, но и образ жизни, влекло к уединению, к общению с природой. Использовался и мотив совместного чтения как свидетельство духовного родства персонажей. Круг чтения становился способом нравственной характеристики героя, порой книга могла сыграть судьбоносную роль в его судьбе.
В конце XVIII века и для русского общества, и для российского писателя чтение стало важнейшим элементом культуры и быта, средством приобщения к европейской литературной и культурной традиции.
Аксаков С. Т. оставил в своих произведениях многочисленные указания на то, что читалось им в детстве и юности (конец XVIII — начало XIX века), как воспринималось прочитан- ное, как менялось отношение к тем или иным авторам, произведениям, художественным манерам.
Книга, чтение, писатель стали сквозными мотивами и образами его творчества. Это дает возможность проследить преемственные связи писателя с предшествующей ему литературой, установить наследуемые им традиции и выявить особенности их творческого преломления.
Список литературы Писатель как читатель на рубеже XVIII-XIX веков
- Анненкова Е.И. Творческий путь Сергея Тимофеевича Аксакова / Е.И. Анненкова // Аксаков С.Т. Собр. соч.:в 3 т. / С.Т. Аксаков. -М.: Худож. лит., 1986.
- Жабицкая Л.Г. Чтение служит таланту. О специфике восприятия художественной литературы писателем / Л.Г. Жабицкая // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы: сборник научных трудов. -Калинин: Калининский гос. ун-т, 1984.
- Кочеткова Н.Д. Герой русского сентиментализма. 1. Чтение в жизни "чувствительного" героя / Н.Д. Кочеткова // XVIII век. Сб. 14. Русская литература XVIII -начала XIX века в общественно-культурном контексте. -Л.: Наука, 1983.
- Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1 / Ю.М. Лотман. -Таллинн: Александра, 1992.
- Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи исследования (1958-1993). История русской прозы. Теория литературы / Ю.М. Лотман. -СПб.: Искусство-СПб, 1997.
- Николаева С.Ю. Чтение и творческий процесс / С.Ю. Николаева // Художественное восприятие. Основные термины и понятия: словарь-справочник / ред.-сост. М. В. Строганов. -Тверь: Изд-во Тверского ун-та, 1991.
- О науке (Пантеон иностранной словесности. Ч. 2) // Переводы Карамзина. Т. 8. -4-е изд. -СПб.: А. Смирдин, 1835.
- Потебня А.А. Из записокпо теории словесности / А.А. Потебня // Эстетика и поэтика. -М.: Искусство, 1976.
- Строганова Е.Н. Читательская память Л. Толстого как стимул художественного творчества / Е.Н. Строганова // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы: сборник научных трудов.-Калинин: Калининский гос. ун-т, 1984.