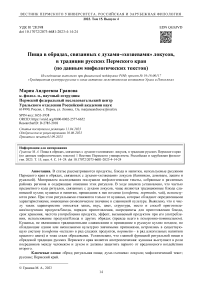Пища в обрядах, связанных с духами-«хозяевами» локусов, в традиции русских Пермского края (по данным мифологических текстов)
Автор: Гранова М.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются продукты, блюда и напитки, используемые русскими Пермского края в обрядах, связанных с духами-«хозяевами» локусов (банником, домовым, лешим и русалкой). Материалом исследования послужили мифологические тексты, собранные в различных районах региона и содержащие описания этих ритуалов. В ходе анализа установлено, что частью предметного кода ритуалов, связанных с духами локусов, чаще являются традиционные блюда славянской кухни; кушанья и напитки, пришедшие в нее позднее (конфеты, портвейн, чай), используются реже. При этом ритуальными становятся только те кушанья, которые обладают определенными характеристиками, имеющими символическое значение в славянской культуре. Выявлено, что к числу таких характеристик относятся запах, вкус, цвет, структура, место и способ приготовления/получения продукта/блюда, порядок приготовления, ингредиенты для приготовления блюда, срок хранения, частота употребления продукта, эффект, вызываемый продуктом при его употреблении, использование продукта/блюда в других обрядах (прежде всего в похоронно-поминальном). Кушанья, не являвшиеся традиционными славянскими и пришедшие в русскую кухню позднее, но обладающие одним или несколькими культурно значимыми признаками, встроились в существующую систему (конфеты «встали» в ряд сладких продуктов, портвейн - в ряд алкогольных напитков красного цвета) и тоже стали обрядовыми. Установлено, что главной функцией ритуальной пищи в обрядовой традиции русских Пермского края является апотропеическая: кушанья выступают в роли посредников между человеком и духом и должны защитить первого от вредоносного воздействия второго.
Обряд, ритуальная пища, духи-«хозяева» локусов, мифологический текст, русские, пермский край
Короткий адрес: https://sciup.org/147242751
IDR: 147242751 | УДК: 81’28:398 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-4-14-24
Текст научной статьи Пища в обрядах, связанных с духами-«хозяевами» локусов, в традиции русских Пермского края (по данным мифологических текстов)
Настоящая работа продолжает серию исследований (см. [Гранова 2022; Гранова 2023]), посвященных рассмотрению обрядов, связанных с духами-«хозяевами» локусов, у русских Пермского края по данным мифологических текстов. Актуальность подобных исследований обусловлена тем, что многие древние ритуалы в изначальном или трансформированном виде продолжают существовать в среде современных носителей традиции, прежде всего жителей сельской местности, и транслируют сохранившиеся в их сознании мифологические представления, связанные с указанными персонажами.
В данной статье будут рассмотрены продукты, блюда и напитки, используемые русскими региона в указанных обрядах. Это представляет интерес, поскольку, как отмечает Е. В. Капелюш-ник, «традиционная пища, способы ее приготовления, поведенческие и социальные аспекты питания, формирующиеся на протяжении длительного времени, относятся к числу стойких культурно-бытовых традиций и представляют собой ценнейший источник знаний о мифологических <...> представлениях нации» [Капелюшник 2012: 9]. Причем наиболее ярко эти представления транслируются именно через обрядовую пищу, так как «символическая роль того или иного элемента ПТ [пищевой традиции – М. Г. ] реализуется прежде всего в обрядовой деятельности» [Устинова 2010: 28]: любой продукт питания, становясь элементом предметного кода обряда, теряет свои практические функции, направленные на удовлетворение витальных потребностей человека, начинает осознаваться как символ (см. об этом, например, в: [Байбурин 1981: 215–216]) и получает «вторичные знаковые функции жертвоприношения, дара, оберега, лекарства, <...> может <...> символически замещать человека в различных религиозных и магических действиях» [Устинова 2011: 13]. Поэтому изучение ритуальных блюд до настоящего времени вызывает интерес у ученых, занимающихся реконструкцией и исследованием славянской традиционной духовной культуры и мифологических представлений как ее элемента.
Так, семантика многих продуктов и блюд, имеющих символическую значимость в духовной культуре славян и использующихся в различных обрядах, описана в словаре «Славянские древности» [СД], а также в сборнике [Коды повседневности... 2011]. К числу фундаментальных работ также отнесем монографию А. К. Бай-бурина [Байбурин 1993], где ритуальная еда рассмотрена в общей структуре обряда как акта славянской культуры. Изучалась и пища, используемая славянами при обрядовых контактах с духами «локусов» (см. работы А. К. Байбурина
[Байбурин 1983], Н. А. Криничной [Криничная 2004], Е. Е. Левкиевской [Левкиевская 2002; Левкиевская 2007], Л. Н. Виноградовой [Виноградова 2000]).
На материале традиции русских Пермского края ритуальные кушанья рассматривались как элементы свадебного (см. [ЭССТСП]), похоронного (см. [СМЛФСРГП; Королёва 2014]), календарных (см. [Черных 2006; Черных 2007]) и окказиональных обрядов ([Подюков, Черных 1998; ЭСМРПК]). Имеются исследования, посвященные роли отдельных блюд в обрядности русских Пермского края (см., например, статью А. В. Черных о чае [Черных 2019]).
Специального изучения семантики блюд и напитков, используемых в обрядах, связанных с духами-«хозяевами» локусов, на материале традиции русских Пермского края не проводилось. Это является целью настоящей статьи. Отметим, что мы будем рассматривать ритуалы, связанные лишь с четырьмя персонажами – банником, домовым, лешим и русалкой. Материалом для нашей работы послужили отобранные из фольклорного и диалектологического архивов ПГНИУ, фольклорно-этнографических сборников и словарных статей диалектных словарей Пермского края (см. список источников) русские мифологические тексты, содержащие описания этих ритуалов.
Анализ материала позволяет определить набор продуктов и блюд, используемых жителями края при ритуальном взаимодействии с духами локусов, и разделить эти блюда на несколько групп. Рассмотрим каждую из них подробнее.
1. Хлеб и хлебобулочные изделия
Согласно пермским мифологическим текстам, наиболее часто в изучаемых обрядах используются хлеб и различные хлебобулочные изделия, а также тесто : Первым заходит в дом мужчина соседский. <...> Ещё спрашиват: <...> «Что несёшь?» – « Хлеб несу». Дети <...> несут кадушку , хлеб несут <...>. « Кого ведёшь?» – « <...> С уседушку веду» (Лызиб Сол.) (ЗС: 171); Домовой у меня тоже корову гонял. <...> Я <...> Хлеб горячий , только из печки вынула, горячий пар-то вынесла, положила на столбик (Живые Кудым.) (Русские: 236); Если дела не пойдут, значит, домовой не любит. Мать моя, прежде блины делает, первый смажет чем-то и <...> кладет <...> на чердак (Б. Кусты Куед.) (КБ: 33); У нас телёнок однажды потерялся. <...> Потом сказали: «Напеки, – говорит, – блинов , и, значит, когда печёшь, на левую сторону откидывай » (С. Коммунар Сив.) (Материалы); Когда вихор [леший] идет – обязательно кидай хлеба кусок (Караг.) (КС: 91); Телушка у нас убегала, дак я лесному-то <...> х леб носила горячий, теплый
(Игнашино Усол.) (УД: 211); Когда он помог тебе, лесной, надо в лес ему, на пенёк, печёное унести что-то: либо хлеб , либо шаньги-пироги , вот отблагодарить его (Лобанова Юрл.) (Материалы); Мельница-то была, <...> а шишига-то выйдет из реки <...> . Ей пирог или каравай бросят, она тогда колесо отпустит (У.-Иргина Сукс.) (СРГЮП 3: 400).
Как видно из примеров, хлеб используется в описанных обрядах либо для предотвращения возможного или нейтрализации уже наступившего от персонажа вреда, либо в качестве благодарности духу за помощь. Апотропеическая функция хлеба обусловлена его восприятием в славянской культуре как «“дара Божьего”, главного ресурса и символа достатка, благоденствия, здоровья и плодородия ... [,] ... прототипической пищи и символа жизни» [Толстая 2012а: 412], так как хлеб , во-первых, был главным продуктом питания у славян, а во-вторых, готовился из зерен путем печения, следовательно, получал семантику витальности, свойственную зерну (об этом ниже), и очистительную семантику, свойственную домашнему, сакральному огню. Поэтому хлебные изделия становятся символической жертвой духам-«хозяевам», а в обряде переноса домового в новый дом тесто в кадушке – именно как символ благополучия – выступает в роли «транспорта» для духа, который, согласно славянским верованиям, обеспечивает нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие, достаток.
Особо следует сказать об использовании в описываемых обрядах горячего хлеба с паром и блинов . На наш взгляд, оно диктуется поминальной символикой этих блюд. Так, у восточных славян поминальный хлеб «не резали, а ломали горячим..., стараясь, чтобы пар дошел до покойного, поскольку верили, что души умерших питаются паром» [Плотникова 2012: 426]. Блины в славянской культуре также являются поминальной пищей [Гура, Лаврентьева 1995: 193]. Использование поминальных блюд при контактах с духами локусов обусловлено представлениями славян об этих персонажах как о первопредках рода или умерших старших родственниках (см., например: [Левкиевская 1999]).
Отметим, что поминальная символика блинов может дополняться иной. Так, первый блин получает семантику «лучшего», «главного», «счастливого» [Валенцова, Седакова 2004: 674] и, следовательно, ценного, поэтому используется для задабривания духов. Откидывание блинов на левую сторону при их приготовлении является частным случаем действий, выполняемых наоборот, при которых происходит «замена установленной нормы антинормой ..., что реализуется через систему пространственных оппозиций “правый – левый”, “верх – низ”, “внутренний – внешний”, “передний – задний”, “начало – конец” и др. При этом члены оппозиций меняются местами» [Левкиевская 2004: 364]. Таким образом, откидывая блины на левую сторону, человек маркирует их как «чужие», предназначенные для представителей «иного», демонического, «нечеловеческого» мира, а не для себя.
2. Сыпучие продукты
Эта группа объединяет зерно , соль и мак, которые также выступают обрядовыми атрибутами в пермской традиции: Начался вихрь <...> . Отец рассердился и кинул вдогонку нож. Ночью <...> отец наткнулся на дом. <...> В двенадцать ночи <...> в избу вошёл здоровенный мужик. <...> Сел мужик [отец] за стол и увидел свой нож. <...> Мужик [леший] потребовал выкуп – ведро зерна , только после этого удалось уехать (Очёр) (Материалы); Дома суседко, всегда на столе соль , хлебушко , что-то еду надо тожо оставлять (Красновишерск) (там же); Чтоб леший вернул корову, надо оставить на пеньке кусок хлеба с солью (Чугайнов Хутор Юрл.) (Русские: 228); Проснулась <...> , смотрю – женщина ходит по комнате. Маленькая такая, вся в чёрном, и руками так делает впереди себя, как будто кур кормит. <...> [Соседка] дала мне ладан и посоветовала трёхгодовалый мак по углам рассыпать. <...> Дак не стало мне чудиться. Домовой это (Чкалово Березн.) (Материалы); Мне русалка виделась <...> . Я на полати полезла, слышу, <...> заходит сестра мужа <...> : « Мак , никого, видно, дома нету». Я отвечаю: «Я, кумушка, дома». Спустилась с полатей, а никого нету (Пож Юрл.) (Русские: 232 – 233).
Зерно у славян трактуется как «средоточие вегетативной силы, символ плодородия, <...> здоровья...; ...в ряду др. мелких сыпучих предметов выступает символом множественности и богатства» [Усачева 1999: 324], поэтому зерно , как и хлеб , наделяется продуцирующей и защитной семантикой и выступает в качестве жертвы мифологическим персонажам.
Соль имеет резкий вкус и белый цвет, при рассыпании она способна создавать дискретную преграду для носителя опасности (см., например: [Левкиевская 2002: 87]), поэтому наделяется в славянской культуре прежде всего апотропеиче-ской отгонной семантикой. Однако в пермских текстах отражается иная ее символика – символика множественности, богатства, присущая и другим сыпучим продуктам. Как видно из примеров, в анализируемых обрядах соль используется вместе с хлебом. Такой предметный комплекс в целом символизирует основную пищу человека, угощение, а следовательно, гостеприимство, благополучие и достаток [Березович, Пьянкова 2012: 434]. В анализируемых ритуалах этот комплекс призван показать демону дружеское расположение человека и тем самым предупредить или нейтрализовать вредоносное воздействие персонажа.
Мак , как и соль , может образовывать преграду между носителем опасности (демоном) и человеком, не допуская контакта между ними [Левки-евская 2002: 39]. Кроме того, мак обладает снотворным эффектом, поэтому способен усыплять опасность [Усачева 2004б: 170] (ср. пример с русалкой, которой мак как бы «закрывает глаза», не давая увидеть женщину, находящуюся в доме). Отметим, что в защитных целях может использоваться трехгодовалый мак , т. е. такой, который хранился три года. В этом случае апотро-пеические свойства семян усиливает числовой код, поскольку «третий член некоего ряда часто трактуется как высший, совершенный..., а первый и второй в этом ряду – как последовательное приближение в истинному, главному» [Толстая 2012б: 545].
3. Сладкое
В качестве ритуальной пищи в пермской традиции часто выступают различные сладкие продукты: Мама говорит, я <...> поглядела: маленькой мальчик плачет. Она мёд наложила, <...> унесла туда [в старый дом,] <...> и больше не слышно стало. Они [стары хозяева] его [домового] с собой не позвали (Ракшино Кудым.) (Русские: 237); «У вас домовой ходит, потому что вы, <...> всё убираете на ночь со стола». <...> Ну то есь хлеб там, конфеты , пряники <...> . « <...> Это просто домовой пакостит» (С. Коммунар Сив.) (Материалы); Ходим мы в болото, дак я то конфетку возьму, скажу: «На тебе, лесовичок-болотничек...» (У.-Зула Юрл.) (там же).
В славянской традиции сладкие продукты, благодаря своему приятному вкусу, получают различные положительные характеристики по модели «приятный на вкус → хороший, добрый, красивый, любимый, счастливый, благополучный» [Седакова 2012: 33], поэтому сладкое (как и хлеб, зерно ) символизирует благо, которым люди делятся с духами-«хозяевами» локусов. При этом сладкие продукты призваны сделать рассматриваемых персонажей, которые являются опасными для человека демонами, «добрыми и милыми» [там же: 38].
4. Рыба и мясо
В традиции русских Пермского края для нейтрализации вредоносного воздействия духов локусов нередко используется рыба: Вот у меня домовой – он то одеяло сташшит, то ешшшо что. Тетка говорит: «Давай, мол, пирог рыбный испекем домовому». Испекли и в подвал спустили, под нижнюю матку подвязали, и с той поры никто не стал ходить (Рождественское Караг.) (КС: 86); Когда потеряется скотина дак [,] <...> кладут на пень <...> рыбный пирог <...>. Там оставят (Базуева Гайн.) (Русские: 196); Если корова заблудилась в лесу <...>, <...> пекут пирог из окуней. Их кладут головами в одну сторону, а затем в двенадцать часов ночи несут на кладбище (Сёйва Гайн.) (там же).
В славянской культуре рыба связана с водной стихией, с природой, т. е. с неосвоенным пространством, а далее – с миром «нечеловеческим», «демоническим», представителями которого являются духи-«хозяева» [Гура 2009: 505]. Это подтверждают и сами носители традиции: [А чтобы ребенка вернуть, если его леший увел, тоже пирог носят?] Обычно носят. <...> Рыбный . Они любят рыбный, рыбное . [Они – это кто?] Нечистая сила! [А почему?] <...> От природы ведь рыба -то. Мясо человек ро́стит, а рыба ведь сама по себе (С. Коммунар Сив.) (Материалы). Кроме того, рыба , будучи хтоническим животным, связывается с «тем светом» [Гура 2009: 505], блюда из нее обязательны на поминках, поэтому использование рыбы при контактах с духами-«хозяевами» также отсылает к представлению о них как об умерших предках.
Мясо в рассматриваемых ритуалах встречается гораздо реже, чем рыба : Потеряется корова <...> в лесу, надо на ёлку пирог повешать, рыбный или мясной и сказать, мол, дедушко, давай отдавай, я тебе подарки дарю (Келич Юрл.) (Русские: 196). Отметим, что мясо не являлось повседневной пищей жителей края, а подавалось по праздникам [Зверева 2014: 304], поэтому служило символом богатства и процветания, а следовательно, средством задабривания духов.
5. Другие продукты и блюда
Среди других блюд, «участвующих» в обрядах, связанных с духами локусов, – каша , яйца и лук . Десятого февраля справляю именины домового. Я ему оставляю кашу (В.-Язьва Краснов.) (Материалы); У нас-то пастух был <...> . Вот как только весна будет, с лешим он идет яичко делить. Ворует яичко – на Христов день раньшо воровали яичко -де в церкви ли, где ли, пастухи-те. <...> Лешему [яичко досталось]. И вот он за одно яичко все лето пас (Б. Долды Черд.) (ББ: 362–363); Пришел [во сне] старик [домовой] ко мне и говорит: «Ты, – говорит, – не ешь больше лука , а то я к тебе ходить не буду» (Краснояр Куед.) (КБ: 31–32).
Каша – одно из главных ритуальных блюд в славянской культуре. Поскольку она готовится из необработанных зерен, ее семантика, с одной стороны, сходна с символикой зерна и хлеба : каша тоже является символом плодородия, обилия, роста, достатка [Валенцова 1999: 483], т. е. блага, которым делятся с демоном. С другой стороны, необработанные зерна – «природный», «неосвоенный» материал, поэтому каша – одно из блюд, служащих для ритуального кормления духов – представителей «нечеловеческого» мира [там же: 484] (по этой же причине каша является блюдом для поминовения предков). Кроме того, поскольку это блюдо готовилось в печи, то, как и все предметы, соприкасавшиеся с печью, могло получить символику домашнего очага, домашнего пространства, т. е. локуса домового, которому она предназначается, согласно первому отрывку.
Яйцо встает в один ряд с теми видами пищи, которые содержат в себе зародыши будущей жизни, поэтому осмысляются в славянской культуре как символ «витальной силы, <...> плодородия, непрерывного производства жизни, начала всех начал» [Виноградова 2012: 621]. Освященное пасхальное яйцо также связывается с божественным началом, поэтому оно часто выступает в качестве оберега, а также благодарности за выполнение каких-либо услуг [Агапкина, Белова 2012: 628–630]. Однако в описанном обряде используется именно украденное пасхальное яйцо . Кража же в народной культуре считается грехом и «трактуется как способ “остранения” предмета <...>, выведения его из привычного ряда, придания ему черт чужого, <...> “нездешнего”, посланного из иного мира» [Толстая 1999: 640], поэтому такое пасхальное яйцо становится возможным использовать в качестве «оплаты» «услуг» лешего.
Апотропеическая отгонная семантика лука , отраженная в приведенном отрывке, обеспечивается сильным запахом этого растения [Усачева 2004а: 140].
6. Напитки6.1. Алкогольные напитки
Анализ пермских мифологических текстов показывает, что из напитков атрибутами ритуалов, связанных с духами-«хозяевами», чаще всего становится спиртное: У него опять ба́нничека звали Федул. <...> «<...> Ему стопочку налил, прихожу на следующий день – стопочка пустая. Выпил». Поминки по отцу были (С. Коммунар Сив.) (Материалы); Если не любит [домовой скотину], то <...> хлебушко, бражку в конюшню несут (Нердва Караг.) (там же); [Чтобы скотину найти,] надо лесовому спиртного унести (Сер-гино Нытв.) (Нытва: 13); У нас парень заблудил- ся, Витька. <...> Тётка его плачет. Ей говорят: «Ты бутылку водки и красный платок на ёлку повесь, он возьмёт и приведёт Витьку к тебе» (Писаное Краснов.) (ББ: 76); Телевизор сам выключался. <...> Домовёнок, наверное. И ей все посоветовали: «Ты вино поставь красное и кусочек хлебушка» (Пермь) (Материалы); Кто-то бегает, открывает двери по комнатам, чердаку. Домовой не уходит в новый дом, это его дом, он не может никуда уйти. Брат поставил стакан портвейна, кусок хлеба. Всё, ниче не стало (В.-Язьва Краснов) (там же).
Использование спиртных напитков в анализируемых ритуалах может быть обусловлено несколькими причинами. Так, водка и брага являлись традиционными напитками славян; они изготавливались из семян пшеницы, ячменя, ржи, следовательно, приобретали продуцирующую и апотропеическую семантику, присущую зерну [Толстой 1995в: 393]. Вино получали из винограда, который в славянской культуре тоже имел семантику плодородия [Толстой 1995б: 373], однако в наших материалах речь идет, скорее, о вине, купленном в магазине, поскольку виноград в Пермском крае не растет. Поэтому более вероятным видится отражение в тексте представлений о цвете напитка (используется именно красное вино , а также портвейн , имеющий темнокрасный оттенок), который вызывает ассоциации с жертвенной кровью; приняв такую жертву, демон перестает беспокоить человека. Еще одна мотивировка ритуального использования алкогольных напитков видится в том, что все они вызывают опьянение, поэтому в славянской культуре связываются с нечистой силой (так, считается, что секрет приготовления водки человеку поведал чёрт [Толстой 1995в: 393]).
6.2. Безалкогольные напитки
В ритуалах, связанных с духами-«хозяевами» локусов, иногда используются и безалкогольные напитки: А вот ругаться-то не надо на скотину тоже. Потеряется, проклянёшь скотину – уйдёт в лес и исчезнет . [А вот как ее искать? Говорят, гостинец носят.] Задабривают . <...> [А что нужно нести?] Ну вот хлебушек нести, наверно, надо или, может, молоко (С. Коммунар Сив.) (Материалы); [Что суседке оставлять надо?] <...> Где-то печенинку , <...> хлебушка что-то, чай . Ну дак вот оставляют (Красновишерск) (там же).
Культурная семантика молока продиктована его белым цветом, который, с одной стороны, трактуется как «хороший», «счастливый», наделяется семантикой сакральности, чистоты, плодородия, а с другой – связан с темой смерти, «того света» и предков, а также маркирует облик духов-«хозяев» (например, одежда домового может быть белого цвета) [Толстой 1995а: 152– 154]. Чай, в отличие от молока, не является традиционным напитком славян. Согласно этнографическим данным, в Пермском крае (Пермской губернии) он употреблялся в начале XIX в. купечеством, лишь в городах и заводских поселениях; в среде крестьянского населения чай распространился только к концу XIX – началу ХХ вв. [Черных 2019: 277–279]. Вероятно, тогда же он «встроился» в существующую систему ритуалов и мифологических представлений, при этом «особенностью включения чаепития в состав обрядности была его тесная связь с традициями приема гостей и гостевания» [там же: 287]. Поэтому, как и хлеб-соль, которыми встречали дорогих гостей, чай становится жертвой для задабривания духов локусов.
Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
В ритуалах, связанных у русских Пермского края с духами-«хозяевами» локусов, «участвуют» в основном традиционные блюда славянской кухни, реже – кушанья и напитки, пришедшие в нее позднее ( конфеты, портвейн, чай ).
При этом ритуальными становятся не любые кушанья, а лишь такие, которые имеют определенные характеристики, символически осмысляемые в славянской народной культуре, в результате чего кушанья получают обрядовые функции. К числу таких характеристик отнесем запах ( лук ); вкус (сладкие продукты, соль ); цвет ( вино, портвейн, соль, молоко ); структуру (сыпучие продукты); место, способ приготовления/полу-чения ( хлеб и каша , приготовляемые в печи; блины, откидываемые на левую сторону ; яйцо, украденное на Пасху ); порядок приготовления ( первый блин ); ингредиенты для приготовления ( хлеб, каша, водка, брага – из зерна; рыбный пирог – из рыбы); срок хранения ( трёхгодовалый мак ); частоту употребления ( мясо ); эффект, вызываемый продуктом при его употреблении ( мак , алкогольные напитки); изначальное использование в других обрядах (поминальные блюда – каша, блины ). Кушанья, не относящиеся к традиционным славянским и пришедшие в русскую кухню позднее, но обладающие культурно значимыми характеристиками, встроились в существующую систему ( конфеты «встали» в ряд сладких продуктов, портвейн – в ряд алкогольных напитков красного цвета, чай – в ряд блюд, которыми встречают гостей ( хлеб-соль )) и также стали обрядовыми.
Рассмотренные кушанья выполняют в обрядах функцию оберега и используются либо для предупреждения возможной опасности, исходящей от персонажа (например, оставление хлеба где-л. в доме для домового), либо для нейтрализации уже наступившего вредоносного воздействия (например, относ различных блюд в лес, чтобы леший отпустил потерявшегося в лесу че-ловека/скотину). Таким образом, во всех случаях рассмотренные блюда выступают в роли посредников между человеком и демоном как представителями двух разных миров.
Условные сокращения районов Пермского края
Березн. – Березниковский; Гайн. – Гайнский; Караг. – Карагайский; Краснов. – Красновишерский; Кудым. – Кудымкарский; Куед. – Куедин-ский; Нытв. – Нытвенский; Сив. – Сивинский; Сол. – Соликамский; Сукс. – Суксунский; Усол. – Усольский; Черд. – Чердынский; Юрл. – Юрлин-ский.
Список источников с сокращениями
ББ – Шумов К. Э. Былички и бывальщины: старозаветные рассказы, записанные в Прикамье. Пермь: Книж. изд-во, 1991. 412 с.
ЗС – Подюков И. А., Черных А. В., Хоробрых С. В. Земля Соликамская. Традиционная культура, обрядность и фольклор русских Соликамского района. Пермь: Перм. книж. изд-во, 2006. 224 с.
КБ – Черных А. В. Куединские былички: мифологические рассказы русских Куединского района Пермской области в конце XIX–XX вв. Пермь: Изд-во ПОНИЦАА, 2004. 114 с.
КС – Подюков И. А. Карагайская сторона: народная традиция в обрядности, фольклоре и языке. Кудымкар: Коми-Перм. книж. изд-во, 2004. 320 с.
Материалы – Материалы диалектологического архива лаборатории лексикологии и лексикографии (рук. – д-р филол. н., проф. И. И. Русинова) и фольклорного архива лаборатории теоретической и прикладной фольклористики (рук. – к. филол. н., доц. С. Ю. Королёва) филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.
Нытва – Подюков И. А. Нытва: Традиционная культура, язык и фольклор. В помощь этнопедагогу и краеведу. Нытва; Пермь: Изд-во РУО-ПОИПКРО, 2001. 70 с.
Русские – Бахматов А. А. и др. Русские в Коми-Пермяцком округе: обрядность и фольклор: материалы и исследования / А. А. Бахматов, Т. Г. Голева, И. А. Подюков, А. В. Черных. Пермь: Изд-во «ОТиДО», 2008. 502 с.
СРГЮП – Словарь русских говоров Южного Прикамья / И. А. Подюков (науч. ред.), С. М. По-здеева, Е. Н. Свалова, С. В. Хоробрых, А. В. Чер- ных; Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2010–2012. Вып. 1–3.
УД – Подюков И. А., Хоробрых С. В., Антипов Д А. Усольские древности: сборник трудов и материалов по традиционной культуре русских Усольского района конца XIX–XX вв. Усолье: Перм. кн. изд-во, 2004. 240 с.
Список литературы Пища в обрядах, связанных с духами-«хозяевами» локусов, в традиции русских Пермского края (по данным мифологических текстов)
- Агапкина Т. А., Белова О. В. Яйцо пасхальное // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отношения, 2012. С. 626–632.
- Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. 191 с.
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 237 с.
- Байбурин А. К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология: сб. ст. Л.: Наука, 1981. С. 215–226.
- Березович Е. Л., Пьянкова К. В. Хлеб-соль // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отношения, 2012. С. 434–437.
- Валенцова М. М. Каша // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отношения, 1999. С. 483–488.
- Валенцова М. М., Седакова И. А. Первый – последний // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка). М.: Междунар. отношения, 2004. С. 674–679.
- Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. М.: Индрик, 2000. 431 с.
- Виноградова Л. Н. Яйцо // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отношения, 2012. С. 621–626.
- Гранова М. А. Использование предметов в обрядах, связанных с духами-«хозяевами» локусов, в традиции русских Пермского края (по данным мифологических текстов) // Традиционная культура. 2023. Т. 24, № 1. С. 122–133.
- Гранова М. А. Пространство крестьянского дома в верованиях и обрядах, связанных с духами-«хозяевами» локусов (по данным русских мифологических текстов Пермского края) // Научный диалог. 2022. Т. 11, № 10. С. 195–219. DOI: 10.24224/2227-1295-2022-11-10-195-219
- Гура А. В. Рыба // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 4: П (Переправа через воду) – С (Сито). М.: Междунар. отношения, 2009. С. 505–506.
- Гура А. В., Лаврентьева Л. С. Блины // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 1: А (Август) – Г (Гусь). М.: Междунар. отношения, 1995. С. 193–196.
- Зверева Ю. В. Лексика питания в пермских говорах: мясомолочные продукты // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2014. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 302–316.
- Капелюшник Е. В. Кулинарный код культуры в семантике образных средств языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2012. 21 с.
- Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда / отв. ред. Н. В. Злыднева. СПб.: Алетейя, 2011. 560 с.
- Королёва С. Ю. Обряд «проводов души» с ритуальным заместителем умершего (материалы русско-коми-пермяцкого пограничья) // Антропологический форум. 2014. № 23. С. 52–76.
- Криничная Н. А. Русская мифология. Мир образов фольклора. М.: Академический проект: Гаудеамус, 2004. 1008 с.
- Левкиевская Е. Е. Восточнославянский мифологический текст: семантика, диалектология, прагматика: дис. … д-ра филол. наук. М., 2007. 634 с.
- Левкиевская Е. Е. Домовой // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отношения, 1999. С. 120−124.
- Левкиевская Е. Е. Наоборот // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка). М.: Междунар. отношения, 2004. С. 364–367.
- Левкиевская Е. Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М.: Индрик, 2002. 334 с.
- Плотникова А. А. Хлеб поминальный // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отношения, 2012. С. 424–427.
- Подюков И. А., Черных А. В. Суженый-ряженый, приди ко мне снаряженый. Рецепты народных гаданий. Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 1998. 28 с.
- СД – Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отношения, 1995–2012. Т. 1–5.
- Седакова И. А. Сладкий // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отношения, 2012. С. 33–39.
- СМЛФСРГП – Словарь мортальной лексики, фразеологии и символики русских говоров Прикамья / под ред. И. А. Подюкова. СПб.: Маматов, 2020. 368 с.
- Толстая С. М. Кража // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отношения, 1999. С. 640−643.
- Толстая С. М. Хлеб // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отношения, 2012а. С. 412–421.
- Толстая С. М. Число // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). М.: Междунар. отношения, 2012б. С. 544–547.
- Толстой Н. И. Белый цвет // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 1: А (Август) – Г (Гусь). М.: Междунар. отношения, 1995а. С. 151–154.
- Толстой Н. И. Вино // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 1: А (Август) – Г (Гусь). М.: Междунар. отношения, 1995б. С. 373–374.
- Толстой Н. И. Водка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 1: А (Август) – Г (Гусь). М.: Междунар. отношения, 1995в. С. 393–394.
- Усачева В. В. Зерно // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). М.: Междунар. отношения, 1999. С. 324−327.
- Усачева В. В. Лук // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка). М.: Междунар. отношения, 2004а. С. 140–143.
- Усачева В. В. Мак // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 3: К (Круг) – П (Перепелка). М.: Междунар. отношения, 2004б. С. 170–174.
- Устинова Н. А. Пищевой код как символизация пищевой традиции (на материале говоров Среднего Приобья) // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 333. С. 28–31.
- Устинова Н. А. Пищевой код традиционной культуры Среднего Приобья: этнолингвистический аспект: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2011. 207 с.
- Черных А. В. Русский народный календарь в Прикамье. Праздники и обряды конца XIX – середины XX в.: в 2 ч. Ч. I. Весна, лето, осень. Пермь: Пушка, 2006. 364 с.
- Черных А. В. Русский народный календарь в Прикамье. Праздники и обряды конца XIX – середины XX в.: в 2 ч. Ч. II. Зима. Пермь: Пушка, 2007. 365 с.
- Черных А. В. Чай и чаепитие в традиционной культуре русских Прикамья // Напитки в культуре народов Урало-Поволжья: кол. монография / сост. и отв. ред. Е. В. Попова; УдмФИЦ УрО РАН. Ижевск, 2019. С. 275–289.
- ЭСМРПК – Этнодиалектный словарь мифологических рассказов Пермского края / И. И. Русинова, А. В. Черных, К. Э. Шумов, С. Ю. Королёва. Ч. 1: Люди со сверхъестественными свойствами. СПб.: Маматов, 2019. 832 с.
- ЭССТСП – Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья / сост. И. А. Подюков, С. В. Хоробрых, Д. А. Антипов. Пермь: Перм. книж. изд-во, 2004. 360 с.