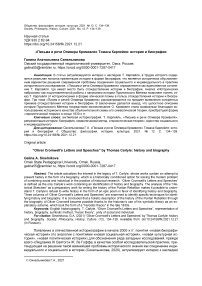«Письма и речи Оливера Кромвеля» Томаса Карлейля: история и биография
Автор: Галина Анатольевна Синельникова
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализируется интерес к наследию Т. Карлейля, в трудах которого содержится реальная попытка презентации истории в форме биографии, что является исторически обусловленным вариантом решения современной проблемы соединения социального и индивидуального в практике исторического исследования. «Письма и речи Оливера Кромвеля» определяются как единственное сочинение Т. Карлейля, где имеет место быть отождествление истории и биографии. Анализ «Исторических набросков» как подготовительной работы к написанию истории Пуританского Мятежа позволяет понять отказ Т. Карлейля от историописания в форме эпической поэмы в пользу отождествления истории и биографии. Три тома «Писем и речей Оливера Кромвеля» рассматриваются на предмет выявления конкретных приемов отождествления истории и биографии. В заключении делается вывод, что целостное описание истории Пуританского Мятежа посредством жизнеописания О. Кромвеля стало возможным благодаря использованию историком в качестве объяснительной схемы его символической теории, приобретшей форму «героистической теории» в конце 1830-х гг.
Английская историография, Т. Карлейль, «Письма и речи Оливера Кромвеля», репрезентация истории, биография, символический метод, «героистическая теория», единство социального и индивидуального
Короткий адрес: https://sciup.org/149138826
IDR: 149138826 | УДК: 930.2:82-94 | DOI: 10.24158/fik.2021.12.21
Текст научной статьи «Письма и речи Оливера Кромвеля» Томаса Карлейля: история и биография
Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия, ,
,
тех немногих историков, в чьих трудах содержится попытка написания истории в форме биографии, сопровождающаяся методологической рефлексией.
Современные западные исследователи творчества Т. Карлейля (1795–1881), поставившие в центр своего рассмотрения его «сети влияния», по преимуществу в XIX в., отмечают, что и спустя 130 лет его «подход к истории через “многочисленные биографии” великих людей, который уже не актуален в академических кругах, по-прежнему пользуется большой популярностью», так же как его роль интерпретатора немецкой мысли, его своеобразный риторический стиль и огромная переписка с современниками (Thomas Carlyle..., 2018: 1). Интерес к «биографическому методу» Т. Карлейля, правда академический, сохраняется и у российских авторов (Кадыкова, 2016).
«Многочисленные биографии», написанные английским автором, либо отталкиваются от модели литературного биографического описания, предложенной в знаменитой «Жизни Сэмюэля Джонсона» Дж. Босуэллом («Жизнь Фридриха Шиллера», «Жизнь Джона Стерлинга», «Новалис»), либо представляют собой биографические эссе, используемые для иллюстрации «героистической теории» (мифологический Один, пророк Магомет, поэты Данте и Шекспир, проповедники Лютер и Нокс, писатели Джонсон, Руссо и Бернс, вожди О. Кромвель и Наполеон) без достаточной источниковой базы, что никак не позволяет отнести их к разряду исторической биографии.
Что касается исторических трудов Т. Карлейля, то материалы биографических очерков «Вольтер», «Дидро», «Калиостро» и «Мирабо» лишь весьма опосредовано вошли в сделавшую английского историка известным «Французскую революцию», что и понятно, ибо главный герой-символ его великолепной «Эпической Поэмы» – Санкюлотизм. «История Фридриха Великого», последнее из трех объемных сочинений английского историка, представляет собой растянутое жизнеописание прусского короля (начиная с подробного жизнеописания его отца Фридриха-Вильгельма I), где целостность повествования определяется только хронологией жизни Фридриха. Другое дело «Письма и речи Оливера Кромвеля», где автор претендует на описание истории Пуританского Мятежа (Английской революции).
Зимой 1839 г. Т. Карлейль пишет, что он заинтересовался О. Кромвелем и периодом победы протестантизма в Англии и Шотландии настолько, что у него возникло желание написать книгу (New Letters…, 1970: 130), хотя этот предмет изучения и ниже в сравнении с французским (New Letters…, 1970: 149). С 1840 г. основным занятием историка становится чтение литературы (различие между авторами видится ему только в их литературном таланте) (New Letters…, 1970: 226) и знакомство с источниками (он работает с документами в Британском музее и частных коллекциях, штудирует опубликованные источники (New Letters…, 1970: 304–305, 307)). Осенью 1842 г. Т. Карлейль предпринимает поездку по кромвелевским местам: «посмотрел на все дома, где мой друг Оливер действовал 202 года назад» (New Letters…, 1970: 269–271), посетил место битвы при Нейзби, которую считал звездным часом О. Кромвеля (Kaplan, 1983: 288).
Работа над текстом началась по традиции с осмысления предшествующего изучаемым событиям исторического периода. Но если во «Французской революции» результатом такой работы стали первые главы, посвященные эпохе Людовика XV, то знакомство с предысторией Пуританского Мятежа нашло свое выражение в отдельной книге, так называемых «Исторических набросках». Рукопись «Набросков» была найдена в архиве историка заботливо переписанной. Сам автор характеризовал ее как «собрание фрагментов о Якове I», хотя на самом деле правлению Якова I посвящена только первая часть «Набросков», второй их раздел относится ко времени Карла I, заканчиваясь характеристикой Долгого парламента (Carlyle, 1895). О подготовительном характере рукописи свидетельствуют многочисленные выписки-цитаты из разных источников, но комментарии автора к ним, а также наличие самостоятельных, хорошо осмысленных глав, позволяют судить о первоначальной объяснительной модели событий XVII в.
На первых страницах «Набросков» Т. Карлейль формулирует свой главный тезис: король Англии не выражал интересов нации, поэтому была необходима его замена на посту лидера страны (Carlyle, 1895: 1–4). Так, если в древности королем становился подлинный герой, пишет историк, то последним представителем династии Стюартов, которого англичане любили по-настоящему, была Елизавета, ибо она понимала сердце нации, а Яков I и Карл I оказались не способны понять душу народа, так как не только не разделяли поворот английской нации к протестантизму, но даже препятствовали его распространению (Carlyle, 1895: 20). Веку Якова I (пустой век, век Большой Охоты, Век Выпивки, Век Табака и Дыма (Carlyle, 1895: 22, 48, 56)) Т. Карлейль отказывает в праве называться Историей, оправдывая его существование в памяти только с точки зрения хронологии для сравнения с периодом веры (Carlyle, 1895: 110). Отношение к Карлу I, ставшему королем «по праву 60 поколений», лишено знаменитой карлейлевской иронии, ибо жизнь сына была трагичнее жизни отца.
Силой, противоположной не-героическим правителям, в «Набросках» выступает народ, нация, инстинктивно чувствующая Божественную Идею (Carlyle, 1895: 213), поэтому на протяжении всей работы Т. Карлейль пытается показать настрой нации, ее духовное состояние. Иногда это получается не очень удачно (рассуждения об интеллектуальном развитии нации мало что дают для понимания ситуации накануне Пуританского Мятежа), иногда очень удачно, когда историк использует свой излюбленный прием доведения факта до уровня символа. Так, в главе «Дженни Гедденс» (Carlyle, 1895: 299–310) он описывает событие, послужившее началом эдинбургского восстания против католической церкви в 1637 г. (служанка бросила стул в священника во время мессы), подчеркивая готовность народа к борьбе за свою веру. Важнейшей формой выражения воли нации, противополагающей себя королю, Т. Карлейль считает «Англию в миниатюре» – английский парламент. Он, описывая работу Палаты общин по материалам Common's Journals, рассматривает широкий спектр разногласий парламента с королем, но делает вывод, что для депутатов первоочередное значение имел теологический вопрос, тогда как для короля – вопрос о налогах (Carlyle, 1895: 223). Антитеза «двор-страна» в исполнении Т. Карлейля наполняется даже не религиозным, но нравственным содержанием: «Мои читатели и я не верят, что Немецкая Реформация, Шотландская Реформация, Шотландский Пресвитерианизм, Французская революция есть или могут быть произведениями голодной жадности или презренного денежного здравого смысла Жана и Вилли, Дика и Тома» (Carlyle, 1895: 304).
Несмотря на предварительный характер «Набросков», очевидно, что первоначальный замысел историка был связан с желанием написать еще одну «эпическую поэму» по образцу «Французской революции», что выражается в сознательном отказе от подробного описания событий в пользу поиска небольшого количества фактов-символов, совокупность которых позволяет создать мозаичное «живое историческое полотно». Например, фаворитизм в годы правления Якова I есть свидетельство деградации королевской власти (Carlyle, 1895: 46–47); испанский брак – душа всей внешней политики Якова I, идущей вразрез с мнением народа (Carlyle, 1895: 148); убийство герцога Букингемского Фелтоном – показатель протеста протестантской Англии, столь же неэффективный, как парламентская деятельность (Carlyle, 1895: 214–218) и т. д.
Однако уже в «Набросках» содержатся те приемы историописания, которые приобретут определяющее влияние в «Письмах и речах Оливера Кромвеля»: историк начинает широко использовать речи короля и членов парламента, так как считает, что по одним только речам можно судить о человеке; к концу «Набросков» он все больше концентрирует внимание на отдельном факте, забывая порой о целостности исторического полотна. Завершая «Наброски», Т. Карлейль по-прежнему хочет видеть в своем сочинении эпос, но эпос об отдельном человеке – Оливере Кромвеле: «В этом хаосе я имею интерес только к О. Кромвелю. И только к нему одному. Остальное для меня исторично, мертво; но он есть эпос до сих пор живой» (Carlyle, 1895: 346).
Письма Т. Карлейля зимы 1842–1843 гг. позволяют представить интеллектуально-психологическое состояние историка, сознающего свое неумение справиться с фактическим материалом, причины которого он сам видит то в плохом здоровье и надвигающейся старости (Carlyle, 1968: 531), то в слишком большой архаичности О. Кромвеля (Carlyle, 1971: 211), пока, наконец-то, не признается, что не может найти форму и язык для нового исторического сочинения (Carlyle, 1968: 540–541, 591). Только после того, как несколько вариантов начала книги были им просто сожжены (Carlyle, 1970: 303), историк решил отказаться от написания «эпической поэмы» Семнадцатого Столетия и организовать весь собранный материал в виде комментариев к письмам и речам О. Кромвеля (Carlyle, 1971: 226–227). Выбор Т. Карлейлем в качестве образца уже имевшейся в историографической практике формы исторической работы (сборник документов с комментариями издателя), но осмысленной в контексте его «героистической теории», позволил историку достичь желаемого результата.
Свое внимание к Семнадцатому Столетию (Пуританскому Мятежу, Кромвелиаде) Т. Карлейль обосновывает необходимостью обращения к последнему в истории Англии проблеску Богоподобного, возрождение идей которого является непременным условием нормального функционирования общественного организма в веке девятнадцатом (Carlyle, 1845: 1). Но одаренный глазами и душой историк может понять Семнадцатое Столетие только посредством изучения документов, так как идейная близость утрачена (Carlyle, 1845: 2). Хотя не все документы, считает Т. Карлейль, представляют одинаковую ценность: поскольку главным символом эпохи является герой, то именно его личные свидетельства дают больше всего для понимания эпохи. Конечно, отмечает историк, можно изучать «бумаги Терлоу», которые содержат достаточно необходимых сведений, но они «водянисты», тогда как письма и речи О. Кромвеля выражают сущность: «Получить эти главные выражения от него, означает получить истинное сердце этого дела…» (Carlyle, 1845: 10). Работа с письмами и речами О. Кромвеля потребовала от Т. Карлейля боль- ших усилий, связанных с технической обработкой документов: он перевел их с латыни на современный английский, отредактировал пунктуацию, датировал некоторые из них. Источниковедческое значение труд Т. Карлейля сохранял до 1937 г., когда начало выходить полное собрание писем и речей О. Кромвеля под редакцией У. Аббота.
Центральным элементом сочинения, вокруг которого группируется весь остальной материал, стали письма и речи О. Кромвеля с комментариями автора, поэтому события английской истории и биография О. Кромвеля до появления первых письменных свидетельств самого героя английской истории описаны во вводной части работы. В ней дается генеалогия рода Кромвелей и хронология жизни О. Кромвеля, начиная с года его рождения (1599) и заканчивая 1634 г. (появление первых писем Протектора); скудные сведения о жизни О. Кромвеля излагаются в контексте английской и европейской истории (Carlyle, 1845: 17–58), что свидетельствует о сохранении претензии историка на создание широкого исторического полотна, не сводимого к биографии О. Кромвеля.
Комментарии к письмам и речам О. Кромвеля в основной части работы подразделяются на два вида: атрибуция источника (где находится документ, кто адресат и так далее) и описания наиболее важных событий английской истории («В Долгом парламенте», «Кембридж», «Битва при Уинсби», «Армейский Манифест» и другие). Изложение событий ведется прерывно, поэтому впечатление целостности презентации Пуританского Мятежа достигается не за счет создания «исторического полотна» в духе «Французской революции», а за счет фигуры О. Кромвеля. Это, в свою очередь, заставляет историка менять ракурс освещения английской истории, следствием чего становится появление оригинального видения Английской революции.
События 1635–1642 гг. излагаются историком кратко, так как О. Кромвель еще не стал исторической фигурой, и двумя параллельными рядами: события в Англии (протест шотландцев против деятельности Лауда, процесс над Гэмптоном, Короткий парламент и т. д.) и события личной жизни О. Кромвеля (деятельность его как фермера и осушителя болот) (Carlyle, 1845: 67–85). Весьма кратко освещено и начало деятельности Долгого парламента, хотя именно это событие традиционно считается началом Английской революции (Carlyle, 1845: 87–90), так как подлинным началом Пуританского Мятежа Т. Карлейль определяет события зимы 1641–1642 гг., когда начинаются вооруженные столкновения роялистов с пуританами, а О. Кромвель становится одним из активных организаторов парламентской армии. В дальнейшем такое отождествление истории Английской революции и военной деятельности О. Кромвеля у Т. Карлейля становится определяющим при изложении истории Пуританского Мятежа.
Так, в первом томе (часть II–IV) историк дает весьма подробную характеристику того, как шло формирование парламентской армии, какие военные победы она одержала в ходе двух гражданских войн, какие процессы шли в ее руководящей верхушке и какое место армия занимала в обществе. Военные победы О. Кромвеля, его «звездные часы» в глазах историка являются лучшим показателем Божественной сущности его деятельности, что оправдывает подробное описание тех битв, в которых успех сопутствовал О. Кромвелю: битва при Уинсби, при Мартон-Муре, при Нейзби, штурм Бристоля и т. д. (Carlyle, 1845: 142–143, 173–177, 182–188, 279–299). Излагая события, произошедшие между двумя гражданскими войнами, Т. Карлейль фиксирует внимание на конфликте, возникшем между армией как более последовательной и революционной силой и парламентом, готовым на компромисс с королем. Период колебаний О. Кромвеля, выбиравшего между этими двумя силами, историк считает «кризисом в делах Оливера и Англии» (Carlyle, 1845: 220, 234), в очередной раз подчеркивая отождествление судьбы Кромвеля с судьбой Англии. Вторая гражданская война завершается казнью короля, но это, как пишет историк, решение не Оливера, но Провидения (Carlyle, 1845: 349), Героизм и Правдивость установились.
Второй том сочинения посвящен описанию военных кампаний английской армии в Ирландии и Шотландии, руководителем которых был О. Кромвель. В целом это то же изложение хода военных действий, комментирующее отчеты О. Кромвеля Палате общин. При этом отождествление истории и биографии здесь все больше конкретизируется. Так, описав весь спектр политических сил от роялистов до диггеров, Т. Карлейль определяет их как ложные пути в развитии общества. Он даже, несмотря на то что левеллеры своей принадлежностью к простому народу вызывают у него большое сочувствие (по аналогии с французскими санкюлотами), оправдывает и расстрел лидеров левеллеров, и разгон диггеров (Carlyle, 1846: 28), ибо единственный критерий оценки политических сил – соответствие «линии Кромвеля». Еще больше усилий приходится прилагать историку, чтобы оправдать содержащиеся в отчетах О. Кромвеля сведения о тысячах жертв – поверивших и сдавшихся ему ирландцев: будущий Протектор не стремился к бессмысленной жестокости, но осуществлял Божественный Суд ради установления законов Бога (Carlyle, 1846: 46), что позволило восстановить порядок в Хаосе, тем более что простой народ не пострадал (Carlyle, 1846: 149–151). В заключительной части второго тома Т. Карлейль сосредоточился на истории парла- мента: разгон «охвостья Долгого парламента» оценивается им как результат непреодолимого импульса вдохновения О. Кромвеля (Carlyle, 1846: 329–334), а главным моментом в деятельности Короткого парламента является провозглашение О. Кромвеля Лордом-Протектором.
Третий том сочинения Т. Карлейля охватывает время Протектората – с 1654 г. до смерти Протектора в 1658 г. Основная проблема, волнующая историка, – это проблема борьбы Протектора с парламентом за полноту власти. Аргументы, оправдывающие позицию Протектора, распустившего два парламента, Т. Карлейль полностью заимствует из парламентских речей последнего. Следуя за О. Кромвелем, историк подчеркивает, что власть протектору добровольно дали Бог и Нация (читай – армия), и только они, а не парламент, могут ее забрать. Протекторат имеет право на существование потому, что, во-первых, он установлен публично, а, во-вторых, это единственный способ противостоять анархии, тем более что за десятилетие войны народ устал и нуждается в спокойствии. Важным аргументом в пользу правления О. Кромвеля, что постоянно подчеркивает историк, были успехи его внешней политики (защита протестантов Пьемонта, борьба с испанским флотом, колонизаторская политика в Вест-Индии, захват Дюнкерка (Carlyle, 1846: 103–107,117, 140–141).
Свое сочинение Т. Карлейль завершает эпическим описанием смерти О. Кромвеля, опираясь на свидетельства всех тех, кто видел Оливера в последние дни. Он обращается к словам своего любимого Шиллера, стараясь более точно охарактеризовать существо происходящего: «Так умирает Герой!» (Carlyle, 1846: 371). Со смертью Оливера, подводит итог Т. Карлейль, Протестантизм потерял своего лидера, и анархия захлестнула все; Великий человек – единственная сила, служившая источником порядка, завершил свое земное бытие (Carlyle, 1846: 373).
Таким образом, «Письма и речи Оливера Кромвеля» могут быть поняты, прежде всего, как еще одна реализация в практике историописания особого символического метода познания действительности Т. Карлейля (Синельникова, 2008), позволяющего посредством события-символа приблизиться к пониманию сущности исторического периода. Но если на этапе создания «Французской революции» и «Исторических набросков» историк ориентирован на поиск совокупности таких событий-символов для написания широкого «исторического полотна», то в «Письмах и речах Оливера Кромвеля» он пытается описать сущность Пуританского Мятежа (Английской революции) посредством одного события-символа, а именно Оливера Кромвеля. Однако такое «сужение» не является свидетельством неспособности Т. Карлейля справиться с обилием исторического материала, но есть результат использования в качестве объяснительной схемы его «геро-истической теории», сложившейся только к концу 1830-х гг., что выразилось в «социологизации» символического метода (переход от категории «поэт» к категории «герой»). Понятно, что такое отождествление Пуританского Мятежа с Героем было бы невозможно в качестве полноценного исторического труда, если бы не наличие уникально репрезентативной источниковой базы в виде писем и речей О. Кромвеля, что можно считать везением историка.
В контексте поисков современных историков по приданию исторической биографии научного статуса «Письма и речи Оливера Кромвеля» Т. Карлейля можно считать позитивно реализовавшемся проектом придания традиционной биографии статуса истории за счет их отождествления, но проектом уникальным в силу уникальности теоретико-методологической основы этого отождествления.
Список литературы «Письма и речи Оливера Кромвеля» Томаса Карлейля: история и биография
- Кадыкова М.А. Эволюция биографического метода в работах Карлейля // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2016. № 4. С. 16–23. https://doi.org/10.18384/2310-676X-2016-4-16-23.
- Синельникова Г.А. «Историческая философия» Томаса Карлейля // Методологические проблемы исторического познания: сборник научных трудов. Омск, 2008. С. 73–82.
- Синельникова Г.А. Преодоление «биографической иллюзии»: о методологических основаниях «новой биографической истории» // Вестник ОмГПУ. Гуманитарные исследования. 2020. № 2. С. 48–51. https://doi.org/10.36809/2309-9380-2020-27-48-51.
- Carlyle T. Historical Sketchers of Noble Persons and Events in the Reigns of James I and Charles I / ed. by A. Carlyle. London, 1895. 354 p.
- Carlyle T. Oliver Cromwell's Letters and Speeches. London, 1845. Vol. 1.
- Carlyle T. Oliver Cromwell's Letters and Speeches. London, 1846. Vol. 2
- Carlyle T. Oliver Cromwell's Letters and Speeches. London, 1846. Vol. 3
- Carlyle T. The Letters of Thomas Carlyle to his Brother Alexander with Related Family Letters / ed. by E.W. Marrs. Cam-bridge, Massachusetts, 1968. 830 p.
- Kaplan F. Thomas Carlyle. A Biography. N.Y., 1983. 614 p.
- New Letters of Thomas Carlyle / ed. by Alexander Carlyle. N.Y., 1970. Vol. 1.
- Thomas Carlyle and the Idea of Influence / ed. by P. Kerry, A. Pionke, D.M. Dent. Vancouver, 2018. 377 p.
- Thomas Carlyle: Last Words / ed. by K.J. Field. N.Y., 1971. 304 p.