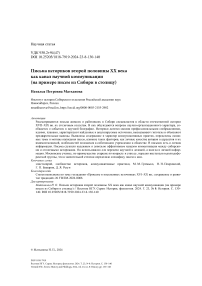Письма историков второй половины XX века как канал научной коммуникации (на примере писем из Сибири в столицу)
Автор: Матханова Н.П.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография. Источниковедение
Статья в выпуске: 8 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются письма живших и работавших в Сибири специалистов в области отечественной истории XVII-XIX вв. их столичным коллегам. В них обсуждаются вопросы научно-организационного характера, сообщается о событиях в научной биографии. Историки делятся своими профессиональными соображениями, идеями, планами, характеризуют найденные и анализируемые источники, высказывают гипотезы и объясняют предварительные выводы. Выявлены содержание и характер коммуникативных практик, определены основные темы и мотивы написания писем, влияние таких факторов, как личные качества авторов и адресатов и их взаимоотношений, особенностей положения в собственном учреждении и обществе. В письмах есть и личная информация. Письма служили надежным и довольно эффективным каналом коммуникации между сибирскими и столичными историками. Он использовался для передачи научной и деловой, а иногда и личной информации. Московские ученые, по преимуществу старшие по возрасту и статусу, нередко выступали в роли референтной группы, что в значительной степени определяло специфику писем к ним.
Эпистолярий, сообщество историков, коммуникативные практики, м. м. громыко, н. н. покровский, г. п. башарин, д. я. резун
Короткий адрес: https://sciup.org/147245827
IDR: 147245827 | УДК: 930.2+94(47) | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-8-130-140
Текст научной статьи Письма историков второй половины XX века как канал научной коммуникации (на примере писем из Сибири в столицу)
,
Novosibirsk, Russian Federation nmatkhanova ,
Вплоть до конца XX столетия письма оставались одним из самых главных и важных способов общения, как делового, так и личного. Ученые, в том числе историки, не являлись исключением. Для исследователей давно стали очевидными информационный потенциал и значение эпистолярия. Письма историков используются при изучении научных биографий авторов и адресатов, их политических позиций и профессиональных взглядов, выстраивания ими собственного (или чужого) образа [Корзун и др., 2003]. «Эпистолярное наследие историков дает возможность прояснить мотивацию выбора ими тех или иных исторических сюжетов, традиции и новации, существовавшие и появлявшиеся в профессии, показать исследовательские практики ученых, проникнуть в мир их межличностных отношений, отражая взаимоотношения учителей и учеников, коллег по историческому цеху» [Сидорова, 2013, с. 156].
Форма писем, их смысловая насыщенность, языковые особенности меняются в зависимости от многих факторов – времени написания, среды, особенностей эпистолярного этикета, характерных для эпохи и социальной группы, функционального назначения, психологических особенностей, взаимоотношений автора и адресата [Кучина, 1984, с. 45]. Не всегда со- держащиеся в письмах утверждения адекватно отражали реальность. Нередко в них, как и в любых эго-документах (и вообще источниках) проявлялось намерение авторов представить ситуацию в том или ином свете.
Существует немало вариантов классификации эпистолярия – по статусу, социально-профессиональной и гендерной принадлежности авторов, по функциональному назначению, содержанию, эмоциональной насыщенности самих текстов и т. п. Д. А. Редин предложил разграничивать в рамках неофициальной переписки частную и личную, используя в качестве критерия «основную тему, основной мотив письменного обращения» [Редин, 2019, с. 123, 124]. Мне эта идея близка, но думаю, что требуется дальнейшее осмысление терминологии. Если же принять предложенные Рединым термины (ранее они применялись мною к письмам чиновников 1), письма историков могут классифицироваться как неофициальные, а личные или частные – в зависимости от их содержания и характера отношений между корреспондентами.
Для переписки ученых характерно сочетание научной и личной информации. В письмах историки делятся своими профессиональными соображениями, идеями, планами, характеризуют найденные и анализируемые источники, высказывают гипотезы и объясняют предварительные выводы, обсуждают вопросы научно-организационного характера. Рассматриваемые источники показывают «индивидуальный / групповой вариант вписывания в быт, науку и эпоху», дают возможность изучения «многоступенчатого поля коммуникаций, научной повседневности» [Корзун, 2019, с. 194, 196].
В настоящей статье рассматриваются письма работавших в Сибири специалистов в области отечественной истории XVII–XIX вв. их столичным коллегам – как правило, старшим по возрасту и месту в иерархии: М. М. Громыко к Б. Б. Кафенгаузу, С. Д. Сказкину и В. Д. Яцунскому; Г. П. Башарина к Н. М. Дружинину, А. М. Панкратовой и др.; З. Я. Бояршиновой к С. В. Бахрушину и В. И. Шункову; Н. Н. Покровского к М. Н. Тихомирову, С. О. Шмидту и Н. Я. Эйдельману; Д. Я. Резуна к Е. В. Чистяковой. К сожалению, в большинстве случаев мы имеем дело не с перепиской, так как известны только письма из Сибири в столицу, ответные же пока не обнаружены или недоступны. Исключение составляет переписка Г. П. Башарина и З. Я. Бояршиновой. Однако и в остальных случаях можно предположительно понимать содержание ответных писем 2.
Письма историков, работавших в Сибири, к столичным коллегам выбраны объектом изучения, во-первых, потому, что расстояние и существовавшие способы коммуникации делали переписку основным средством общения: междугородные телефонные переговоры были дороги, и домашние телефоны были далеко не у всех, личное общение было возможно только во время нечастых командировок. Во-вторых, потому, что провинциальным историкам контакты с представителями авторитетных научных центров позволяли находиться в курсе новейших тенденций и получать актуальную информацию. К тому же некоторые авторы учились в Москве в вузах и аспирантуре и защищали диссертации (Г. П. Башарин, М. М. Громыко, Н. Н. Покровский). Во второй половине XX в. авторы сравнительно свободны в высказываниях, а процессы внутри профессионального сообщества и его взаимодействия с «внешним» миром значительны и разнообразны. Кроме того, письма за этот период либо уже частично опубликованы (Профессор Башарин, 2022; Громыко, 2021; 2022; Покровский, 2022), либо доступны для изучения 3 и в то же время почти не становились предметом изучения.
Поставлены задачи: выявить содержание и характер коммуникативных практик, определить основные темы и мотивы написания писем, влияние таких факторов, как личные качества авторов и адресатов и их взаимоотношений, особенностей положения в собственном учреждении и обществе.
Нередко ученые сообщают в письмах о событиях в своей научной биографии. М. М. Громыко с гордостью пишет Яцунскому о значении школы, пройденной под руководством С. Д. Сказкина (Громыко, 2021, с. 104). Д. Я. Резун в письме Е. В. Чистяковой замечает, что его статья, посвященная Г. Ф. Миллеру, была одним из параграфов третьей главы кандидатской диссертации, но не вошла в опубликованную позже монографию 4. Из письма Н. Н. Покровского от 11 августа 1965 г. М. Н. Тихомирову становится известно о первом прикосновении автора к ставшей для него судьбоносной теме: «Марина Михайловна Громыко… поручила знакомиться с литературой по сибирскому расколу, в значительной мере в связи с собирательской работой» (Покровский, 2022, с. 300). З. Я. Бояршинова, сообщая В. И. Шункову 22 февраля 1954 г. о начале работы над историей Томска в XVIII в., признавалась: «Материалов по XVIII веку у меня очень мало». Ее вопросы («Может быть, Вам известен архив Томской воеводской канцелярии XVIII в. Где находится и что собою представляет? Имеет ли смысл выезжать в Москву или Тобольск?») 5 позволяют предполагать, что это был первый приступ к новой теме – ранее она изучала преимущественно XVII век. Письма Г. П. Башарина известным московским ученым пронизаны, особенно в 1950–1960-е гг., темой борьбы за возвращение честного имени, достигнутого в науке положения. В 1952 г. Башарин был обвинен в «буржуазном национализме», исключен из партии, лишен ученых степеней и уволен [Бухерт, 2022, с. 4–6].
В письмах имеются многочисленные сведения делового характера, фигурируют обычные для ученых темы – участие в научных конференциях, возможности получения командировок, публикаций. Есть и специфические вопросы. М. М. Громыко и Н. Н. Покровский обращались с просьбами подыскать квалифицированных специалистов для нового научного центра. Громыко запрашивала у Яцунского «подходящие кандидатуры дельных и способных людей» (Громыко, 2021, с. 101, 102). Покровский просил С. О. Шмидта: «Быть может, перебрав в уме Вашу картотеку непристроенных талантов, Вы найдете кого-либо, скажем, из былых выпускников Историко-архивного? Только нужен действительно знающий человек и не равнодушный» (Покровский, 2022, с. 314).
М. М. Громыко пишет о рецензировании работ сотрудников, о работе над «Историей Сибири». В ноябре 1960 г. она благодарила Б. Б. Кафенгауза за присылку главы Н. М. Дружинина для готовившейся к изданию многотомной «Истории СССР», а также просила московских коллег принять участие в обсуждении проспекта «Истории Сибири» (Громыко, 2021, с. 99). В письме Громыко Яцунскому от 25 апреля 1961 г. говорится о ее (в результате осуществленном) намерении добиться получения библиотеки крупного специалиста по истории и источниковедению Сибири А. И. Андреева в Новосибирске, где «ее настоящее место» (Там же, с. 102). Лейтмотив писем Покровского Шмидту – поиски и находки новых памятников, организация и проведение археографических экспедиций. Сообщается об отправке отчетов об археографической работе, возможном составе Сибирского бюро Археографической комиссии, опыте организации археографической практики студентов (Покровский, 2022, с. 389, 396–398, 402). В 1969–1975 гг. освещается конфликт, вызванный доносами О. Н. Вилкова (Там же, с. 363, 370, 382–383), рассказывается о значении поддержки со стороны Президиума
СО АН СССР, Археографической комиссии АН СССР, Д. С. Лихачева. Постоянно фигурирует тема борьбы за археографическую группу, лабораторию и, наконец, сектор, содержатся благодарности за «многочисленные и столь успешные хлопоты» (Покровский, 2022, с. 364). Г. П. Башарин в письме Б. Д. Грекову от 19 июня 1944 г. сообщает о возможных темах докторской диссертации, обозначая трудности при работе над каждой (Профессор Башарин, 2022, с. 11–12). Позже в письмах Н. М. Дружинину он рассказывал о своем новом положении – переходе в университет, назначении заведующим кафедрой, а затем и деканом (Там же, с. 86–87, 104).
При рассмотрении эпистолярия историков как канала научной коммуникации выясняется, что одна из частых тем – сообщение результатов научного исследования, а иногда и рассказ о ходе научного поиска, движении научной мысли.
Так, в одном из писем М. М. Громыко В. К. Яцунскому мы находим обоснование логики рассуждений, описание системы осуществленного ею источниковедческого анализа, характеристику творческих сомнений, поисков и решений во время работы над ставшим классическим трудом по аграрной истории Сибири [Громыко, 1965]. Марина Михайловна писала старшему коллеге и о том, как менялась структура монографии: «…начав шесть лет назад изучение состояния зап[адно]-сиб[ирского] земледелия в XVIII в. и положения отдельных групп хлебопашцев, я вскоре убедилась в том, что нельзя решать эти вопросы, не представив сначала общую картину количества, размещения и состава населения этой окраины. Потому принялась за демографию. Вот и получилась сейчас работа из двух частей (1 – население; 2 – земледельческое освоение и категории хлебопашцев)» (Громыко, 2021, с. 104–105).
Д. Я. Резун в письме Е. В. Чистяковой описывает методику своей работы: «У меня в одной большой тетради собраны все конспекты моих замечаний к вашим работам и каждую вашу работу ждал с большим интересом. Конспектировал, наводил справки, рылся в другой литературе, спорил, делал свои замечания, соглашался с Вами, добавлял новые аргументы к вашей позиции и т. д. Для меня это великолепная школа! Особенно мне близки два ваших тезиса – о классовой борьбе городов как новой ступени в этом процессе, и “обмирщении” исторической мысли XVII в., когда в историю начинает проникать человеческая личность со всеми своими житейскими интересами и заботами» 6. Он подчеркивал особое значение статьи Е. В. Чистяковой «о формировании новых принципов исторического повествования», которая послужила «одной из отправных точек при анализе городового летописания» 7.
Н. Н. Покровский делился с С. О. Шмидтом мнением о макете одного из томов «Истории СССР с древнейших времен до наших дней»: «…я надеялся, что столь широко объявленная работа будет более цельной и, главное, более богатой фактическим материалом. От уровня вузовского учебника здесь не очень-то ушли» (Покровский, 2022, с. 313). В другом письме анализируется рукопись позже опубликованной статьи С. О. Шмидта о М. Н. Тихомирове [Шмидт, 1966]. Подчеркивается особый интерес к сюжетам, связанным с личными воспоминаниями Шмидта и использованием архивных материалов. Он советует «сказать еще о двух вещах в археографическом плане: о работе М[ихаила] Н[иколаевича] по описанию (а не только сбору) аксаковских и вообще самарских рукописей и об организации экспедиций в Сибирь от Археографич[еской] комиссии… о пристальном внимании М[ихаила] Н[ико-лаевича] к архитектурным реставрационным работам последних лет… о глубоком интересе М[ихаила] Н[иколаевича] к южнославянской и византийской тематике» (Покровский, 2022, с. 330–331).
Г. П. Башарин в письмах Н. М. Дружинину передавал свои соображения относительно полученного сборника документов [Крестьянское движение…, 1959], излагал взгляды на социально-экономический строй Якутии, высказывал предложения о возможных публикациях некоторых документов о Якутии в очередном томе (Профессор Башарин, с. 83–86). В пере- писке более позднего времени, когда положение Башарина как доктора наук уже было восстановлено, разворачивается настоящая научная дискуссия. Дружинин критиковал своего корреспондента за недооценку роли в истории Якутии и негативную характеристику предпринимателей-меценатов и ссыльных народников, защищал обвиняемых Башариным историков А. И. Андреева и З. В. Гоголева и призывает решать научные проблемы «в спокойном научном деловом споре, не приклеивая политических ярлыков» (Профессор Башарин, с. 118– 125). «Я, как старший товарищ, – пишет академик, – хочу дать Вам дружеский совет: продумайте еще раз всю свою аргументацию… и сохраните товарищеский тон в начатой дискуссии. Ваши аргументы будут убедительны только при двух условиях: 1) если они будут вполне точными и 2) если будут устранены политические обвинения по адресу Ваших противников». Он усовещивает: «Вы сами испытали на себе влияние этих несправедливых политических обвинений. Зачем продолжать применение тех же приемов к сторонникам иных научных воззрений, чем Ваши?» (Там же, с. 124–125). В обширном ответе Башарин отстаивает свою точку зрения (Там же, с. 126–139), Дружинин, возвращаясь к обсуждению поставленных вопросов, предостерегает против упрощенных подходов (Там же, с. 140–144).
Не всегда ученые удерживаются в рамках сугубо научной и / или деловой коммуникации, порой в их письмах прорываются эмоции, сказывается характер автора. Так, из письма М. М. Громыко В. К. Яцунскому следует, что старший и более опытный коллега обидел ее предположением о переоценке ею достоверности губернаторских отчетов. Вызванное этим возражение было эмоциональным: «О себе судить трудно, но полагаю, что критическому отношению к источникам меня научил С. Д. Сказкин восемнадцать лет назад, когда студенткой второго курса я работала в его семинаре по аграрной истории Европы, не говоря уже о дальнейшей работе над дипломом и диссертацией у него же» (Громыко, 2021, с. 104–105). В суховатом письме З. Я. Бояршиновой В. И. Шункову сквозит неприкрытая обида на коллег: «А с моей докторантурой получилось скверно – задержали местные товарищи высылку дела» 8.
В письме к Е. В. Чистяковой Д. Я. Резун жалуется на О. Н. Вилкова, который пригласил в очередной сборник по истории сибирских городов авторов, которые с «профессиональной точки зрения совсем не годятся для науки… их присутствие будет только позорить эту серию». В результате все те, кто «до этого вместе с ним выпустили 4 сборника – я, Курилов, Люцидарская, – потребовали, чтобы нам дали возможность ознакомиться с этими тремя-четырьмя работами. Тогда-то и поднялся крик о том, что мы не ценим своих учителей, а он как редактор сам решает, кого брать, а кого выкидывать из сборника. Тогда, естественно, мы все трое отказались от участия в этом сборнике по историографии и источниковедению, хотя, сами понимаете, мне эта тематика интересна, и даже осмелюсь сказать, что именно в этой проблематике я всё же специалист… Мне горько говорить об этом… Горько и обидно, обидно за него, за себя и за дело» 9.
Очень часто в письмах так переплетена информация научного и делового характера, что отделить одну от другой почти невозможно. В письмах Покровского Шмидту подробно излагаются соображения о подготовке к публикации «Судного списка Максима Грека», приводится план-проспект издания и варианты его оформления, содержится просьба к Шмидту стать ответственным редактором (Покровский, 2022, с. 364, 367–369, 371, 372, 380–381). Некоторые идеи важны и для подготовки нового издания.
В письме С. Д. Сказкину М. М. Громыко просит учителя стать ответственным редактором своей новой монографии [Громыко, 1975] и коротко, но полнее и подробнее, чем в официальной аннотации, излагает ее содержание. Она указывает, что в книге характеризуется кре- стьянская агротехника, перечисляет важнейшие источники – «сибирские ответы на анкету Географического общества 1847 г. (привлекла их из архива Географического Общества в Ленинграде, опубликованные и неопубликованные описания наблюдателей и путешественников, материалы местных фондов, исходящие от самих крестьян (мирские приговоры, решения волостных судов и пр.)». Кроме того, имеется важная для автора мысль о том, что крестьяне руководствовались православным календарем (Громыко, 2022).
В ряде писем, посвященных борьбе с выдвинутыми против него обвинениями, Башарин излагал в кратком, а иногда и самом общем виде, свои научные взгляды. Так, в письмах А. М. Панкратовой и Н. М. Дружинину коротко передан смысл критических замечаний на его переработанную докторскую диссертацию и собственных возражений (Профессор Башарин, 2022, с. 37–39, 54–56, 58–59). В письме В. И. Шункову Г. П. Башарин сообщал об отправке ему новой редакции диссертации, подвергшейся разгромной критике, в том числе и со стороны адресата, излагал характер переработки, каялся, что стремился «исправить свои ошибки, окупить свою вину трудом, делом», и признавал – искренне или нет – справедливость сделанных ранее Шунковым критических замечаний «относительно значения присоединения Якутии к России, земледелия, уровня развития якутского общества в XVIII–XIX вв. и классовой борьбы в улусах» (Там же, с. 25).
Естественно, содержание писем коррелирует со статусом авторов и характером их взаимоотношений с адресатами.
По мере того, как меняется положение М. М. Громыко в Сибирском отделении (она фактически возглавила группу историков, изучавших дореволюционный период), претерпевает эволюцию и содержание ее обращений к московским коллегам. В них всё чаще фигурируют пожелания о рецензировании статей сибиряков, предлагаются кандидатуры возможных участников аграрных симпозиумов из Новосибирска и других сибирских городов (Громыко, 2021, с. 100–102). В письмах Н. Н. Покровского С. О. Шмидту в 1970-е гг. появляются соображения и рассуждения о задачах и условиях дальнейшего развития археографии, о тяжелом положении в Тобольском государственном архиве (Тобольский филиал Тюменского областного архива) и необходимости вмешательства республиканских органов (Покровский, 2022, с. 424–426). В эмоциональном письме З. Я. Бояршиновой ее научному руководителю С. В. Бахрушину Зоя Яковлевна, сетуя на промедление с защитой кандидатской диссертации, вызванное, в числе прочих причин, и неполучением отзыва Бахрушина, употребляет такие обороты: «Я потеряла уж всякую надежду», «Очень прошу Вас ускорить чтение моей рукописи, составление отзыва и оформление моего допуска к защите… и выслать мне вызов на защиту» 10. Ответ многоопытного Бахрушина выдержан в снисходительном и даже несколько насмешливом тоне: «…я – не обижайтесь на меня – улыбнулся на Вашу мечту защитить Вашу диссертацию в этом году. Ведь публикацию надо дать за 3 недели до защиты, а предварительно предстоит ее прочесть мне, обсудить в Секторе, и получить отзывы двух оппонентов. Всё это делается очень медленно. <…> Не огорчайтесь, ничего тут не поделаешь» 11. Письма Башарина к А. М. Панкратовой в наибольшей степени нагружены изложением всех перипетий борьбы, рассказами об обвинениях, врагах, поисках союзников и покровителей в высших партийных инстанциях (Профессор Башарин, 2022, с. 15–17, 20–23, 27–46 и др.). Панкратова была не только историком, но и членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР. Эти письма – канал деловой информации, связанной с такой частью историографического быта советских историков, как отношения с властью. Подробность изложения, упоминание содержавшихся в письмах к Панкратовой реалий позволяют предполагать ее полную информированность и включенность в ситуацию.
Примером переплетения научной и научно-организационной проблематики может служить обсуждение Покровским в переписке с Эйдельманом тем статей в сборнике «Пути в незнаемое» и журнале «Знание – сила». Наряду с такими вопросами, как сроки, темы, замечания редактора, в письмах излагается суть поднимаемых проблем (Покровский, 2022, с. 409). В 1981 г. Николай Николаевич предлагал другу: «…за одно дело надо совместно взяться – за этих оренбургских казаков, коих сквозь строй гоняли, роняя шпицрутены» 12. Через несколько лет появилась большая, в двух частях, статья Покровского на эту тему [Покровский, 1984; 1985], в которой приводилось легендарное утверждение источника о том, что император якобы повелел «бити, не отделя локтя», а генерал Перовский приказал бить «от руки» [Покровский, 1984, с. 130].
В письмах историков есть, разумеется, и личная информация. Иногда она тесно переплетается с деловой, особенно в письмах друзьям. Покровский писал Эйдельману и о состоянии здоровья, быте, различных событиях в жизни, в том числе общественно-политических, тяжело переживавшейся кончине жены, Зои Васильевны Бородиной: «А вот к происшедшему 26-го августа никак не привыкнуть, и чем дальше – тем труднее. Конечно, все рабочие планы сорвал. <…> Выдержал изрядный бой вокруг здешних попыток “найти общий язык” с “Памятью”. И хотя статья моя в “Известиях” об этих делах была сверху снята из уже сверстанного и подписанного номера от 20 октября, кое-какие бои местного значения здесь только что удалось выиграть. Но ты знаешь, до чего же абсолютно все дела, которые раньше интересовали и утешали, кажутся бессмысленными» 13.
Таким образом, письма служили довольно эффективным каналом коммуникации между сибирскими и столичными историками. Он использовался для передачи научной и научноорганизационной, а иногда и личной информации. Сибирские ученые сообщали коллегам о проблемах и успехах, о ходе и результатах исследований, просили о содействии и помощи. В ряде случаев они получали поддержку, порой чрезвычайно важную. Обсуждались вопросы, связанные с организацией конференций, темами выступлений, решались вопросы сотрудничества и рецензирования, подготовки публикаций. Московские ученые, по преимуществу старшие по возрасту и статусу, нередко выступали в роли референтной группы, что в значительной степени определяло специфику писем к ним.
Список литературы Письма историков второй половины XX века как канал научной коммуникации (на примере писем из Сибири в столицу)
- Бухерт В. Г. Предисловие // Профессор Башарин: переписка с историками (1943–1989 гг.). 2-е изд., доп. Якутск: Айар, 2022. С. 4–8.
- Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII в. Русское население и земледельческое освоение. Новосибирск: Наука, 1965. 267 с.
- Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIX в.). М.: Наука, 1975. 351 с.
- Историография городов Сибири конца XVI – начала XX в. Новосибирск: Наука, 1984. 179 с.
- Корзун В. П. Профессия как жизнь. Письма действительного члена АН СССР Н. М. Дружинина и члена-корреспондента АН СССР (РАН) Е. И. Дружининой // Исторический архив. 2019. № 2. С. 194–197.
- Корзун В. П., Мамонтова М. А., Свешников А. В. Историк в собственных письмах: зеркало или мир зазеркалья? (Несколько замечаний о специфике писем русских историков XIX–XX веков в качестве историографического источника) // Письма русских историков (С. Ф. Платонов, П. Н. Милюков). Омск, 2003. С. 3–36.
- Крестьянское движение в России в XIX – начале XX века / Гл. ред. Н. М. Дружинин. М.: Соцэкгиз, 1959. 882 с.
- Кучина Т. Г. К вопросу об изучении эволюции эпистолярных источников второй половины XIX – начала XX в. // Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исторических дисциплин. М., 1984. С. 40–48.
- Матханова Н. П. Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX в.: проблемы социальной стратификации. Новосибирск: Сиб. хронограф, 2002. 250 с.
- Митрофанов В. В. Спорные проблемы истории Сибири в отзыве С. В. Бахрушина на диссертацию З. Я. Бояршиновой // Вестник Том. гос. пед. ун-та. 2016. № 9 (174). С. 71–78.
- Покровский Н. Н. Биография оренбургского казака // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984. С. 103–130.
- Покровский Н. Н. Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985. С. 135–163.
- Редин Д. А. Русская административная история Нового времени и неофициальная переписка: источниковедческие размышления // Новое прошлое. 2019. № 3. С. 116–127.
- Резун Д. Я. Городовые летописи как источник по истории социальной борьбы и культуры городов Сибири XVII – начала XVIII в. // Источники по культуре и классовой борьбе феодального периода. Новосибирск, 1982а. С. 17–47.
- Резун Д. Я. Очерки истории изучения сибирского города конца XVI – первой половины XVIII века. Новосибирск: Наука, 1982б. 220 с.
- Сидорова Л. А. Б. А. Романов и Е. Н. Кушева в 1951 году: незавершенный спор историков // Российская история. 2013. № 2. С. 155–170.
- Чистякова Е. В. Формирование новых принципов исторического повествования // Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – начало XVIII в.). М., 1971. С. 171–184.
- Шмидт С. О. Памяти учителя (Материалы к научной биографии М. Н. Тихомирова) // Археографический ежегодник за 1965 год. М., 1966. С. 7–30.
- Громыко М. М. [письма начала 1960-х гг.] // Матханова Н. П. Письма М. М. Громыко начала 1960-х гг. как пример коммуникативных практик сибирских и столичных историков // Гуманитарные науки в Сибири. 2021. № 1. С. 99–106.
- Громыко М. М. [Письмо С. Д. Сказкину] // Матханова Н. П. М. М. Громыко в первые сибирские годы: основные направления деятельности // Традиции и современность. 2022. № 29. С. 9–10.
- Покровский Н. Н. Письма и воспоминания / Отв. ред. Н. П. Матханова, Л. В. Титова. СПб.: Нестор-История, 2022. 720 с.
- Профессор Башарин: переписка с историками (1943–1989 гг.). 2-е изд., доп. / Сост. В. Г. Бу- херт. Якутск: Айар, 2022. 299 с.