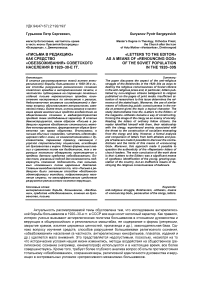"Письма в редакцию" как средство "обезбоживания" советского населения в 1920-30-е гг
Автор: Гурьянов Петр Сергеевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается такой аспект антирелигиозной борьбы большевиков в 1920-30-е гг., как способы разрушения религиозного сознания советских граждан в антирелигиозной печати, в частности публикуемые на страницах печатных изданий письма нерелигиозных граждан, воинственно настроенных по отношению к религии. Недостаточное внимание исследователей к данному вопросу обусловливает актуальность заявленной темы. Более того, использование в настоящее время аналогичных средств воздействия на общественное сознание в медиапространстве придает теме злободневный характер. В статье демонстрируется, каким образом «Письма в редакцию» журнала «Безбожник» становились методом конструирования, формирования образа духовенства как врага общества. Вчитываясь в письма обычных сограждан, читатель идентифицировал себя с ними, их взаимоотношениями с духовенством, переживал тревогу, связанную с угрозой строительству социализма, исходящей от духовенства и мирян. Однако формальный анализ и сравнение писем как безбожников, так и верующих позволили обнаружить противоречия и пределы данного средства «обезбоживания». Более того, указанный подход дал возможность подвергнуть сомнению подлинность так называемых «покаянных» писем церковных деятелей. Главным выводом является то, что «Письма в редакцию» были значимым способом «безбожной» идентификации молодого, подрастающего населения страны, но малоэффективным средством разрушения религиозного сознания верующих.
Антирелигиозная борьба, большевизм, "безбожник", средства "обезбоживания", гонения на духовенство, письма
Короткий адрес: https://sciup.org/149134863
IDR: 149134863 | УДК: 94(47+57):2“192/193” | DOI: 10.24158/fik.2020.8.17
Текст научной статьи "Письма в редакцию" как средство "обезбоживания" советского населения в 1920-30-е гг
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что исследование антирелигиозной борьбы большевиков в 1920–30-е гг. в СССР все еще носит неполный характер. Как правило, интерес ученых вызывают антирелигиозная политика большевиков в отношении духовенства и верующих в общероссийских и региональных масштабах, ее содержание и формы (репрессии, закрытие храмов, изъятие церковных ценностей, пропаганда и др.), законодательная база. Однако вопросу изучения средств, способов разрушения большевиками религиозного сознания, «обезбоживания» населения (в частности, антирелигиозных кинофильмов, плакатов, изданий и др.) уделяется мало внимания. Это представляется недопустимым, поскольку, несмотря на то что исторические условия нашей жизни изменились, методы воздействия на общественное (религиозное) сознание (например, кинематограф) используются и в настоящее время, все более совершенствуясь. Кроме того, требует более глубокого анализа вопрос об опыте противостояния тотальному «обезбоживанию», сохранения веры, религиозной идентичности духовенства и верующих в экстремальных условиях «репрессивного механизма» большевиков.
Предметом исследования являются письма в редакцию журнала «Безбожник», выпускаемого в СССР с 1923 по 1941 г. и являвшегося одним из главных печатных изданий общественной организации Союза воинствующих безбожников (СВБ), существовавшей с 1925 по 1947 г. Одним из немногих удачных примеров сочетания аналитики писем и «красноречивых свидетельств» служит сборник коллектива авторов «XX век: Письма войны» [1]. Можно сказать, что письма, особенно в экстремальных условиях войны, тюрьмы и т. п., выступают способом самоопределения личности, переживания, переосмысления опыта, самоидентификации. Кроме того, можно предположить, что письма, представленные в печати, становятся средством идентификации читателя, конституирования его личности путем со-переживания, переосмысления опыта письма. Поэтому «Письма в редакцию» в антирелигиозной печати можно рассматривать как средство «обезбоживания» читателей.
Следует отметить, что такая постановка проблемы определяет и методологические установки исследования. Опираясь на наработки авторов сборника «XX век: Письма войны», можно увидеть в письмах «не столько дополнительное информационное пособие, позволяющее "прояснить детали" и "дополнить картину" того или иного события, сколько самостоятельный дискурсивный феномен» [2, с. 13]. Метод «исторической поэтики» акцентирует внимание на целостности текста, формальной стороне писем и предполагает дистанцирование от «биографического» подхода к письмам. Все это дает возможность изучать «отношения субъективации» (Ж. Деррида) участников переписки, формирование самого человека письма, «опыт субъективации на границе выразительных возможностей» [3, с. 15].
Гипотеза исследования заключается в том, что успехи антирелигиозной пропаганды большевиков зависели от выбора ее цели. Пропаганда была нацелена на негативизацию образа духовенства, дискредитацию его социальных действий, а также религиозного мировоззрения. Однако разрушение религиозной идентичности носило внешний, поверхностный характер. Религиозный опыт, практики сохранения религиозной идентичности духовенства и верующих затрагивались в меньшей степени.
Содержательный анализ способов антирелигиозной агитационно-пропагандистской деятельности большевиков позволяет увидеть схожие черты. Так, при помощи кинематографа конструировался негативный образ духовенства и верующих. Им приписывались такие черты, как «лихоимство, жадность, лицемерие, разврат священнослужителей - попов, монахов» [4, с. 1920] (кинофильмы «За монастырской стеной» (1928), «Овод» (1928), «Старец Василий Грязнов» (1924)). Как мы отмечали ранее, «контрреволюционная» деятельность духовенства и верующих, поддержка ими внешних врагов революции, эксплуатация неимущих масс демонстрировалась в картинах «9 января. "Кровавое воскресенье"» (1925), «Его превосходительство» (1927) и др. «Мошенничество» духовенства, эксплуатирующего невежество масс, разоблачается в ленте «Опиум» (1929) и т. д. [5].
Схожий негативный образ духовенства и верующих конструировался и в «Письмах в редакцию» «Безбожника». Так, о противостоянии местного населения «обманщику» и «вору» мулле говорится в письме жителя села Кушлар (Куткашенский район, Азербайджан). Сообщается, что жители изгнали муллу Азима и жизнь изменилась, а именно «появились новые дома, школа, изба-читальня», женщины стали учиться грамоте и «по-стахановски» работать [6, с. 16].
Письма в редакцию «Безбожника» выдержаны в тревожном ключе. Их авторы опасаются того, что церковнослужители активизировались и стремятся «восстановить свой былой авторитет» [7, с. 16]. При этом священники подделывают подписи в поддержку открытия храмов, вызывая недовольство бдительных граждан. Особое недоверие внушают авторам так называемые «письма с неба», распространяемые церковнослужителями, в которых рекомендуется молиться и передавать эти «божественные послания» окружающим. Один из пионеров, недовольный тем, что из-за подобных писем их ряды стали редеть, отравил в редакцию следующий призыв: «Это дело нужно разобрать. Ну, а как вы думаете, можно ли это допустить или нет?» [8, с. 17]. Тревога авторов писем обусловлена и тем, что антирелигиозная работа СВБ на местах была поставлена очень слабо, вследствие чего духовенство могло снова открывать церкви, принимать участие в выборах в органы власти, а также выбирать «послушных» им людей и мешать строительству социализма [9, с. 18].
«Вражеская» деятельность духовенства демонстрировалась в письмах в разных направлениях. Это относится не только к открытию храмов, но и к критике работы сельсоветов «с целью подорвать авторитет работников этих учреждений», в том числе «за некультурный и грязный вид помещений», а также для того чтобы самим принять участие в выборах депутатов в советы трудящихся или повлиять на выбор селянами «послушных» священникам людей. В одном из посланий приводится заявление священника из села Башкирской АССР односельчанам: «Придет время выборов - сядем на ваше место. Как пить дать...» [10, с. 17]. В другой критике деятельности сельсовета одного из сел Воронежской области священник предлагает избрать в сельсовет людей, «угодных Богу», рекомендуя себя в председатели, поскольку на прежний состав сельсовета «божья благодать» не снисходила [11].
Духовенство пыталось привлечь на свою сторону и учителей. Так, в одном из сел Ярославской области заведующая школой разрешила священнику провести на Пасху молебен в школе. В селе Высокие Поляны Московской области местный священник двух учителей «напоил пьяными и повел в церковь», чтобы сельчане увидели и последовали их примеру [12, с. 11].
В «Письмах в редакцию» также вскрывалось, как духовенство стремилось оказывать влияние и на активистов колхозов. Разумеется, неудачи колхозного строительства связывались с деятельностью «церковников», которые во время работ проводили обряды, вели разговоры против советской власти, срывали проведение хозяйственных работ [13, с. 11]. Поскольку, как правило, духовенство не выступало против советской власти, то следовало обнаруживать признаки «врага» в их действиях. Так, товарищ Агеев из села Нижний Кисляй Воронежской области упоминает о «божественных письмах», в которых сообщалось: «В субботу вечером и воскресенье не работайте, а кто будет работать, накажу тремя громами и сделаю между вами кровопролитие. <…> Кто будет переписывать и читать письмо по нескольку раз, тому будут прощены все грехи» [14, с. 12].
Только негативизации образа духовенства и верующих для эффективной антирелигиозной пропаганды было недостаточно. Необходимо было разрушить религиозное сознание в целом. Для образца такого «разрушения», отказа от веры, религиозного мировоззрения редакция «Безбожника» использовала «покаянные» письма «переосмысливших» свой опыт церковных деятелей – священника А.В. Рябцовского (1881–1968) (в обновленчестве – «архиепископ Калужский и Боровский») и бывшего «митрополита» Ленинградской обновленческой епархии Н.Ф. Платонова (1889–1942).
А.В. Рябцовский в письме сообщает, что всю жизнь был «церковником» и «не мыслил возможности устроения справедливой и радостной жизни вне церкви». Саму жизнь он понимал как «царство божие». Однако когда он был назначен архиереем, то «вместо идейного, пламенного горения нашел пустоту, чиновничество, бюрократизм, честолюбие, властолюбие и противную духу церковного учения жизнь». Одновременно с этим «успехи социализма» заставили священника задуматься о подлинной «правде». Взирая на молящихся, он стал думать, что «правильно будет, если праздные, молитвенные часы обратить в трудодни». Критическая мысль «архиепископа» привела к выводу, что единственно возможное царство – это «царство социализма», а все, что нужно для организации такого царства, – «проект Сталинской Конституции… единственный закон, способный дать человечеству удовлетворение, радость и счастье». Бывший «архиепископ» решил отдать все свои силы служению Конституции и перейти в ряды трудящихся [15, с. 18].
В рамках статьи нет возможности рассмотреть судьбы этих двух церковных деятелей, характер их взаимоотношений с советской властью, поэтому мы ограничились лишь формальной стороной их «раскаяния», а именно анализом письма в пропагандистском поле «Безбожника». Есть основания полагать, что данные послания, как и многие другие письма церковных деятелей, были сочинены в недрах ОГПУ-НКВД. Эти «покаянные письма» обнаруживают декларативный характер, т. е. затрагивают лишь формальную сторону процесса «обезбоживания» священников, схематично ее можно представить следующим образом: служение в Церкви – обнаружение противоречий в организации церковной жизни – критическое переосмысление своего опыта и церковного учения сквозь призму учения классиков марксизма-ленинизма – идентификация себя с пролетарием, строителем самого совершенного общества – социализма. Такой шаблон «обез-боживания» предлагается и читателям «Безбожника». Однако настораживает тот факт, что в этих письмах нет даже упоминания Бога. Имен Бога нет в не-религиозном сознании большевиков, но религиозное сознание конституируется в общении с Богом.
Целесообразно сравнить рассмотренные образцы «раскаянных» писем с другим типом письма, а именно письмом как способом «сохранения себя», своей идентичности (религиозной) в условиях тотального «обезбоживания», экстремальных условиях лагерной жизни на примере посланий священника Анатолия Жураковского (1897–1937) [17]. В обращении к жене, общине он пытается пережить, переосмыслить и как-то символизировать свой жизненный опыт. В начале лагерного пути для сохранения себя, своей личности он просит жену прислать ему рясу, икону, псалтырь и даже карманные часы для поддержания прежнего ритма жизни [18, с. 72]. В более поздних письмах о. Анатолия мы можем обнаружить опыт сохранения себя, сложившийся в православной традиции, согласно которому духовная жизнь состоит из двух планов: личного и сверхличного, Божьего. Происходящее в душе верующего сравнивается с Таинством Евхари- стии. Именно здесь происходят молитвы, священнодействия, которые выступают лишь предвосхищением «явления тайны Богорождения в душе» [19, с. 91]. Путь восхождения к Богу проходит через отречение «от цепей и от призраков скорби». В рамках «работы над собой», причастия, идентификации с Божественной Личностью можно отметить и «Божественную литургию», которую о. Анатолий совершал у себя в комнате [20, с. 80].
Суровые условия жизни заставляли о. Анатолия заботиться о своем телесном существовании (одежде, еде, сне и др.). Однако никогда он не забывал о «сверх-личной» жизни, взывая в письмах: «Слава Богу, так говорит все существо мое, и не говорит, а поет каждой своей частицей – Слава Богу!» [21, с. 126]. Тема строительства «внутреннего человека», «внутреннего храма» пронизывала его письма, что позволяло противостоять предельным условиям окружающей жизни.
Ни о конституирующей личность связи с Богом, ни о «внутреннем человеке», «внутреннем храме» нет и речи в «покаянных» письмах «архиепископа» А.В. Рябцовского и «митрополита» Н.Ф. Платонова, как будто они ничего об этом не знали. Поэтому антирелигиозная политика большевиков, в частности антирелигиозная пропаганда, носила поверхностный, формальный характер (лишение духовенства внешних атрибутов – «рясы, икон, псалтырей», препятствие совершению богослужений при помощи закрытия храмов, разрушение общин и т. п.). Разрушить существующую связь духовенства и верующих с Богом большевикам так и не удалось. Однако они могли физически уничтожать представителей духовенства и мирян, что и стало итогом их антирелигиозной политики в 1937–1938 гг.
Тем не менее следует отметить, что формирование образа духовенства как врага среди нерелигиозного населения было значимым, но как средство разрушения религиозного сознания среди верующего населения – было незначительным. Да, большевики имели своих «святых», «каноны», «ритуалы», которые могли стать частью «новой религии» строителей социализма/ком-мунизма, но все это не могло вытеснить традиционные религии.
Таким образом, «Письма в редакцию» в антирелигиозной печати, в частности в журнале «Безбожник», стали довольно действенным средством «обезбоживания», как правило, молодого поколения страны и малоэффективным способом разрушения религиозного сознания верующего населения.
Ссылки и примечания:
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы "Письма в редакцию" как средство "обезбоживания" советского населения в 1920-30-е гг
- XX век: Письма войны / под ред. С. Ушакина, А. Голубева. М., 2016. 840 с
- Голубев А., Ушакин С. Экс-позиция письма: о правилах чтения чужой переписки // XX век: Письма войны. С. 8-21.
- Голубев А., Ушакин С. Экс-позиция письма: о правилах чтения чужой переписки // XX век: Письма войны. С. 15.
- Полтевский А.Н. Антирелигиозная фильма. М., 1930. 32 с
- Гурьянов П.С. Антирелигиозная борьба большевиков в 1920-1930-е гг. при помощи кино // Общество: философия, история, культура. 2018. № 8 (52). С. 131-135. DOI: 10.24158/fik.2018.8.25