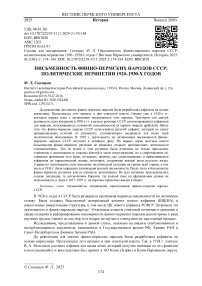Письменность финно-пермских народов СССР: политические перипетии 1920–1930-х годов
Автор: Синицын Ф.Л.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: К 100-летию Коми-Пермяцкого округа
Статья в выпуске: 2 (69), 2025 года.
Бесплатный доступ
До революции для многих финно-пермских народов были разработаны алфавиты на основе кириллицы. Продолжался этот процесс и при советской власти. Однако уже в 1920-х гг. возникли первые идеи о латинизации письменности этих народов. Триггером для данной активности стало внедрение в 1920-х гг. в разных регионах СССР латинизированных алфавитов для народов, пользовавшихся «сложной» письменностью (в первую очередь арабской). Ввиду того что финно-пермские народы СССР использовали русский алфавит, который не имеет принципиальных отличий от латинского, «латинизаторы» выдвинули для своих идей политические обоснования. В 1930 г. деятельность по латинизации письменности финно-пермских народов СССР вступила в активную фазу. На первых порах местные власти большинства финно-пермских регионов не решались открыто противостоять деятельности «латинизаторов». Тем не менее в этих регионах были отмечены не только прохладное отношение к латинизации со стороны властей и части интеллигенции, но и сопротивление ей, главными причинами чего были, во-первых, наличие уже существовавших и применявшихся алфавитов на кириллической основе, во-вторых, сохранение важной роли русского языка. Ударом по латинизации стало изменение политической ситуации на уровне всей страны, в том числе в 1930 г. была запрещена латинизация русской письменности. После этого в большинстве финно-пермских регионов власти отринули латинизацию. Во всех регионах прослеживались схожие тенденции, за исключением Карелии, где родной язык на официальном уровне не использовался, и лишь в 1937–1939 гг. на короткое время был введен в оборот.
Письменность, латинизация, кириллизация, финно-угорские народы, СССР
Короткий адрес: https://sciup.org/147250820
IDR: 147250820 | УДК: 94(81.26) | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-2-174-184
Текст научной статьи Письменность финно-пермских народов СССР: политические перипетии 1920–1930-х годов
В 1920-х годах в СССР была развернута программа перевода письменности на латинскую основу. Были созданы Всесоюзный центральный комитет нового алфавита (ВЦКНА) и аналогичные нижестоящие структуры, в том числе ЦК нового алфавита РСФСР. Затронула эта деятельность и финно-пермские народы1. Отдельные аспекты советской политики и практики в сфере создания и реформирования письменности финно-пермских народов рассмотрены в ряде научных трудов, однако до сих пор этот вопрос не изучен в совокупности, как единый процесс.
Исследование, представленное в данной статье, основано на анализе опубликованных и неопубликованных документов, выявленных в Государственном архиве РФ, Архиве РАН и Санкт-Петербургском филиале Архива РАН.
До революции для многих финно-пермских народов были разработаны алфавиты на основе кириллицы. Продолжался этот процесс и при советской власти. Так, в 1918 г. учитель В. А. Молодцов составил алфавит для языка коми, который получил название по его фамилии («молодцовский») и впоследствии был принят в АО Коми (Зырян) и Коми-Пермяцком округе.
К 1930 г. письменность на русской основе также использовалась у марийцев, мордвы и удмуртов ( Яковлев , 1930, с. 33).
Однако уже в 1920-х гг. возникли первые идеи о латинизации письменности коми и коми-пермяков (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 254. Л. 6; Д. 1239. Л. 5). На проведенной в 1929 г. в Усть-Сысольске (ныне ‒ Сыктывкар) лингвистической конференции было «в принципе решено перейти на новый латинизированный алфавит» (Алфавит Октября…, 1934, с. 100). Сторонники латиницы появились также в Вотской автономной области (АО)2. Триггерами для таких идей были достигнутый в те годы размах внедрения «нового латинизированного алфавита» для народов СССР, ранее пользовавшихся «арабской и другой сложной письменностью» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 254. Л. 6 об.; Д. 334. Л. 23; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 23. Д. 1008. Л. 2), а также начавшиеся эксперименты по латинизации русского алфавита ( Сухотин , 1930, с. 7). В число активных сторонников латинизации финно-пермских языков входили столичные и местные филологи Б. М. Гранде, И. Кельда (И. Д. Дмитриев), В. И. Лыткин, Г. А. Нечаев, И. И. Оботуров, Н. Ф. Яковлев, общественные деятели Т. Иванов, Г. Казаков, М. Каюкин и др.
Ввиду того что финно-пермские народы СССР использовали не какую-либо «сложную» письменность (например, арабскую, которая была главной мишенью советских «латинизаторов»), а русский алфавит, не имеющий принципиальных отличий от латинского, «латинизаторам» пришлось разработать для своих идей особые основания. Они провозгласили, что целью латинизации письменности финно-пермских народов является преодоление наследия «христианизации» (К вопросу…, 1931, с. 7), «русификации» и «великодержавного шовинизма». Созданные до революции алфавиты на русской основе оценивались категорически отрицательно и были заклеймены как «колонизаторско-миссионерские», имеющие «религиозное происхождение», и одновременно как «узко-националистические» (так как они были составлены для каждого этноса отдельно). Кроме того, эти алфавиты объявили «кустарными», т.е. «ненаучными». Звучали также утверждения о «насаждении русской грамотности» среди финнопермских народов (АРАН. Ф. 358. Оп. 2. Д. 188. Л. 8; Ф. 676. Оп. 1. Д. 169. Л. 21; Д. 254. Л. 22– 22 об.; Д. 351. Л. 2; Д. 352. Л. 2; Д. 1193. Л. 10–11; Д. 1205. Л. 2; Д. 1239. Л. 8; ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 124. Д. 34. Л. 150), как будто грамотность – это нечто «плохое».
Сторонники латинизации объявили «негодными» и алфавиты на основе кириллицы, разработанные после революции. Н. Ф. Яковлев назвал их «пережитком», связанным с дореволюционной «миссионерской деятельностью». Эти алфавиты тоже рассматривались как «узконационалистические» (АРАН. Ф. 358. Оп. 2. Д. 188. Л. 21; Ф. 676. Оп. 1. Д. 334. Л. 20; Д. 351. Л. 2), «искажающие язык». К «молодцовскому алфавиту» была выдвинута претензия в духе того времени – что в его создании «коми трудящиеся массы не принимали участия», и само название этого алфавита «носит на себе печать того, что он есть продукт деятельности группы, но не массы» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 254. Л. 6 об., 23, 30; Д. 351. Л. 2; Д. 1205. Л. 5–6; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 23. Д. 1008. Л. 2). «Латинизаторы» дошли даже до того, что объявили наличие у «нерусских» народов алфавита на русской основе признаком их «культурной отсталости» ( Поливанов , 1931, с. 102–103). (Однако они не объясняли, почему таким же признаком не станет принятие латиницы, ведь она тоже не была изобретением этих народов.) Еще одним манипулятивным посылом было утверждение, что до 1930-х гг. у финно-пермских народов якобы «были лишь начатки письменности» либо вообще не было своей письменности (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 814а. Л. 2; Д. 977. Л. 16).
«Латинизаторы» считали, что проблем с переобучением на латиницу не возникнет, так как процент грамотных среди финно-пермских народов «не настолько велик, чтобы он мог приостановить переход на новый алфавит». В любом случае, как объявил советский лингвист, научный сотрудник Института народов Востока Б. М. Гранде, в этой сфере не нужно было считаться с затратами на переобучение, поскольку переход на латинский алфавит – это «политически важный вопрос» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 352. Л. 40; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 23. Д. 1008. Л. 1).
К разработке нового латинизированного алфавита выдвигалось условие «учета требований марксистской педагогики, лингвистики и современной техники», в том числе
«максимальная экономность, фонетическое приближение к говору масс, простота начертаний» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 334. Л. 20–20 об.; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 23. Д. 1008. Л. 2).
Одним из главных требований была также «унификация» (т.е. сближение, объединение) алфавитов, которая имела два уровня – сначала с другими финно-пермскими народами, и затем «общесоветская» – «на основе унифицированного нового алфавита СССР». Для унификации выдвигались практические обоснования: например, то, что удмуртский язык «в отношении фонем не имеет никаких существенных отличий с языком коми-зырян и коми-пермяков», поэтому «их алфавит вполне применим и к удмуртскому языку». Было объявлено, что после унификации «облегчится изучение языков соседних народностей; создадутся возможности для большего культурного общения между трудящимися различных национальностей» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 169. Л. 21–22; Д. 334. Л. 20; Д. 351. Л. 2 об.; Д. 1200. Л. 11–12).
Вопрос об унификации стал одной из причин развернувшегося в начале 1930-х гг. противостояния между сторонниками двух вариантов финно-пермской латинизации – на основе «нового латинизированного алфавита» («яналифа»3), внедрением которого во всесоюзном масштабе занимался ВЦКНА, или на основе «яфетидологического» (или «аналитического») алфавита, разработанного академиком Н. Я. Марром. Сторонники второго варианта латинизации («марристы»), во-первых, были в принципе против тотальной унификации алфавитов. Они считали, что в основе письменности народов СССР «должен быть один алфавит, но с различными деталями… для отдельных народностей» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 351. Л. 2 об.). Во-вторых, они были принципиальными противниками «яналифа».
Наиболее острая борьба в этом отношении развернулась в Вотской (Удмуртской) АО в 1931–1932 гг. Одним из наиболее активных «марристов» был И. Кельда (И. Д. Дмитриев), удмуртский писатель и лингвист, научный сотрудник Института народов Востока в Москве. Его поддерживали удмуртский лингвист С. П. Жуйков и московский ученый Б. М. Гранде ( Алиев , 1932, с. 7). Кельда объявил, что «яналиф» – это «буржуазно-националистический алфавит» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 352. Л. 7 об.), который содержит «ряд явных и грубых ошибок» (Тезисы…, 1932, с. 91). Он считал, что «кроме яфетидологического… ни один алфавит до сих пор не являлся марксистским», и поэтому удмуртский алфавит нужно было строить не на основе «яналифа», а по образцу «абхазского аналитического алфавита академика Марра» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 352. Л. 6, 8; Д. 1200. Л. 11).
Закономерно, что «марристы» встретили жесткое сопротивление сторонников «яналифа». В декабре 1931 г. в газете «Удмурт коммуна» была опубликована статья с «разоблачением антимарксистской сущности» идей И. Кельды (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 352. Л. 19). На всесоюзном уровне было объявлено, что «аналитический алфавит» Н. Я. Марра является «нигде практически не осуществляемым и не оправдывающим себя» ( Алиев , 1932, с. 9) (действительно, например, абхазский алфавит Марра был чрезвычайно труден – имел 64 буквы, и от его использования абхазы отказались).
В итоге «марристы» отступили. И. Д. Дмитриев-Кельда был подвергнут жесткой критике в Институте народов Востока – в том числе за то, что «срывал работу по переходу на новый алфавит удмуртов» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 352. Л. 22–23). В 1932–1933 гг. он подвергся репрессиям (по другому делу). Б. М. Гранде тоже изменил свою позицию, в 1933 г. признав, что необходима латинизация удмуртского алфавита на основе «яналифа» ( Гранде , 1933, с. 60). В целом споры между сторонниками «яналифа» и «марристами» в сочетании с публичными пререканиями ослабили движение за латинизацию, нанеся ущерб его интернационалистской репутации [ Мартин , 2011, с. 284].
В сфере разработки письменности финно-пермских народов, как и в целом в национальной политике и практике в СССР, власти вели борьбу против двух «уклонов» – «великодержавного шовинизма» и «мелкобуржуазного национализма». В рамках борьбы со вторым «уклоном» проявился еще один аспект противостояния среди «латинизаторов». Представители этого «уклона» в Вотской (Удмуртской) АО ратовали за латинизацию «панфинского характера» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 1200. Л. 9), ориентируясь на Финляндию и финский язык (Иванов, 1931, с. 169). Согласно данным Г. А. Нечаева, отраженным в его записке «Латинизация у коми-пермяков Уральской области» от 7 марта 1933 г., в Коми-Пермяцком округе сторонники такого подхода выступали за «чистую латиницу» и отвергали «яналиф», назвая его «азиатчиной». В итоге этот подход был отвергнут, и была признана недопустимость «ориентации на культуру и письменность буржуазных стран – Финляндии, Эстонии, Венгрии» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 351. Л. 2 об.; Д. 1239. Л. 5, 12).
Итак, в 1930 г. деятельность по латинизации письменности финно-пермских народов СССР вступила в активную фазу. 1 марта 1930 г. в Наркомпросе РСФСР было принято постановление о создании письменности для тверских карел (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 814а. Л. 1), а 25 апреля – на совещании Ученого совета Наркомпроса был принят карельский латинизированный алфавит (ЦК ВКП(б)…, 2009, с. 278). Характерно, что при разработке карельской письменности был применен подход, резко отличавшийся от описанной выше борьбы с влиянием финского языка и письменности в других регионах, – был «учтен» финский алфавит, применявшийся в Карельской АССР (Создание…, 1931, с. 77).
Дело в том, что в Карелии сложилась особая ситуация: в качестве литературного языка был взят финский, соответственно, использовалась финская письменность (Там же, с. 77–78). Таким образом, в этом регионе фактически возникло противоречие установкам по недопустимости «иностранного влияния» на алфавиты финно-пермских народов. Закономерно, что у такого решения были противники. В частности, советский лингвист Д. В. Бубрих выступал против навязывания карелам финского языка ( Бубрих , 1932, с. 38, 40–42, 45, 47). В мае 1931 г. в газете «Правда» появилась статья, в которой создание карельской письменности было объявлено «политической необходимостью» ( А. К-в , 1931). Тем не менее финский язык в качестве официального в Карелии остался. Очевидно, эта ситуация влияла на муссирование идей об ориентации на финский алфавит в других регионах. В свою очередь, тверские карелы стали единственным оплотом для официального поддержания карельского языка в масштабах всей страны ( Бубрих , 1932, с. 46).
В Вотской АО 13-я областная партконференция, состоявшаяся в мае 1930 г., поручила проработать вопрос об удмуртском алфавите (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 254. Л. 23). Решением Коми-Пермяцкого окрисполкома в июле 1930 г. был утвержден план перевода делопроизводства на коми письменность. Работу планировалось завершить к 1 января 1932 г. [ Каменских , 2021, с. 81]. В феврале 1931 г. переход на новый алфавит был одобрен окружным съездом Советов. В сентябре 1930 г. бюро Коми обкома ВКП(б) издало постановление о «необходимости латинизировать коми алфавит». В декабре того же года 9-й областной съезд Советов подтвердил это решение. При облисполкоме была организована комиссия по латинизации коми алфавита (Алфавит Октября…, 1934, с. 93, 100). В Уральской области, в состав которой в те годы входил Коми-Пермяцкий округ, работой по латинизации занимался созданный при президиуме Уральского облисполкома Комитет нового алфавита [ Каменских , 2021, с. 81]. В 1931–1932 гг. Комитет был вовлечен в продвижение латинизации в Коми-Пермяцком округе (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 254. Л. 6 об.; ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 124. Д. 34. Л. 26 об.).
В 1931 г. к работе по латинизации финно-пермских языков подключились ВЦКНА и ЦК НА РСФСР. В январе было организовано обсуждение вопроса о латинизации письменности коми и удмуртов, на котором Н. Ф. Яковлев заявил, что «угро-финский вопрос надо ставить во всю ширину». Было решено создать «угро-финскую комиссию» с включением в нее представителей всех соответствующих народов. Комиссия выработала проект унифицированного коми-удмуртского алфавита, который в марте 1931 г. был принят научным советом ВЦКНА. В апреле 1931 г. Президиум Совета национальностей ЦИК СССР принял решение о переводе коми и удмуртской письменности на латиницу (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 254. Л. 8, 10; Д. 1200. Л. 13; ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 124. Д. 34. Л. 149).
Однако на практике дело «латинизации» двигалось слабо. В Коми-Пермяцком округе к концу 1931 г. в этом отношении не было сделано практически ничего, в связи с чем в ноябре того же года окрисполком вновь принял постановление о мероприятиях по переводу низового советского аппарата на коми письменность [ Каменских , 2021, с. 81]. В январе 1931 г. Отдел народного образования Вотской АО просил Отдел культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) и
Нижегородский крайком партии как можно скорее «узаконить» новый алфавит. В июне того же года секретариат Вотского окрисполкома вынес решение о принятии латинизированного алфавита. В регионе был создан Комитет нового алфавита. Однако в конце 1931 г. деятельность по «латинизации» в Вотской АО была признана крайне слабой (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 254. Л. 24; Д. 351. Л. 8; Д. 352. Л. 15–15 об., 20).
В 1932 г. ситуация не слишком изменилась. В ряде регионов деятельность по латинизации находилась на уровне деклараций. Так, в АО Коми (Зырян) в феврале 1932 г. Комитет нового алфавита констатировал «завершение первоначального подготовительного периода». Была поставлена задача перейти на этот алфавит в течение двух лет (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 334. Л. 20, 28). В том же году «латинизаторы» провозгласили, что «растет движение за новый алфавит среди марийцев». По предложению Марийского обкома ВКП(б) при Марийском НИИ была создана комиссия, занимавшаяся проблемой реформы алфавита. Планы «латинизаторов» предусматривали в 1932–1933 гг. переход на новый алфавит не только марийцев, но и мордвы (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 334. Л. 23; ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 124. Д. 34. Л. 149–150).
Реальные результаты в 1932 г. были достигнуты только, пожалуй, в отношении малочисленных народов – вепсов и ижорцев, латинизированные алфавиты для которых были разработаны и утверждены Научным советом ВЦКНА в апреле 1932 г. (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 814а. Л. 2).
В других регионах было отмечено прохладное отношение властей к «латинизации». В Коми-Пермяцком округе в установленный ранее срок перевод всего делопроизводства на латинизированный алфавит оказался невозможен, что было отмечено в постановлении окрисполкома, принятом в марте 1932 г. Этот же документ обозначил новый срок для перехода на латинизированный алфавит – к 1 января 1933 г. Однако на совещании руководителей окружных организаций в апреле 1933 г. было признано «отсутствие сдвига» в этом вопросе. Принятые в 1933 г. меры вновь не привели к нужным результатам, что констатировало состоявшееся в январе 1934 г. окружное совещание [ Каменских , 2021, с. 81, 83–84]. Около середины 1930-х гг. разговоры об административной комизации в округе полностью прекратились [ Лаллукка , 2020, с. 93].
Удмуртский окрисполком в декабре 1932 г. заявил, что не имеет возражений против перехода на латинизированный алфавит. Однако к этому времени в регионе для «латинизации» практически ничего не было сделано. Б. М. Гранде, побывавший в командировке в Ижевске в ноябре – декабре 1932 г., выяснил, что истинная цель местных властей – «отмахнуться от латинизации». Удмуртский комитет нового алфавита все это время «бездействовал и фактически распался», вследствие чего было принято решение о его реорганизации, а также об общей активизации работы по «латинизации». Характерно, что с целью форсировать эту деятельность для нее были поставлены нереальные цели: в течение 1933 г. предполагалось переобучить на новом алфавите 250 тыс. человек, тогда как опыт других народов показал, что «если в течение первого года удастся переобучить… 50–75 тыс. человек, то это должно будет считать крупным достижением» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 264. Л. 3; Д. 351. Л. 8; Д. 352. Л. 36– 36 об., 38, 39 об.). В результате в Удмуртии так и не были сделаны шаги к реальному переходу на латинскую письменность: только шли дискуссии на страницах газет и журналов, а областное и краевое руководство занимало в этом вопросе «осторожную» позицию [ Киселев , 2020, с. 34].
«Латинизаторы» утверждали, что их работа ведется «в соответствии с волеизъявлением… общественности» и имеется «массовое движение за латинизацию письменности». Однако на самом деле, как и практически повсеместно в СССР, латинизация встретила сопротивление со стороны финно-пермских народов. В Удмуртии против нее выступали некоторые руководящие работники обкома ВКП(б) и редактор газеты «Удмурт коммуна» М. И. Волков. Противники латинизации считали возможным лишь реформу существующего алфавита и «мотивировали свое стремление остаться на базе русского алфавита желанием унифицироваться с русским» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 351. Л. 8; Д. 352. Л. 35, 39 об.; Д. 1200. Л. 9; ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 124. Д. 34. Л. 149), т.е. применяли в борьбе с «латинизаторами» их же терминологию.
В АО Коми (Зырян) уже в начале 1920-х гг. идея создания алфавита на латинской основе не встретила серьезной поддержки со стороны властей и была без широкого обсуждения отвергнута. Продолжалось сопротивление и позднее. В феврале 1932 г. Коми комитет нового алфавита отметил, что подготовка к переходу на новый алфавит «велась в условиях борьбы с классовыми врагами и оппортунистами» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 334. Л. 20; Д. 1205. Л. 4) (так в условиях того времени заклеймили противников латинизации).
В Коми-Пермяцком округе появление новой графики на латинской основе не было положительно воспринято местной интеллигенцией [ Каменских , 2021, с. 87]. В 1929 г. на страницах окружной газеты «Пахарь» прозвучало предложение не только не переходить на латиницу, но даже «отбросить молодцовский алфавит и взять целиком и полностью русский алфавит». По мнению «латинизаторов», в Коми-Пермяцком округе по вопросу об алфавите «развернулась классовая борьба» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 1239. Л. 5, 10).
На совещании 8 июня 1932 г., проведенном у первого секретаря Марийского обкома ВКП(б) А.-Г. И. Ширвани, было объявлено, что «переход на латинизированный алфавит... не представляет практической необходимости и целесообразности. Русский алфавит, видоизмененный в соответствии с требованиями закона марийского языка… вполне обеспечивает дальнейшее его развитие». К концу 1933 г. вопрос о марийской латинизации, несмотря на настойчивый интерес ВЦКНА, был «спущен на тормозах» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 338. Л. 2-7). То же произошло и в Мордовии.
Проблему для «латинизаторов» представляла высокая важность русского языка, которая сохранялась среди финно-пермских народов. В 1934 г. Б. М. Гранде в своей докладной записке отметил, что во многих национальных регионах РСФСР «русский алфавит занимает… такое же значительное место, как и латинизированный, а иногда и большее место» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 1141. Л. 1-2).
Еще одной причиной прохладного отношения к латинизации местными властями были требовавшиеся для нее большие финансовые расходы, затраты сил и времени (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 352. Л. 38, 39 об.). Кроме того, например, в Коми-Пермяцком округе, внедрение латинизированного алфавита тормозилось по причине низкой грамотности населения [ Каменских , 2021, с. 85-87]. Та же проблема имелась у тверских карел. Как докладывал И. В. Сталину в сентябре 1937 г. секретарь Калининского обкома ВКП(б) П. Г. Рабов, к тому времени знали латинизированный алфавит не больше 5 % взрослого карельского населения региона (ЦК ВКП(б)., 2009, с. 278).
Ударом по латинизации стало изменение ситуации на уровне всей страны. Во-первых, в 1930-1931 гг. по указанию Политбюро ЦК ВКП(б) была запрещена латинизация русского алфавита (Проблемы., 1994, с. 100-101). Во-вторых, произошел общий пересмотр национальной политики: с 1933 г. власти СССР решили сделать упор на государствообразующую роль русского народа (см. [ Синицын , 2018, с. 10]). Соответственно, был поднят статус русского языка и русской письменности, которая отныне получила почетный титул «алфавита творений Ленина и Сталина» ( Орлицкий , 1934, с. 88). Интересно, что, например, в Удмуртии такие идеи были оглашены намного раньше, чем произошло изменение политики на союзном уровне ( Гранде , 1933, с. 59), причем они звучали даже из уст местных сторонников латинизации. Так, в 1931 г. Т. Иванов на страницах журнала «Культура и письменность Востока» критиковал удмуртских «буржуазных националистов» за то, что они игнорируют «влияние русской пролетарской культуры на развитие удмуртской культуры» ( Иванов , 1931, с. 170). Б. М. Гранде в 1932 г. выявил, что в Удмуртии «высказываются взгляды, что будущим единым… алфавитом будет русский алфавит» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 352. Л. 39 об.).
Весной 1933 г. Отдел культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) дал «твердые указания» в адрес ВЦКНА: «Ни в коем случае не латинизировать алфавит тех народностей, которые [уже] применяют русскую письменность» (Проблемы…, 1994, с. 102). В том же году ЦК НА РСФСР в докладной записке на имя секретаря ВЦИК А. С. Киселева признал нецелесообразным латинизацию письменности луговых марийцев и мордвы «ввиду того, что у этих народов имеется уже весьма значительный процент грамотных на старых алфавитах и довольно развитая литература» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 308. Л. 8 об.).
Мощным триггером для отказа от латинизации во всесоюзном масштабе стало выступление в январе 1934 г. на XVII съезде партии главы Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) М. О. Разумова, который резко высказался против латинской письменности и за введение русского алфавита для народов Севера (XVII съезд…, 1934, с. 215). Практически сразу же вышла статья в газете «Правда», отражавшая подобные идеи, в которой как пример «ненужной» латинизации упоминался мордовский язык ( Ровинский , 1934). В июне 1935 г. при обсуждении работы всесоюзных «латинизаторов» ЦИК СССР обратил внимание на серьезную ошибку, заключавшуюся в латинизации письменности народов, ранее пользовавшихся русской графикой, в том числе были упомянуты коми и удмурты [ Исаев , 1979, с. 254–255].
В 1936 г. развернулась жесткая критика латинизации со стороны ЦК ВКП(б). Заведующий отделом науки, научно-технических изобретений и открытий ЦК партии К. Я. Бауман сообщил секретарям ЦК А. А. Андрееву и Н. И. Ежову о вредоносности «искоренения русской основы в письменности тех народов, которые пользовались ею в течение десятилетий». В частности, речь шла об Удмуртии и АО Коми (Зырян), где «насильственный перевод на латинский алфавит превратился прямо в издевательство над широкими массами населения». Бауман указал, что «не усвоили и тяготятся латинизированным алфавитом вепсы, ижорцы, калининские карелы, коми-пермяки» (ЦК ВКП(б)…, 2009, с. 192–194). Теперь даже видный деятель «всесоюзной латинизации» Г. С. Тогжанов был вынужден признать то, о чем уже давно говорили противники латинизации: «Разговоры против [русского] алфавита угро-финнов явно враждебны и классово чужды, и с этими настроениями надо вести решительную борьбу» (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 1240. Л. 11).
Была поставлена задача отмены латинизации и возврата письменности уже «латинизированных» финно-пермских народов к кириллице. Цель этой деятельности, как впоследствии, в 1941 г., сообщал директор Института языка и письменности народов СССР В. А. Петросян в докладной записке, направленной А. A. Жданову, состояла в том, чтобы «создать одну единую основу письменности для родного и русского языка, облегчив тем самым прохождение как родного, так и русского языка», «заменить сложный латинизированный алфавит более простым алфавитом» на русской основе (ЦК ВКП(б)…, 2009, с. 617).
Были установлены следующие подходы к разработке алфавитов на кириллической основе – «максимальное сближение алфавита с русским» ( Яковлев , Капитонов , Эпин , 1936, с. 8), «чтобы русские буквы имели одни и те же значения в обоих алфавитах, и чтобы звуки и звукосочетания, одинаковые в обоих языках, писались одинаково», «в состав… алфавита должны входить все буквы русского алфавита», порядок букв должен быть как в русском алфавите (СПбФ АРАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 230. Л. 14; Д. 240. Л. 101, 124).
Уже в 1936 г. были окончательно отменены проекты латинизации удмуртского и марийского алфавитов. В сентябре того же года президиум Совета национальностей ЦИК СССР утвердил переход коми языка на русский алфавит (сначала коми вернулись на «молодцовский алфавит», а затем был разработан новый алфавит на русской основе) (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 839. Л. 12, 14; ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 75. Д. 2489. Л. 2).
Закономерно, что если ранее латинизацию саботировали местные органы власти, то в 1936 г. реализацию новой алфавитной политики начал саботировать ВЦКНА (ЦК ВКП(б)..., 2009, с. 189). Однако дни этой структуры уже фактически были сочтены: через год ВЦКНА был ликвидирован, а его руководство – репрессировано.
В то же время коми-пермяцкую письменность пока было решено оставить на латинской основе. В сентябре 1936 г. для окончательного утверждения в Совет национальностей ЦИК СССР был представлен латинизированный коми-пермяцкий алфавит. Скорее всего, это было сделано потому, что ранее коми-пермяки не имели «своего» алфавита на русской основе и, соответственно, не могли на него вернуться. На латинице были оставлены также вепсы и ижорцы, хотя переход их письменности на русскую основу обсуждался в 1935 и 1936 гг. в Ленинградском областном комитете нового алфавита, поддерживался представителями ижорской и вепсской общественности и представителями научных учреждений Ленинграда (АРАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 814а. Л. 6; Д. 839. Л. 12; СПбФ АРАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 240. Л. 132).
Однако в 1937 г. очередь дошла и до коми-пермяцкой письменности. В июне Коми-Пермяцкий окрисполком официально признал, что, «несмотря на все усилия внедрения латинизированной письменности, коми-пермяцкий народ эту письменность не освоил». В том же месяце Свердловский облисполком направил в Совет национальностей ЦИК СССР просьбу «разрешить перевод коми-пермяцкой письменности с латинизированного алфавита на алфавит [с] основой русской письменности и утвердить представляемый при этом проект алфавита». Аналогичная просьба была направлена в августе 1937 г. в ЦК ВКП(б) (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 1777. Л. 29; СПбФ АРАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 240. Л. 51–53). В декабре того же года Политбюро утвердило постановление о переводе коми-пермяцкой письменности на русскую основу (ЦК ВКП(б)..., 2009, с. 277).
У карел в 1937 г. был взят курс на возрождение родного языка как официального и одновременно обсуждался вопрос выбора системы письменности. В этом вопросе присутствовали колебания, его решение затянулось. В марте 1937 г. секретарь Карельского обкома ВКП(б) П. А. Ирклис направил докладную записку А. А. Жданову, в которой указал, что «могут быть использованы или русский алфавит, или латинизированный алфавит, который в настоящее время применяется в Калининской области». Ирклис осторожно высказал мнение, что «для Карелии сейчас больше подходит алфавит русского языка» (Там же, с. 236). Такой подход позволил в июне 1937 г. Д. В. Бубриху констатировать, что в Карелии «окончательно изжито то отношение к карельскому языку, которое существовало при прежнем руководстве». Однако к августу вопрос все еще не был решен (СПбФ АРАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 240. Л. 9, 92). В сентябре за принятие для карел письменности на русской основе высказался секретарь Калининского обкома ВКП(б) П. Г. Рабов в докладной записке, направленной И. В. Сталину (ЦК ВКП(б)..., 2009, с. 278). Об этом же было подано ходатайство в президиум ВЦИК от жителей Карельского национального округа Калининской области. Наконец, в том же месяце ЦИК РСФСР утвердил переход карельской письменности на кириллицу. К ноябрю 1937 г. Ленинградское отделение ЦНИИ языка и письменности одобрило проект карельского алфавита на русской основе (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 30. Д. 838. Л. 1; СПбФ АРАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 240. Л. 128).
Однако уже через полтора года карельский язык и письменность вновь перестали использоваться на официальном уровне. В феврале 1939 г. Карельский национальный округ был ликвидирован, и литературный карельский язык в Калининской области более не использовался [Основы финно-угорского языкознания…, 1975, с. 20]. Карельская АССР, в свою очередь, в марте 1940 г. была преобразована в Карело-Финскую ССР, после чего новой союзной республике была навязана «финскость» – ее государственным языком стал финский, а не карельский (хотя, по данным переписи населения 1939 г., финны в Карельской АССР составляли только 2 % населения).
Относительно письменности вепсов и ижорцев тоже имелись колебания. В начале 1936 г. Ленинградский областной комитет нового алфавита поставил вопрос о переводе этой письменности на русскую основу, подав ходатайство в ВЦКНА и Совет национальностей ЦИК СССР. В марте 1936 г. президиум ВЦКНА постановил произвести обследование вопроса на месте. После этого перевод письменности на русскую основу был признан нецелесообразным, так как «существующий алфавит уже полностью внедрен в школы, в пункты ликбеза, в литературу и в население». Однако идеи о переводе на русскую основу продолжали циркулировать. В декабре 1937 г. Ленинградское отделение Центрального института языка и письменности сообщило в головной институт в Москву, что «ижорский и вепсский народы развиваются в тесной связи с русским народом, обитают в тесном соседстве с русскими и широко пользуются литературой на русском языке. Взрослое население грамотно по преимуществу по-русски. В связи с этим представляется необходимым переход ижорской и вепсской письменностей с латинской основы на русскую» (СПбФ АРАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 240. Л. 42, 132–132 об.). Однако после 1937 г., когда началось сворачивание программы «коренизации», использование вепсского и ижорского литературных языков было прекращено
[Основы финно-угорского языкознания…, 1975, с. 20], в связи с чем отпал вопрос об их письменности.
Таким образом, спецификой финно-пермских народов к концу 1920-х гг. было наличие у большинства из них алфавитов на русской основе. Несмотря на это, на рубеже 1920‒1930-х гг. по инициативе энтузиастов-«латинизаторов» была развернута деятельность по переводу письменности финно-пермских народов на латиницу. Триггером для этой активности стало внедрение в 1920-х гг. в разных регионах СССР латинизированных алфавитов для народов, ранее пользовавшихся «сложной» письменностью (в первую очередь арабской). Поскольку латинский алфавит принципиально не отличается от русского, «латинизаторам» пришлось придумать для своих идей обоснования, которые лежали в русле политических тенденций 1920-х гг., – «разрыв с имперским прошлым», борьба с религией и «русификацией». Такой подход тоже был спецификой ситуации в финно-пермских регионах.
Политико-идеологические основы деятельности «латинизаторов» были противоречивыми: они хотели ввести «свой собственный», а не русский алфавит, но при этом стремились к общесоветской (в перспективе – общемировой) унификации письменности и называли уже имеющиеся, разработанные специально для финно-пермских народов алфавиты «узконационалистическими». Внутри самого сообщества «латинизаторов» развернулось противостояние между сторонниками «яналифа», «марристами», поборниками «чистой латиницы» или ориентации на письменность, принятую в Финляндии.
В начале 1930-х гг. письменность на основе латинского алфавита была введена для коми, коми-пермяцкого, ижорского и вепсского языков, а в Карелии к этому времени использовался финский язык – разумеется, на основе латиницы. В других финно-пермских регионах латинизация не была внедрена, хотя, например, в Вотской (Удмуртской) АО деятельность «латинизаторов» была весьма активной.
Ввиду повального увлечения латинизацией в СССР, которое имело поддержку центральных властей (прежде всего – ЦИК СССР и ВЦИК), местные власти вначале не решались открыто противостоять латинизации, однако в Вотской (Удмуртской), Марийской АО и Мордовии реакция на деятельность «латинизаторов» была прохладной. Кроме того, латинизация встретила сопротивление со стороны представителей общественности и даже некоторых партийных и советских деятелей.
Главными причинами такого отношения к латинизации были, во-первых, наличие уже существовавших и применявшихся алфавитов на кириллической основе, во-вторых, сохранение важной роли русского языка. Нереалистичность сроков и слабость материальной базы можно рассматривать скорее как косвенные причины или даже «отговорки» для властей, которыми они пытались сдержать натиск «латинизаторов» (в Азербайджане, Казахстане, республиках Средней Азии, на Севером Кавказе и в ряде других регионов эти причины не помешали осуществить латинизацию, хотя изучение документов ВЦКНА показывает, что с мест поступали постоянные жалобы на недостаток финансирования, срыв сроков латинизации, трудность переобучения населения на новом алфавите и т.д.).
В целом во всех финно-пермских регионах прослеживались схожие тенденции. Особняком стояла только Карелия, где родной язык на официальном уровне не использовался, и лишь в 1937–1939 гг. на короткое время был введен в оборот (в этот период в Карелии проявились те же тенденции, что и в других регионах, в том числе разработка и внедрение алфавита на русской основе). В итоге письменность всех финно-пермских народов была переведена на кириллицу, либо фактически перестала употребляться (карельская, вепсская и ижорская).