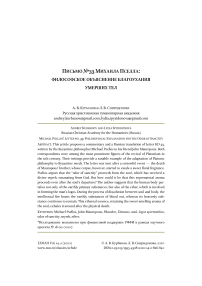Письмо №33 Михаила Пселла: философское объяснение благоухания умерших тел
Автор: Спиридонова Лидия, Курбанов Андрей
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.14, 2020 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой комментарий и перевод письма № 33 KD византийского философа Михаила Пселла, адресованного его другу и учителю Иоанну Мавроподу. Рассматриваемое нами письмо было написано Пселлом после смерти брата корреспондента и последовавшего за этим событием примечательного явления - благоухания тела покойного. Пселл утверждает, что этот запах проистекает от души, которая получила его вместе с божественным миром, исходящим от Бога, и объясняет, как это сверхъестественное благоухание распространяется даже после исхода души. Пселл предполагает, что человеческое тело причастно не только земным первоэлементам, но и небесному эфироподобному элементу, из которого состоит логос человека. Умственный огонь, который очищает душу во время процесса разделения души с телом, сжигает все земные элементы, окружающие душу в теле, но оставляет невредимым несгораемое эфироподобное вещество логоса. Эта эфирная сущность, сохраняющая благоухание души, источает его вокруг себя после физической смерти.
Михаил пселл, иоанн мавропод, федон, тимей, душа, семенной логос, миро, эфир
Короткий адрес: https://sciup.org/147215897
IDR: 147215897
Текст научной статьи Письмо №33 Михаила Пселла: философское объяснение благоухания умерших тел
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00207.
ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 2 (2020)
Письмо Михаила Пселла под номером 33 из издания Е. Куртца и Ф. Дрексла (Kurtz, Drexl 1941, 50–53) является одним из самых сложных для понимания текстов из богатого эпистолярного собрания этого оригинального византийского философа и писателя. Оно было адресовано учителю и близкому другу, митрополиту Евхаитскому Иоанну Мавроподу, в первые годы после его назначения на митрополичью кафедру в далёкие Евхаиты, то есть в начале 50-х гг. XI в. Тогда Пселл, несмотря на опалу своих друзей, всё ещё оставался приближенным ко двору и даже занимал должность ипата философов в высшей школе Константинополя. В этот сложный жизненный период переписка двух близких друзей, разделённых сотнями километров, стала интенсивнее (см. Lauxtermann 2017, Mauche, Roskilly, 2018, Karpozilos 1982, 113–120, Kazhdan 1993, Ljubarskij 2004, 82).1
Рассматриваемое нами письмо было составлено Пселлом вскоре после скорбного события – смерти родного брата Мавропода. Кто же был этот брат, о святости которого свидетельствует Пселл, и знаем ли мы что-либо о нём? К сожалению, следует признать, что дошедшие до нас тексты, относящиеся к Мавроподу, содержат лишь незначительные упоминания о его семье, на основании которых мы можем составить лишь частичное представление о его родственном окружении. В энкомии Иоанну Мавроподу (Dennis 1994, orat. 17, 146.75–147.95) Михаил Пселл пишет о брате Мавропода как об умершем в совсем юном возрасте, из чего следует, что он не был тем почившим братом, о котором говорится в исследуемом нами тексте. Письмо Пселла №47 (Kurtz, Drexl 1941) было адресовано другому брату Мавропода, который занимал должность судьи в Кивирреотах (согласно рукописной лемме: τῷ κριτῇ τῶν Κιβυρραιωτῶν, τῷ ἀδελφῷ τοῦ Εὐχαΐτων), возможно, что это был тот самый брат, однако, исходя из этих текстов, мы не в силах это подтвердить или опровергнуть. Можно также предположить, что племянник Иоанна Мавропода, который проходил примерно в это же время обучение в Константинополе под руководством Пселла, был сыном покойного. О нём и его успехах говорится в письме № 34 (Karpozilos 1990, 125), ему же адресовано, по всей видимости, и письмо № 74 (Karpozilos 1990, 189, 191), в котором Мавропод интересуется успехами в обучении у некого юноши, и из контек- ста создаётся впечатление, что перед нами часть корреспонденции дяди со своим племянником (см. Wilson 1983, 152–153). Скорее всего, именно этот племянник, проучившийся у Пселла, составил церковную службу в честь своего дяди, сохранившуюся в кодексе Vat. Palat. gr. 138 с рукописной леммой (f. 214v), прямо указывающей на то, что её составил племянник Иоанна Мавропода Феодор, занимавший в то время должность императорского ки-тонита и нотария (Mercati 1948).
Важно заметить, что введение к основному тексту послания Пселла представляет собой реминисценцию письма Григория Назианзина, адресованного Никовулу (Gallay 1964–1967, № 51). В нём Григорий Назианзин указывает на три характеристики хорошего письма: краткость (συντομία), ясность (σαφήνεια) и изящество (χάρις). Краткость отражает типичные для классической эстетики представления о соразмерности в прекрасном и о среднем пути между двумя крайностями, называемом «μέτρον, τὸ μετρίον». Это же повторяет и Пселл, когда указывает, что не следует писать письма, которые не измерить (μὴ μετρεῖν). Для достижения ясности , как объясняет Григорий Назианзин, писатель также должен идти средним путём, ему следует, насколько возможно, избегать вычурности и излишнего использования риторических фигур, и скорее склоняться к более естественному разговорному словотечению (χρὴ φεύγοντα τὸ λογοειδές, ὅσον ἐνδέχεται, μᾶλλον εἰς τὸ λαλικὸν ἀποκλίνειν). Пселл также советует излагать мысли, не обращая внимания на риторические периоды. Впрочем, необходимо отметить, что у византийских последователей Григория Назианзина, в том числе у Пселла, были совершенно иные представления о ясности слововыражения, отличающиеся от современных. Так, с одной стороны, считалось, что письмо, безусловно, не должно было быть совершенно непонятным, но с другой стороны, и не слишком простым и лишённым загадки. Ведь если письмо будет слишком прямолинейным, то оно не сможет удержать внимание читателя и доставить ему удовольствие, но вот если в нём будет содержатся хоть небольшая головоломка, для разрешения которой придётся прикладывать усилие, то его читатель, как считалось, безусловно, сможет по достоинству оценить талант и умение его автора (см. Dennis 1988). Именно такие загадки в тексте, пословицы и метафоры составляли изящество письма и весьма высоко ценились самими византийцами. В случае с письмом № 33 мы можем с уверенностью утверждать, что Михаилу Пселлу более чем удалось создать загадочное письмо, спрятав в нём многочисленные отсылки к классическим, позднеантичным и византийским философским текстам.
Своё письмо Пселл начинает с жалобы на редкие письма своего друга, приходящие нерегулярно, время от времени, в зависимости от
А. Курбанов, Л. Спиридонова / ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 2 (2020) 829 обстоятельств и желания Мавропода поделиться своими чувствами и мыслями. Пселл признаётся, что скорее желал бы получать пусть и небольшие письма, но чаще, ведь письма Мавропода имеют особое значение для Пселла: буквально откапывая его жилы (φλέψ), они разверзают душевные каналы слов (τῶν λόγων οἱ πόροι), чем создают невероятный толчок для творчества. Во время же случившегося перед этим длительного молчания Мавропода никто не открывал эти словесные каналы, из-за чего поры, создавшиеся в них, зарубцевались, потоки остановились, а его ум – рациональная часть души – лишённый притока крови, онемел и утратил способность к движению. Вследствие этого испытания Пселл потерял всякую способность к словотворчеству, превратившись в бесчувственный камень. Наконец, он утверждает, что если бы кто-то снаружи тогда рассёк ему вены, он бы остался в том же положении. Так Пселл описывает своему другу реальное физическое состояние сильной душевной апатии, забытья и уныния, в которое он впал во время молчания лучшего друга, и затем пытается дать ему философское обоснование, главным аргументом которого является факт привязанности души к телу.
Само объяснение Пселла становится несколько более понятным в свете античных медицинских учений, большим знатоком которых он был (см. Volk 1990). Для множества этих теорий, о которых мы зачастую можем судить лишь по фрагментам, было характерно понимание того, что процесс чувственного восприятия, а также обратный, как считалось, ему процесс мышления, тесно связан с приливами жидкости, текущей в различных каналах (πόροι). Интересно, что в этих сосудах вращалась и часть самой души, и от соотношения веществ, двигающихся в них, зависела скорость её движения. Отсюда причины психических и нервных заболеваний, в том числе депрессий и апатий, виделись в нарушении функционирования души (Jouanna 2012, Jouanna 2013). В трактате О диете из Гиппократовского корпуса различным нарушениям интеллекта была посвящена целая глава, в ней автор пишет, что душа, которая ему представлялась жидкой, затормаживается или даже блокируется в каналах (φράσσωνται οἱ πόροι τῆς ψυχῆς) от излишнего скопления в них жидкостей или неверного соотношения их элементов, что ведёт к различным умственным расстройствам, и только умеренное питание и физические упражнения могут иссушить эти каналы (Littré 1849, §35). О замедленном вращении души в теле из-за стагнации жидкости в сосудах2
как о причине различных душевных заболеваний говорится и в Timaeus 86e5–87a (это же повторяет вслед за Платоном и Гален – Helmreich et al. 1891, IV, 789):
ὅτου γὰρ ἂν ἢ τῶν ὀξέων καὶ τῶν ἁλυκῶν φλεγμάτων καὶ ὅσοι πικροὶ καὶ χολώδεις χυμοὶ κατὰ τὸ σῶμα πλανηθέντες ἔξω μὲν μὴ λάβωσιν ἀναπνοήν, ἐντὸς δὲ εἱλλόμενοι τὴν ἀφ’ αὑτῶν ἀτμίδα τῇ τῆς ψυχῆς φορᾷ συμμείξαντες ἀνακερασθῶσι, παντοδαπὰ νοσήματα ψυχῆς ἐμποιοῦσι μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ ἐλάττω καὶ πλείω, πρός τε τοὺς τρεῖς τόπους ἐνεχθέντα τῆς ψυχῆς, πρὸς ὃν ἂν ἕκαστ’ αὐτῶν προσπίπτῃ, ποικίλλει μὲν εἴδη δυσκολίας καὶ δυσθυμίας παντοδαπά, ποικίλλει δὲ θρασύτητός τε καὶ δειλίας, ἔτι δὲ λήθης ἅμα καὶ δυσμαθίας ( ибо всякий раз когда острая или солёная флегма, или какие-либо другие горькие и желчные соки, блуждая по телу, не могут найти отверстие наружу, они собираются внутри, и их пар, встречаясь с движениями души, примешивается к ним, что вызывает всевозможные душевные недуги разной силы и длительности. Проникая в какую-либо из трёх мест души, в зависимости от места, в которое они попадают, рождаются многообразные виды раздражительности и уныния, дерзости и трусости, забытья и тупоумия ).
Платон видит причину подобного недуга в несоразмерном и нездоровом образе жизни, и предлагает лечить его здоровым питанием и гимнастикой. Подобный материалистичный взгляд на взаимоотношение тела и души, как кажется, противоречащий типично сократовскому размежеванию души и тела (как, например, в Phaedo 66a–69d), часто приводит в недоумение исследователей (см. Gill 2002; Carone 2005, 239; Enright 2008, 47). Пселл, прекрасно зная данный фрагмент Тимея , словно подправляет его, согласуя с другими диалогами, и приводит свою аргументацию, логичную с точки зрения привычного нам платоновского дуализма души и тела. Он указывает, что единственная причина происходящему – это привязанность души к телу, ведь, чем больше человек отрывает душу от тела, тем свободнее она становится, в том числе от телесных болезней, которые в таком случае уже не имеют власти над душой и её рациональной частью – умом. Точно также, как об этом пишет Платон в Timaeus 73b–74a, он говорит о том, что его душа была закрыта περίβολον ‘оболочкой’, сковавшей душу; и также, отсылая к Gorgias 493a, Cratylus 400c и Phaedrus 250c, использует по отношению к душе глаголы, употребляемые обычно к могилам: ἀνωρύττω (раскапывать) и ἀναχώννυμι (отрывать от земли). Как у Платона, раскапывать душу от плоти призвана философия ( Phaedo 64a5–6), а также духовное общение двух философов, каковыми были Пселл и Мавропод.
Из последующих слов Пселла мы узнаём, что, помимо философии, страдания и невзгоды также призваны отделить и очистить душу от телесного, и таким образом, сделать её более подвижной и способной к творчеству. Пселл находит подтверждение своей точки зрения в мнении одного философа, имя которого не называет. По его словам, этот мыслитель полагал, что смерть происходит не тогда, когда душа улетает на небо, а когда душа пройдёт через некий процесс расщепления (διαριθμοῦμαι),3 поэтому очистительный огонь, как объясняет Пселл, съел всю кровь покойному брату Мавропода и обуглил всю его душу. Кого же цитирует в данном случае Пселл и что конкретно он имеет в виду?
Платон писал, что душа после смерти отдаляется, так как телесные узы (δεσμοί) уже более не могут её удерживать ( Timaeus 81d). Однако телесное может пристать к душе, тогда душа станет нечистой, тяжёлой из-за грузных телесных элементов и неспособной на подъём, в этом случае, прежде чем отойти к Богу, она должна очиститься ( Phaedo 81a). У Платона это очищение должно было совершаться через философскую практику постепенного умирания в течение всей жизни философа; именно очищение души от бремени телесного становится основной темой комментариев на диалог Федон ( Gav-ray 2014 ) . Подробнее всего этот фрагмент Федона был разработан в школе неоплатоника Аммония. В трактатах двух его известных учеников Олимпи-одора и Дамаския мы встречаемся с развитием идеи Платона. Дамаский занимался определением понятий θάνατος ‘смерть’ и ἀποθνήσκειν ‘умирать’, в своём рассуждении он заключает, что θάνατος – это состояние разделения души с телом и тела с душой (Westerink 1977 , §126–127), однако, настоящее отделение (χωρισμός) одного от другого, согласно Дамаскию, предполагает подготовку к «умиранию» (ἀποθνήσκειν) ещё при жизни. Различие между этими двумя видами смерти, физической и добровольной, наиболее точно были сформулированы Олимпиодором. Первая, физическая или телесная смерть, согласно этому комментатору, не гарантирует действительное разделение и освобождение души от тела, она лишь изображает смерть и не может быть признана за настоящую смерть, ту, которая предполагает постоянное усилие по очищению и отрешению души от всего телесного в течение всей земной жизни человека (Westerink 1976 , §3.2–4; §7.2).
Таким образом, цитируемое Пселлом суждение «одного философа», очевидно, можно отнести к некому логическому следствию рассуждений Сократа из диалога Федон об «очистительных» добродетелях и воздержном образе жизни, нейтрализующих влияние тела; между тем, для Платона доб- родетелями являлись мудрость, воздержанность, справедливость, мужество и свобода (Phaedo 69bc). Призыв к мужественному перенесению искушений и страданий для очищения души от телесного, который мы видим в послании Пселла, скорее всего, является прямым влиянием христианской платонической литературы, где Федон также комментировался. Одним из таких комментариев является диалог Григория Нисского О душе и воскресении. В полном согласии с платоновской философией (Phaedo 67a, 67de, 82d–83b) в нем высказывается идея о том, что человек при жизни должен стремиться к как можно более полному отделению души от сопряжения телу (χωρίζεσθαί πως καὶ ἀπολύεσθαι – PG 46, 88a), чтобы душу после смерти ничто не связывало, и она могла «легко и беспрепятственно бежать к добру» (κοῦφος αὐτῇ καὶ ἄνετος ὁ πρὸς τὸ ἀγαθὸν γένηται δρόμος – PG 46, 88a). Смерть для Григория Нисского, точно также как и для комментаторов из школы Аммония, являет собой разъединение души и тела, однако, согласно его концепции, физическая смерть хоть и отделяет душу от тела, вместе с которым она была сотворена, но не освобождает её от его страстей. Поэтому, сопряжённая с телом душа должна избавится от телесного после смерти через «вторую смерть», очистившись огнём (PG 46, 152ab). Как огонь очищает золото, пишет Григорий, так и огонь очистит душу от злых наклонностях и освободит от недостатков всего плотяного, сделав её лёгкой, быстрой и способной достичь Бога (PG 46, 448). Действие «огня» в данной концепции является, очевидно, развитием известных слов ап. Павла из 1-го Послания к Коринфянам 3:15: αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός (Будет спасён, но как бы сквозь огонь). Именно огнём, как мы уже указывали, происходит очищение и согласно тому философу, имя которого Михаил Пселл решил утаить.
Как мы видим, Михаил Пселл, когда писал о «неком философе», по всей видимости, имел в виду Григория Нисского. Безусловно, при комментировании писем Пселла никогда невозможно идентифицировать неназванных персонажей с полной уверенностью, поскольку речь могла идти о каком-то знакомом ему лично человеке, и указывать на факты, известные лишь близкому кругу его друзей. Впрочем в любом случае можно утверждать, что этот неназванный философ развивал линию комментирования Федона в духе Григория Нисского.
Таким образом Пселл незаметно переходит к смерти брата Мавропода. Как свидетельствует Пселл, покойный обладал свободной и лёгкой душой, танцевавшей в теле, а мужественное перенесение им различных испытаний и страданий привело его на «вершину святости» (τὴν τῆς ἁγιωσύνης ἀκρότητα). После смерти его тело начало источать чудесное благоухание и именно это явление становится основной темой письма Пселла, где он пытается дать
А. Курбанов, Л. Спиридонова / ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 2 (2020) 833 рациональное оправдание данному феномену. Он начинает своё объяснение так: «наши тела причастны не только земным составам первоэлементов, но и вышним, и в тех, в каковых вскармливается умственный огонь, в таковых выжигается земное, и остаётся только благоухающий божественными ароматами элемент подобный эфиру. И даже если этот логос не столь прекрасно цветущ, душа, получившая излияние божественного мѵ́ра, передаёт его и сродному ей телу в то время, когда она ещё пребывает вместе с ним. Тело же, исполнившись благоухания, и после исхода души остаётся исполненным этим качеством».
Как мы видим, своё рассуждение он начинает с несколько интригующей идеи о том, что тело человека состоит не только из четырёх первоэлементов, то есть земли, воды, воздуха и огня, но также и из небесной субстанции, то есть эфира. Тогда как у Платона ( Timaeus 41e), а также у христианских писателей (например, Morani 1987, cap. 1, p. 2.15–16; p. 7.13), мы обычно встречаемся с упоминанием того, что тело, как и космос, состоит из четырёх стихий, распадающихся после смерти на сродное им. У Пселла же при сжигании земных элементов, в которых заключалась душа, остаётся неподвластный огню небесный эфир. Пселл отождествляет эту эфирную субстанцию с логосом человека. Как мы знаем, теория об эфирных семенных логосах всех существующих в мире вещей, благодаря которым материальный мир снова развивается после мирового пожара, была заимствована у стоиков христианскими философами через неоплатоническую философию. Для Юстина, Оригена, Григория Нисского, Августина и других выдающихся богословов первых веков она стала важнейшей составляющей философской интерпретации процесса воскресения тел в будущем веке. Согласно Оригену, логос, являясь нематериальным элементом, содержит сведения о характерном образе телесной сущности каждого индивидуума, при жизни тела он подчиняет себе материю, налагая на неё характерный образ именно этого, а не иного тела, а после смерти и разложения тела он остаётся неразложимым и пребывает в потенциальном состоянии до пришествия Христова, когда подобно зерну он сможет воздвигнуть из земли новое тело (Crouzel 1972).
В неоплатонической философии полагалось, что телесный логос пребывает внутри самой души вплоть до смерти человека (Henry, Schwyzer 1951– 1973, III, 1, 7; III, 2, 2 ; III, 7, 11; IV, 3). Для Пселла это является важным пунктом в его рассуждении о благоухании тел умерших, так как, по его мнению, логос, не имеющий сам по себе запаха, принимает аромат окружающей его души. Праведная душа принимает в себя истечение от Бога мѵ́ра, каковое и есть божественная природа, как говорит Пселл в другом месте (Gautier 1989, opusc. 4.122).
Действительно, в христианской культуре и литературе аромат мѵ́ра считался присущим не только самой божественной природе, но и проникнутым «благоуханием познания» христианам. Такое понимание основано на толковании слов ап. Павла из 2-го Послания к Коринфянам 2:14–16, где он символично рисует картину триумфаторского шествия римского полководца со своими воинами, запах которых несёт радость победителям и смерть побеждённым:
τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ· ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν ( Богу благодарение, ведущему всегда нас победоносно во Христе и запах познания о Нём являет через нас во всяком месте; потому что мы есть Христово благоухание Богу и в спасаемых, и в погибающих: для одних мы – смертельный запах к смерти, для других мы – живительный запах к жизни ).
Это место из апостольского послания часто комментировалось в толкованиях на Песнь песней , где невеста, под которой понималась душа, принимала благоухание от Жениха, т.е. Христа . Например, Ориген комментирует так слова ап. Павла (сохранилось в латинском переводе Иеронима – Rousseau 1954, II, 2, p. 108):
Bona opera tua nardus sunt. Si uero peccaueris, peccata taetro odore redolebunt; <…> non de nardo propositum est nunc sancto Spiritui dicere neque de hoc, quod oculis intuemur, euangelista scripsit unguento , sed de nardo spiritali, de nardo quæ dedit odorem suum » ( добрые дела твои есть нард. Если же будешь грешить, грехи твои распространят вокруг зловоние, <…> но не о нарде говорит святой Дух и не о том умащении пишет евангелист, что видимо глазами, но о нарде духовном, о нарде, издававшем благовоние своё ).
Резюмируя вышесказанное, можно представить ход мыслей Пселла следующим образом: душа получающая в результате аскетической жизни излияние божественной природы, волатильные частицы которой воспринимаются нами как запах мѵ́ра, передаёт это качество и находящемуся в ней телесному логосу, который из-за своей эфирной природы оказывается нетронутым после огненного исхода души и остаётся в теле после смерти, тогда же, когда он становится освобождённым от окружавших его телесных частиц, его благоухание начинает исходить во вне.
На первый взгляд, рассматриваемое нами рассуждение является частью типичной переписки двух интеллектуалов XI в., полностью погружённых в чтение сочинений древних философов и комментариев к ним. Однако практически с самого начала Пселл разрушает эпистолографический канон, и, как и в диалоге О душе и воскресении Григория Нисского, его «утешение»
превращается в философский «разговор о душе», в котором адресат получает основанные на философии рациональные оправдания феноменов христианской веры. При этом Пселл создаёт принципиально новую концепцию, производя, по примеру христианских философов первых веков, синтез платонических идей с христианскими представлениями. Отсюда данное письмо также может рассматриваться как некое малое философское сочинение Михаила Пселла.
***
В качестве приложения мы приводим греческий текст рассматриваемого нами письма Пселла по единственно сохранившей этот текст рукописи XV века из библиотеки Медичи Лауренциана (Biblioteca Medicea Laurenziana) во Флоренции, фонд Plutei 57.40, ff. 16r-17r. Мы полностью сохраняем места пунктуационных знаков, не добавляя новых, и только несколько адаптируем оригинальную византийскую пунктуацию, заменяя все виды точек на среднюю (малая пауза) и нижнюю (длинная пауза), максимальное сохранение пунктуации особенно важно для такого сложного и намеренно загадочного текста, где малейший знак пунктуации влияет на смысл написанного. Также мы сохраняем акцентуацию энклитиков, присущую рукописи, и отражающую фонетические особенности греческого языка данного периода. Поскольку данный текст ещё не был переведён ни на один современный язык, вслед за греческим текстом мы прилагаем наш перевод на русский язык. Разделение греческого текста на абзацы сделано нами искусственно для того, чтобы читатель легко мог сопоставить оригинал с нашим переводом.
Τῷ μητροπολίτῃ Εὐχαΐτων :~
Ἐχρῆν μὲν οὐχ᾽ οὕτως θεοτίμητε δέσποτά μου · μηδ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς τὴν ἐπιστολήν · καὶ ὁμιλεῖν ταύτην ἀλλὰ μὴ μετρεῖν · ἐπεὶ δὲ χαλεπὰ τὰ καλά · προσθήσω δὲ αὐτὸς τῇ παροιμίᾳ καὶ σπάνια · ἀποχρῶν ἡμῖν καὶ τὸ τῆς σῆς γλώττης βραχὺ καὶ τὸ διὰ πολλοῦ · καὶ τὸ μηδ᾽ ἐν περιόδοις ἀλλ᾽ ἀορίστως.
λύω γοῦν κἀγώ σοι τὴν γλῶτταν ὥσπερ ἐπὶ σοὶ δεδεμένην · οὐχ᾽ ὥστε πηγὰς λόγων ἀφεῖναι · ἀλλ᾽ ὥστε μέτριον ἀντηχῆσαι τῇ μεγάλῃ σου σάλπιγγι · πέπονθα γάρ τι πάθος παρὰ τὴν σὴν σιωπήν, ἀφηγήματος καὶ θαύματος ἄξιον · ἐγίγνετο γάρ μοι τὸ πρὸ τοῦ · τὰ σὰ γράμματα · οἷον σκαλίδες τινὲς τῶν ἐμῶν ἐν βάθει φλεβῶν · καὶ ἀνωρυττόμην τρόπον τινά · ἐπεὶ δὲ αὐτὸς τοῦ ὀρύττειν ἐπέπαυσο, ἐπέμυσαν κἀμοὶ τῶν λόγων οἱ πόροι · τοσοῦτον, ὥστε ἀποτυλωθῆναι τὰ ῥήγματα · εἶτα δὴ κἂν μέ τις διέλῃ, μένω ἐπὶ τῆς αὐτῆς φύσεως · καὶ παντάπασιν ἐκπεπώρωμαι · ἐρανισάμενος δέ τι παρὰ φιλοσοφίας · οὕτω τὸ πάθος διερμηνεύω · ὅτι ὁ νοῦς ἀφ᾽ οὗ τὰ νοήματα · εἰ μὲν καθ᾽
ἑαυτὸν ᾖ ἀμιγὴς σώματος, οὐκ ἔχει ᾧ ἐμφραγήσεται · εἰ δὲ σώματι δεσμηθῇ, ἀναχωννύμενος μέν · προβάλλει τὰ ἐνθυμήματα · μὴ καθαιρόμενος δέ, ἔνδον τοῦ προβλήματος μένει · κἄν τις διὰ πολλοῦ διασείσῃ τὸ πρόβλημα, ὁ δὲ ναρκῶν τέ ἐστι · καὶ οὐ πολὺς τὴν ἐπιρροήν.
σὺ δὲ ῥεύματά τινα ἐδεδίεις · καὶ ποταμούς τινας αὐτίκα σοι ἐκχυθησομένους · καὶ τἆλλα τῆς σῆς περὶ ἡμᾶς ὑπολήψεως · ἐμοὶ δέ, πάλαι μὲν ἴσως ἡ ψυχή · λόγων <16v> ἐπήγαζε χάριτας · ἐποίει δὲ τοῦτο, ἡ τέχνη καὶ τὰ μαθήματα · νῦν δὲ ὁ τόκος ἀμβλύς · ὅτι τὰ παρὰ τῶν λόγων ἀσύλληπτα · ἔστι δὲ καὶ τὸ συλλαμβάνειν καὶ μὴ καὶ ἡ εὐγονία καὶ ἡ ἀτοκία, οὐ παρὰ τὴν φύσιν ἀεί · ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ παρὰ τὸν καιρόν · καὶ παραπολαύει πως ὁ ἡμέτερος νοῦς ὥσπερ τῶν ὡρῶν, οὕτω δὴ καὶ τῶν τοῦ βίου ἰδεῶν, καθάπερ δὴ νῦν οἱ τῶν πραγμάτων χειμῶνες · τὰς φύσεις ἡμῖν ἀπεκρυστάλλωσαν οὕτως εἰπεῖν.
ἀλλ᾽ ὃ ἐβουλόμην πρὸ πάντων ἐρεῖν, τί δή μοι μεταποιεῖς τὴν γνώμην πολλάκις · καὶ νῦν μὲν ὡς εἴωθας ῥεῖς · αὖθις δὲ ἐπέχεις τὴν γλῶτταν μηδεμιᾶς οὔσης προφάσεως.
μὴ γὰρ δὴ καὶ ἡμεῖς ταῖς τύχαις καὶ τοῖς πράγμασι μεταπίπτωμεν · μὴ δὲ τοὺς λόγους τούτοις ὁρίζωμεν · μὴ δὲ τὰς φιλίας παραμετρῶμεν οἷς εἰώθασιν οἱ πολλοί · ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν ἔξωθεν ἡμᾶς περιρρείτωσαν · πεπήχθω δὲ ὁ λόγος · ὥσπερ δὴ ἀλλήλοις ὡμολογήσαμεν · τὰ δὲ δυσχερῆ, οἰστέον ἡμῖν · ὁποῖα ποτ᾽ ἂν ᾖ · πιέζοντα μέν · ἀλλὰ τοῦ σώματος ἐκπυρηνίζοντα τὴν ψυχήν · ἐπεί τοι καὶ φιλοσόφου τινὸς ἀκήκοα · τὸν κατ᾽ ἔκλυσιν φύσεως ἀποδοκιμάζοντα θάνατον · ὡς οὐκ εὐθὺς ἀποπαλλομένης εἰς οὐρανὸν τῆς ψυχῆς · ἀλλ᾽ ἐν διηριθμημένῳ προϊούσης κινήματι · τοῦτο δή τοι τὸ πῦρ καὶ τῷ σῷ ἀδελφῷ, τὴν ῥέουσαν ὕλην τοῦ σώματος ἐξανάλωσε · καὶ τὴν ψυχὴν ὅλην εἰ χρὴ οὕτως εἰπεῖν, ἑξηνθράκωσεν.
ὅτι μὲν γὰρ ὑπερφυές τι χρῆμα τὸ ἀρωματίζειν τὰ κεκμηκότα σώματα · παρὰ τῆς ἀληθείας ἔχω λαβών · τοῦτο δὴ καὶ παρὰ τῆς φιλοσοφίας ὠφέλημαι · ὅτι μὴ τῶν γεηρῶν μόνον μερῶν τῆς στοιχειώδους φύσεως τὰ ἡμέτερα μετέχει σώματα · ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκροτήτων · οἷς δὲ τὸ νοερὸν ἐντρέφεται πῦρ, τούτοις ἐκκέκαυται μὲν τὸ γεῶδες · μένει δὲ τὸ αἰθερῶδες, τοῖς θείοις ἀρώμασι μυρεψούμενον · κἂν μὴ παντάπασιν εὐανθὴς οὗτος ὁ λόγος, ἀλλ᾽ ἡ μετὰ σώματος τέως ψυχή · τοῦ θείου μύρου τὴν ἐπιρροὴν δεξαμένη, μεταδίδωσι τούτου καὶ τῷ συμφυεῖ <17r> σώματι · τὸ δ᾽ ἐμπλησθὲν εὐωδίας καὶ μετὰ τὴν ἔξοδον τῆς ψυχῆς, μένει πληρούμενον τῆς ποιότητος.
ἐγὼ δὲ τὰ μὲν πολλὰ τῶν τοῦ ἀδελφοῦ κρυφίων οὐκ ἐγνώκειν · τοῖς δέ γε φαινομένοις · κατεστοχαζόμην τῶν ἀφανῶν · χορεύουσαν εἶχε τὴν ψυχὴν ἐν τῷ σώματι · καὶ οἷον ἐλευθέραν καὶ ἄδεσμον · αἱ γὰρ ἀδιήγητοι τοῦ ἤθους αὐτῷ χάριτες, τοὺς τῆς ψυχῆς χαρακτῆρας ἐγνώριζον · οὔτε γὰρ ὕπουλον αὐτῷ τί καὶ ὑποκαθειμένον ἦν, οὔτε ὑπὸ τῷ νεύματι τῆς ὀφρύος ἐκυμαίνετο τὰ νοήματα · ἀλλ᾽ εὐθεῖα τίς ἦν τὸ σύμπαν
А. Курбанов, Л. Спиридонова / ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 2 (2020) 837 γραμμή · ἔμφυτος τέ τις αὐτὸν χρηστότης ἐχαρακτήριζε · καὶ κάλλος ψυχῆς οἷον ἀμήχανον.
ἔδει δ᾽ αὐτῷ πρὸς τὴν τῆς ἁγιωσύνης ἀκρότητα · καὶ πειρατηρίων τινῶν · πρὸς ἃ γενναίως ἀντηγωνίσατο · ᾧ · γοῦν τοὺς ἀγῶνας διήθλησε, τούτῳ δὴ ἐπίδηλον τὴν ἀρετὴν ἡμῖν ἀπειργάσατο.
καί σοι φθονῶ καὶ τῶν ἄλλων μέν · μᾶλλον δὲ τοῦ συγγενοῦς ῥεύματος καὶ τοῦ ὁμοφυοῦς τούτου ἀρώματος · οἶδα γὰρ ὅτι καὶ τὸ σὸν σωμάτιον · ἐκ τῶν αὐτῶν εἴη μετάλλων καὶ τῶν ἔργων τῶν ἀργυρείων · ἃ μὴ δαπανᾷ σκώληξ · ὧν σῆψις, οὐχ᾽ ἅπτεται · ἀλλ᾽ ἔχω τί κἀγὼ διὰ σοῦ παρ᾽ αὐτοῦ · καὶ σαφὴς ὁ συλλογισμός :~
Митрополиту Евхаитскому
Тебе следовало совсем иначе, богопочтенный владыко, составить мне послание, совсем не нужно было тебе следовать общепринятым эпистолярным образцам, но и не нужно было тебе болтать так, чтобы письмо было не измерить. Поскольку прекрасное трудно4 (добавлю сам к этой пословице, — и редко), я довольствуюсь краткостью твоего языка и редкостью твоих посланий, а также свободным стилем безо всяких риторических периодов.
Я же, в свою очередь, также развязываю для тебя язык, который был словно связан тобой, и не для того, чтобы излить на тебя потоки слов, но чтобы только в надлежащей мере отозваться на твою великую трубу. Ибо я претерпел некое испытание во время твоего молчания, заслуживающее рассказа, который не может не вызвать изумления. Дело в том, что прежде твои письма словно мотыги вскрывали мои глубинные жилы, и я был ими как бы раскапываем. И вот как только ты перестал ими капать, у меня сомкнулись каналы слов, и так крепко, что все расселины зарубцевались. Тогда, если бы даже кто-то рассёк мне вены, я бы остался в том же положении, совершенно окаменелый.
Наведя некоторые справки у философии, я объясняю это испытание так: если, ум, дающий нам чувственные представления, существует сам по себе, не смешиваясь с телом, то не имеет того, чем он мог бы быть заперт. В том же случае если ум привязывается к телу, то, хотя он, будучи откапываем, и испускает рассуждения, но, будучи несвободным, остаётся внутри оболочки. И если даже кто-либо сильно сотрясёт эту оболочку, ум останется онемевшем и не испытает большого прилива.
Ты видно уже испугался неких течений и рек, изольющихся сейчас для тебя, и другого, в чём ты нас напрасно подозреваешь. И ведь правда, прежде у меня душа источала щедроты слов, производили их искусство и учёные занятия. Ныне же настало для меня время неспособное на рождение. Но вот, что не познано науками, это то, что как зачатие, так и его отсутствие, и как благоплодие, так и бесплодие бывают не только согласно естественной череде, но также и в силу проживаемой нами поры жизни, и таким образом, плодовитость нашего ума находится во власти как природного времени, так и различных обстоятельств нашей жизни. И вот ныне, житейские ненастья словно зимние холода превратили, как говорят, в лёд наши природы.
Впрочем, более всего, что я хотел бы узнать у тебя, так это почему ты периодически меняешь ко мне своё отношение: то по привычке источаешь, то вслед за этим удерживаешь свой язык без всякого на то предлога?
Давай не будем мы меняться вслед за поворотами судьбы и обстоятельствами дел, и не будем ставить в зависимость от них нашу переписку, и не будем измерять ими силу нашей дружбы, что нередко случается у людей. Пусть всё это только снаружи нас обтекает, наше же общение да пребудет неизменным, как мы и условились друг с другом. Ибо полезно нам переносить различные тяготы, какими бы они не были теснящими и давящими, поскольку душу они отделяют от тела. Слышал я даже об одном философе, который отвергает смерть по расторжении земных уз по той причине, что душа не тотчас взлетает в небо, а выходит в расщепляющем движении. Таковой огонь, безусловно, истребил и твоему брату жидкую телесную материю и всю душу, если можно так сказать, обуглил.
То, что благоухание умерших тел имеет неземное происхождение, я вос-приял от истины. Впрочем и из философии я могу почерпнуть, что наши тела причастны не только земным составам первоэлементов, но и вышним, и в тех, в каковых вскармливается умственный огонь, в таковых выжигается земное, и остаётся только благоухающий божественными ароматами эфироподобный элемент. И даже если таковой логос и не покрыт прекрасными цветами, но душа, получившая излияние божественного мѵ́ра, передаёт его и сродному ей телу в то время, когда она ещё пребывает вместе с ним. Тело же, исполнившись благоухания, и после исхода души остаётся исполненным этим качеством.
Мне было совершенно неведомо множество сокрытых достоинств твоего брата, и я лишь улавливал неявленное в явном. Имел он душу, танцевавшую в теле, и как будто бы совсем свободную и ничем не скованную. Таковые его душевные качества проявлялись через достоинства его удивительного характера: так не было у него ничего притворного и лицемерного, гордые мысли не приходили ему на ум, и в целом его отличала некая врождённая прямота нрава, доброта и какая-то совершенно неописуемая красота души. Для того чтобы достичь вершин святости, ему нужны были и некоторые ис- пытания, которые он благородно выдержал, и тем как он мужественно победил в борьбе, он явственно показал всем нам своё совершенство.
Вообще я завидую тебе в отношении многих вещей, но более же всего в отношении присущего тебе от природы изливающего потока и свойственного ему благоухания, знаю ибо я, что и твоя несчастная плоть сделана из такой же породы, добытой на тех же рудниках и тех же копях, которую ни червь не истребит, ни гниль не коснётся, впрочем, через тебя получаю нечто от неё и я, и это совершенно неопровержимо.
Список литературы Письмо №33 Михаила Пселла: философское объяснение благоухания умерших тел
- Bernard, F. (2014) Writing and Reading Byzantine Secular Poetry, 1025-1081. Oxford.
- Carone, G. (2005) "Mind and Body in Late Plato," Archiv für Geschichte der Philosophie 87, 227-70.
- Crouzel, H. (1972) "Les critiques adressées par Méthode et ses contemporains à la doctrine origénienne du corps ressuscité," Gregorianum 53.4, 679-716.
- Dennis, G.T. (1988) "The Byzantines as Revealed in their Letters," J. Duffy and J.J. Peradot-to, eds. Gonimos: Neoplatonic and Byzantine Studies presented to Leendert G. West-erlink at 75. Buffalo, NY, 156-158.
- Dennis, G.T., ed. (1994) Michaelis Pselli orationes panegyricae. Stuttgart: Teubner.
- Enright, N.A. (2018) Depression in Antiquity: Recognition of the symptoms of depressive illness in Plato and Aristotle. Theses. The University of Leeds. Foerster R., ed. (1921) Libanii opera. Vol. 10. Leipzig: Teubner.
- Gallay, P., éd. (1964-1967) Saint Grégoire de Nazianze. Lettres. Paris: Les Belles Lettres.
- Gautier, P., ed. (1989) Michaelis Pselli theologica. Vol. 1 [=Bibliotheca scriptorium Graecorum et Romanorum Teubneriana) Leipzig: Teubner.
- Gavray, M.-A. (2014) "Les interprétations néoplatoniciennes du Phédon de Platon," Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses 121, 173-180.
- Gill, C. (2002) "The Body's Fault? Plato's Timaeus on Psychic Illness," M. Wright, ed. Reason and Necessity. Essays on Plato's Timaeus. London: Duckworth and the Classical Press of Wales, 58-84.
- Helmreich, G., Marquardt, J., and Müller, I., eds. (1891) Claudii Galeni Pergameni scripta minora. Leipzig: Teubner.
- Henry, P., Schwyzer, H.-R., eds. (1951-1973) Plotini opera. 3 vols. [=Museum Lessianum. Series philosophica, 33-35]. Leiden: Brill.
- Jeffreys M.J. (2017) "Summaries of the Letters of Michael Psellos," M.J. Jeffreys, M.D. Laux-termann, eds. The Letters of Psellos: Cultural Networks and Historical Realities. Oxford; New York: Oxford University Press, 143-459.
- Jouanna, J. (2012) Greek Medicinefrom Hippocrates to Galen. Leiden: Brill.
- Jouanna, J. (2013) "The Typology and Aetiology of Madness in Ancient Greek Medical and Philosophical Writing," W.V. Harris, ed. Mental Disorders in the Classical World. Leiden / Boston: Brill, 97-118.
- Karpozilos A. (1982) ZvpßoÄy о~тц ргкгтц той ßiou xai той è'pyov той 'Iœâvvy MavpénoSoç. Ioan-nina.
- Karpozilos, A., ed. (1990) The Letters of Ioannes Mauropous Metropolitan of Euchaita [=Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 34]. Thessaloniki.
- Kazhdan, A. (1993) "Some Problems in the Biography of John Mauropous," Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 43, 87-111.
- Kurtz E., Drexl F., eds. (1941) Michaelis Pselli scripta minora. Vol. 2. Milano.
- Lauxtermann, M.D. (2017) "The Intertwined Lives of Michael Psellos and John Mauropous," M.J. Jeffreys, M.D. Lauxtermann, eds. The Letters of Psellos: Cultural Networks and Historical Realities. Oxford: Oxford University Press, 89-127.
- Littré, É., éd. (1849) Oeuvres complètes d'Hippocrate. Vol. 6. Paris: Baillière.
- Ljubarskij, J.N. (2004) Hпро&штхбтцта xai то épyo той M%ayl WzHoù. Athens.
- Long, H.S., ed. (1964) Diogenis Laertii vitae philosophorum. Oxford: Clarendon Press.
- Mauche, N., Roskilly, J. (2018) "There and back again: on the influence of Psellos on the career of Mauropous," Byzantinische Zeitschrift 111, 721-746.
- Mercati, S.G., ed. (1948) "Ufficio di Giovanni Mauropode Euchaita composto dal nipote Teodore," Mémorial Louis Petit: mélanges d'histoire et d'archéologie byzantines [=Archives de l'Orient chrétien, 1]. Bucarest, 347-360
- Mercati, S.G., ed. (1970) "Ufficio di Giovanni Mauropode Euchaita composto dal nipote Teodore," Collectanea Byzantina. Vol. II. Bari, 54-65.
- Morani, M., ed. (1987) Nemesii Emeseni de natura hominis [=Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana]. Leipzig: Teubner.
- Morelli, A., ed. (1863) Gregorius Nyssenus. Dialogus de anima et resurrectione [=Patrologiae cursus completus (series Graeca), acc. J.-P. Migne, 46]. Paris, 12-160.
- Rousseau, O., éd. (1954) Origène. Homélies sur le Cantique des Cantiques [=Sources chrétiennes, 37bis]. Paris.
- Volk, R. (1990) Der medizinische Inhalt der Schriften des Michael Psellos [=Miscellanea Byzantina Monacensia, 32]. München: Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität.
- Westerink, L.G., ed. (1970) Olympiodori in Platonis Gorgiam commentaria. Leipzig: Teubner.
- Westerink, L.G., ed. (1976) Olympiodorus. "In Platonis Phaedonem commentaria," The Greek commentaries on Plato's Phaedo. Vol. 1. Amsterdam: North-Holland Publishing Co, 39-181.
- Westerink, L.G., ed. (1977) Damascius. "In Phaedonem (versio 1)," The Greek commentaries on Plato's Phaedo. Vol. 2. Amsterdam: North-Holland Publishing Co, 27-285.
- Wilson, N.G. (1983) Scholars of Byzantium. London.
- ques adressées par Méthode et ses contemporains à la doctrine origénienne du corps ressuscité", Gregorianum 53.4, 679-716.
- Dennis, G.T. (1988) "The Byzantines as Revealed in their Letters", J. Duffy and J.J. Pe-radotto, eds. Gonimos: Neoplatonic and Byzantine Studies presented to Leendert G. Westerlink at 75. Buffalo, NY, 156-158.