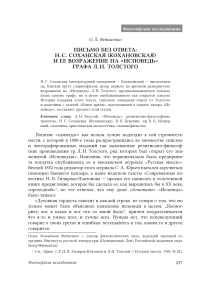Письмо без ответа: Н. С. Соханская (Кохановская) и ее возражение на «Исповедь» графа Л. Н. Толстого
Автор: Фетисенко Ольга Леонидовна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские исследования
Статья в выпуске: 3 (68), 2016 года.
Бесплатный доступ
Н. С. Соханская (литературный псевдоним - Кохановская) - писательни- ца, близкая кругу славянофилов, автор первого по времени развернутого возражения на «Исповедь» Л. Н. Толстого, предназначавшегося сначала лишь самому графу, но в итоге опубликованного как открытое письмо. История создания этого текста, тщетного ожидания ответа от Толстого и полемики с газетой «Новое время», выступившей в защиту автора «Ис- поведи», составляет предмет этой статьи
Л. н. толстой, "исповедь", религиозно-философские трактаты, н. с. соханская (кохановская), в. п. буренин, кн. в. п. мещер- ский, полемика, христианская апологетика, славянофильство
Короткий адрес: https://sciup.org/140190185
IDR: 140190185
Текст научной статьи Письмо без ответа: Н. С. Соханская (Кохановская) и ее возражение на «Исповедь» графа Л. Н. Толстого
После того какая же возможность и какой смысл входить в логическую оценку положительного содержания умствований, рассыпанных по исповеди? Ни одно из них не выдерживает логического прикосновения, не то что разбора. ‹…› не будь подписано под нею: „Лев Толстой“ , ничего, кроме глумления, ничего, кроме наименования бредом, не вызвала бы она у человека, привыкшего к строгому мышлению»2.
Та же тема «самости», непомерной гордости толстовской «Исповеди» дала поэту и дипломату М. А. Хитрово почву для его отклика в жанре философской эпиграммы:
Там, в небесах, написан он, там где-то
Ответ на все вопросы бытия, —
Я не могу прочесть того ответа;
Мешает тень. И эта тень — моя.
И я хочу подняться над землею,
Чтоб через тень ответ тот прочитать;
Но эта тень растет, растет со мною,
И я к земле, к земле спешу опять.
Чтоб малым быть — бросаюсь на колени…
Но это все напрасно, — оттого,
Что лишь тогда не будет этой тени,
Когда меня не будет самого!3
Бросается в глаза несколько запоздалая реакция деятелей Церкви на широко распространявшиеся в списках «Исповедь», «Соединенные Евангелия» и другие новейшие творения Толстого. Она может быть объяснима растерянностью, но, главным образом, — тем, что не принято было возражать в печати на неизданные произведения. В русской церковной периодике лишь в самом конце 1883 года появляются глухие упоминания о неких «новых верованиях» Толстого. Так, «Московские церковные ведомости», не вдаваясь в подробности и не приводя название ни одного из произведений, ходящих в рукописях, осудили «духовную незрелость нашего образованного общества», проявляющего инте рес к «исповеданию веры» изве стного романиста4.
Голос пастырей (таких, как епископ Никанор (Бровкович) — позднее один из главных обличителей Толстого с церковной кафедры) был предварен выступлениями мирян5. И самый обстоятельный богословский разбор «Исповеди», хоть и появился в церковном издании, тоже принадлежит лицу не духовного сана — харьковскому профессору-канонисту М. А. Остроумову6. Но и это тоже очень поздний отзыв, вызвавший рецепцию лишь после выхода отдельного издания полемического труда — в 1887 году7. Одно же из наиболее ранних возражений на «Исповедь», сначала, как и сам предмет полемики, бытовавшее лишь в списках (правда, весьма немногочисленных), тоже принадлежит мирянке — Надежде Степановне Соханской (1823–1884), вошедшей в литературу в конце 1840-х годов, а с 1856 года печатавшейся под псевдонимом «Коханов-ская», образованным от родовой фамилии ее матери8.
Родилась она на хуторе Веселый в Корочанском уезде Курской (сейчас Белгородской) губернии в смешанной малорусско-польско-русской дворянской семье, вся ее жизнь прошла в так называемой Слободской Украине, в Харьковской губернии. Ее часто называли «макаровской отшельницей» — по названию маленького хутора Макаровка, где она почти безвыездно жила и где скончалась 3 декабря 1884 года. Первые повести выпускницы Харьковского института благородных девиц отличались от общего литературного потока разве что самобытно-ярким языком и остались совершенно незамеченными. В судьбе писательницы конец 1840-х — первая половина 1850-х годов важны не столько собственно литературной работой, сколько эпистолярным знакомством с П. А. Плетневым и ученичеством у него. Именно по просьбе Плетнева Соханская написала свою «Автобиографию», в настоящее время — самое известное из ее произведений (издано оно было впервые уже после смерти автора)9.
Триумфальным был вход Кохановской в большую литературу в 1858 году — с повестью «После обеда в гостях»10. Теперь самые влиятельные журналы наперебой предлагают ей свои страницы, но писательница отвечает на дружеское приглашение И. С. Аксакова примкнуть к кругу московских славянофилов11, которые встретили в ее последних произведениях отклик своим ожиданиям. Братья Аксаковы, А. С. Хомяков, Н. П. Гиляров-Платонов увидели в Кохановской писателя, родственного по духу С. Т. Аксакову, носителя «положительного» отношения к жизни. Именно в этом кругу Кохановская могла реализовать свое понимание писательства как высокого христианского служения. Надежда Степановна становится сотрудницей «Русской беседы», а затем и газет, издаваемых И. Аксаковым (от «Дня» до «Руси»). В 1863 году именно Аксаков выпустил два небольших томика ее повестей, большая часть которых до сих пор, к сожалению, не переиздана.
Весьма популярная на рубеже 1850–1860-х годов, в годы «великих реформ» Кохановская постепенно теряет массового читателя. Слишком уж «против течения» и любование стариной, и христианская ориентированность повествователя (то, что критики будут называть «тенденциозностью»). В некрологе, написанном Аксаковым, говорилось именно об этом: «Слишком ярка лежит на произведениях <Кохановской> печать русской народности в смысле бытовой и религиозной ценности, слишком живо присущ им именно тот дух жизни, который так мало понятен и сочувствен современному русскому „культурному“ человеку; слишком мужественны для слабосильной, размякшей волею, обабившейся русской общественной среды… Но достоинство сочинений Кохановской не преходящее. Внутренняя сила их возьмет свое и устареть не может»12.
В 1880-е годы Кохановская уже почти не печаталась; много сил отнимало хозяйство в ее степном уголке, одолевали тяжелые болезни. Лишь в 1881 году она поместила в «Руси» несколько корреспонденций, откликаясь на трагическое событие 1 марта и другие современные проблемы. Тем неожиданней было появление Великим постом 1884 году ее «Письма к графу Толстому по поводу его „Исповеди“»13.
Из личной переписки мы узнаём, что с «Исповедью» писательница познакомилась в конце лета 1882 года, гостя в имении Каменка у своих друзей Вальховских — Малиновских — Носовых (ее приятельницей была М. В. Вальховская, вдова декабриста, дочь известного директора Царскосельского лицея и сестра пушкинского однокашника). Одна из племянниц Вальховской, С. И. Штакеншнейдер (она была замужем за сыном знаменитого петербургского архитектора А. И. Штакеншнейдера) привезла из столицы модную новинку — «Исповедь», которая, видимо, глубоко потрясла всех жителей и гостей Каменки, но больше всех именно Надежду Степановну. И ее реакция будет не женски-сентиментальной (хотя из ее «Письма к графу…» мы узнаём, что она плакала, читая известную сцену — циничный рассказ Толстого о его кощунственном причащении14), а христиански твердой — реакцией воина. Отсюда соответствующая образность в одном из писем к Вальховской: «…могу ли я , владею ли я мечом духовным, чтобы выйти и сражаться за Божье дело? Господь поможет! Но молчать было бы малодушие и наша обычная леность…»15.
Сначала она не собиралась печатать свой ответ Толстому, хотела поступить по-евангельски: сперва обличить наедине, потом при двух-трех свидетелях, потом — в слух всей Церкви16. Ей важна была не «публичность», но исполнение долга, как она его понимала: нужно поскорей воздействовать на душу Толстого, молиться о нем, как молятся о заблудших17. Она решает обратиться к автору «Исповеди» частным письмом, пользуясь давним, пусть и поверхностным, личным с ним знакомством, восходящим к 1862 году, когда Соханская впервые приехала в Москву и в Петербург.
Любопытны их отзывы друг о друге. Толстой, в 1858 году восхищавшийся повестью «После обеда в гостях» (что известно по пересказу Тургенева в письме к А. В. Дружинину)18, в письме к тому же Дружинину в следующем году дал неудобный для цитирования отзыв о следующей повести («Из провинциальной галереи портретов»)19, потом вовсе потерял интерес к писательнице, а познакомившись с Кохановской у А. Ф. Тютчевой, отозвался в дневнике о ней, как об одной из «стерв», засохших «в кринолине»20.
Кохановская более любезна и тепла, хотя и иронична в эпистолярном отзыве о знаменитом писателе и его уме парадоксалиста:
«Вы спрашиваете меня о Яснополянском графе? Довольно высокий, тонкий, с довольно неправильными чертами лица, с черными обильными волосами; глаз не рассмотреть при мато<во>м освещении лампы. Ум хорошо виден. Свой собственный, сиятельный парадоксальными мыслями — „мужицкими“, как резко отметила Анна Федоровна <Тютчева>; но я, вообще не жалующая резких отметок, не вовсе согласна с тем, хотя доля правды есть и очень есть в насильственном желании графа стать мужиком и еще русским de pure nature»21.
Услышав на том же вечере от графа, что высший идеал и счастье в его понимании — «жениться на крестьянке», она немедленно реагирует:
«В таком случае ваши жизненные идеалы не трудно достижимы…»; и вскоре, услышав от И. С. Аксакова о том, что граф женится «на дочери какого-то немца доктора»22, иронизирует в письме к подруге: «Так жизненно сказалась русско-мужицкая натура нашего графа в достижении его идеала»23.
В сентябре-октябре 1882 года Кохановская вновь и вновь перечитывает «Исповедь»24 и 22 октября наконец начинает свой ответ25, обнаруживая, что, «чем больше вчитываешься, тем на большее возражать должно»26. Простое письмо начинает перерастать в статью в форме письма, хотя по-прежнему предназначается еще лично Толстому. 1 декабря Коханов-ская сообщает Вальховской: «…ответ всё выходит пространнее; потому что если возражать с Божиею помощию, то возражать обстоятельно, полно, без всяких недомолвок, чтобы святыня и истина были выражены с такою определенною ясностию, которая бы не допускала никаких лжетолкований. ‹…› Ответ мой имеет форму как бы очень пространного письма»27. 8 декабря она сердечно благодарит Софью Штакеншнейдер за предложение снабдить ее другими неизданными антицерковными сочинениями Толстого:
«Начавши с „Исповеди“, должно уже до конца довести познание того: как человек может зашататься без веры в его, так называемых, философских положениях?
А я бы Вас попросила еще об одном одолжении: узнать от Страхова, как от друга, московский адрес Толстого»28.
Во второй половине января Соханская уже знает (от упомянутой выше С. И. Штакеншнейдер) московский адрес графа29, и письмо почти готово, но вместе с адресом был получен декабрьский номер «Нового времени» со статьей В. П. Буренина30, в которой, как показалось писательнице, Толстой был назван «учителем Церкви» (как в 1867 году Ю. Ф. Самарин назвал Хомякова в предисловии к тому его богословских сочинений); позднее она еще менее точно припомнит текст, говоря, что Буренин произвел графа в «Отцы Церкви»31. Дело было не совсем так, но все же Кохановская верно поняла пафос нововременского критика. «Исповедь» в статье чрезмерно превозносилась, а Толстой был назван не писателем, но «учителем» (для вящего акцентирования слово было заключено в кавычки). Определение же «учитель Церкви» не прозвучало, конечно, просто по цензурным условиям, но как бы «просвечивало» за текстом. Поскольку статья Буренина практически неизвестна современному читателю, приведем из нее большой фрагмент, делающий понятным возмущение Кохановской:
«…у нас до сих пор даже величайшие наши таланты встречают препятствия к опубликованию таких трудов, которые могли бы иметь глубокое, нравственно-возрождающее влияние на русское общество. Так, например, в настоящее время в среде немногочисленных читателей обращается замечательный рукописный труд Л. Н. Толстого религиозного характера. Труд этот без всякого сомнения — плод самой глубокой мысли и в то же время плод самого глубокого религиозного одушевления. Этот труд не только умственный, но в то же самое время и душевный подвиг знаменитого писателя. По искренности мысли и искренности веры, по великой жажде правды, труд Л. Н. Толстого, в наше время всяческой лжи, всяческого притворства, всяческой боязни искренности, представляет нечто феноменальное, нечто такое, что ставит его автора уже не в ряду писателей, а в ряду „учителей“. И что же? Этот замечательный труд великого писателя должен оставаться в рукописи, не может быть напечатан. Почему? Потому что автор резко и прямо становится в противоречие с условным, формальным пониманием христианского учения, обнаруживает на это учение взгляд, чуждый схоластики и имеющий в виду не внешнюю только истину, а внутреннюю. Разумеется, теперешняя и духовная и светская цензуры, оставаясь в пределах, указанных им законом, не могут разрешить труда Л. Н. Толстого. Но вот, однако же, в чем вопрос: должны ли существовать цензурные правила для таких огромных литературных дарований, как Л. Н. Толстой? Подгибать подобные дарования под общий цензурный уровень не следует уже потому одному, что их произведения и в рукописи отыщут себе путь в обществе и таким образом обойдут преграду цензуры. ‹…› для гениального писателя и мыслителя не должны существовать законы, установленные для заурядных, для средних умов, для заурядных и средних дарований. ‹…› А что Л. Н. Толстой один из самых крупных гениев настоящего времени не только у нас, но и в целом мире — это несомненно. ‹…› Пусть даже с формальной точки зрения последние труды Л. Н. Толстого (сделавшиеся известными по рукописным копиям) окажутся религиозными заблуждениями: и тогда нечего бояться их оглашения и возможно широкого распространения в обществе. Да, нечего бояться, потому что даже заблуждения глубокого и искреннего ума, великой души, ищущей правды и света истины, не могут принести вреда, а, напротив, всегда оказываются поучительными, всегда имеют результатом благотворное влияние на общество. ‹…› Духовные особы кричат: помилуйте, это ересь. Цензура не пропускает не только религиозные толкования, сделанные знаменитым писателем, но даже его глубоко-поучительную исповедь о том, как он дошел до сознания, что „в христианском учении заключается истина“. Тщетно журнал „Русская Мысль“ старался в прошлом году „провести“ эту замечательную исповедь: никакие хлопоты и усилия, никакие предисловия и оговорки не помогли. Исповедь так и осталась под спудом. ‹…› нельзя не пожалеть о том что в иное время всякое лживое фразерство имеет свободный обиход, а искреннее слово гениального человека не может дойти до слуха общественной массы…»
Реакция на эту пламенную апологию32 внесла новый пафос в письмо Кохановской Толстому, работа над которым вскоре и была окончена (к 3 февраля33). Но писательница еще немного помедлила с отправкой — до Первой седмицы Великого поста34. Посылка была заказной и должна была, в случае неполучения, вернуться к отправителю35. Этого не произошло, значит, тетрадь была доставлена адресату. Но не было и никакого ответа. (Мало того, Толстой ни с кем и словом не обмолвился о полученном, восприняв Кохановскую как моську, что лает на слона.)
Кохановская начинает знакомить со своим возражением на «Исповедь» Аксаковых, Чаевых, С. И. Погодину, Шамониных, Плетневу36 и других своих друзей в Москве и Петербурге. Аксаковым, например, она посылает один из списков раньше всех — 10 марта, сопроводив такой надписью: «Примите и посудите, и скажите… Нельзя было стерпеть и оставить без возражения самохвальную разноголосицу философии чуть не из графских пеленок, зашатавшуюся и замотавшуюся в безверии даже до жидовства»37. Один из списков она посылает в редакцию «Нового времени» Буренину с коротким сопроводительным письмом, спрашивая — действительно ли он считает возможным назвать Толстого «учителем Церкви». И этот жест также остается без ответа (Буренин пе-чатно ответит Кохановской только после опубликования ее статьи).
В мае 1883 года Соханская раздумывала, не написать ли Толстому еще раз — сказать, что она нигде не может достать его «Толкований на Евангелие» (это и было так в действительности), попросить их у него самого и тем самым вызвать на разговор и об «Исповеди»38. По-видимому, этот замысел не был исполнен. Раздобыв и прочтя «Толкования…», она начнет было 9 июня писать возражение и на них, но сразу же на первой странице и остановится39.
Летом она подумывает, что хорошо бы напечатать оба текста («Исповедь» и свое письмо) рядом — хоть в той же либеральной «Русской мысли», но это едва ли допустит цензура («да едва ли и сам граф Толстой дозволит это печатное сопоставление его Исповеди с моим Ответом», пишет Кохановская вдове М. П. Погодина 27 июня40). В августе 1883 года Надежда Степановна узнаёт от харьковских врачей о том, что больна тяжелым и уже сильно запущенным онкологическим заболеванием. Она едет в Москву для консультаций с врачом-гомеопатом, но надеется и на встречу с Толстым: «Ехала я в Москву с надеждою именно письмом или лично вызвать графа на то, чтобы он, так или иначе, признал или отринул то мое, что ему было писано»41. Но и это не состоялось. Вдобавок к основному недугу писательница, приехав в первопрестольную, вскоре заболела тифом. Получив облегчение после молебна в Черниговском Гефсиманском скиту42, она уезжает домой — готовиться к кончине (по пути, в Харькове, она сама заказывает крест на могилу). Именно сознание близости смертного часа и подвигает ее к решимости опубликовать оставшееся без ответа письмо.
В начале января она переписывает набело свое возражение и посылает в Петербург в газету «Гражданин»43, сопроводив посылку просьбой начать публикацию не раньше 1-й седмицы Великого поста, так, чтобы завершился годовой круг с момента отправки письма Толстому. Выбор места (в «Гражданине» Кохановская до этого публиковалась только один раз, в самый первый год выхода этого издания) может показаться странным (газета кн. Мещерского была мало читаемой и ее трудно было достать даже в Москве, редактор пользовался дурной репутацией и т. д.44), но имел очень простое объяснение, которое и дала Кохановская в цити- рованном выше письме к Плетневой: «…как Гражданин есть единственное издание, в котором Господь Бог не отрицается и о духовном предмете можно говорить с духовным достоинством — то я и послала свою, говорящую о духовном, статью в Гражданин…»45.
Выделим основные тезисы статьи, цитировать которую будем по журнальной републикации46 как более доступному источнику.
-
1. Толстой — соблазнитель малых сих47. Его «Исповедь» привлекает сердца заманчивостью запретного: «…это тот страшный камень соблазна, которому лучше было обвеситься на вашей шее и потопить вас в пучине моря48, нежели ей, этой „Исповеди“ в списках, в переписках — как запретный плод, доставаемый с алчностью, читаемой и перечитываемой — обезверить, обезбожить стольких мальчиков, девочек-гимназисток и подвести их под ту произвольную виселицу, под которою вы сами стаивали не раз49 ‹…›. Вы человек, по высоте ваших философских умозрений обязанный отрешиться от своей самости ‹…› какую жертву вы приносите, наш знаменитый Лев Толстой, молодежи, боготворящей вас, и всему обществу, потерявшему родной, исторический след, обезличенному, и которое мятется в ужасе от поражающих его бессмысленных убийств и страшного цареубийства? — Вы в это сено и солому — в обрывки чужих, недомысленных мыслей, предвзятых, завиральных идей — вы бросаете вашу зажженную головню философского безверия и указываете на самоубийство, как на прямой и логический вывод! Ведь этак можно сказать, граф, не в басне, а в истину, „что сочинитель хуже разбойника“50: тот убивает тело, а вы сколько душ убили51, совратили их, лишив живоносного света веры!»52.
-
2. Философия Толстого — «объюродевшая мудрость старой языческой философии…»53
-
3. Толстой «не приметил», что христианство изменило «лицо мира»54. Он лишен «живого, радостного» «чувства веры»55. Он желал приобщиться к «народной вере», но тут ему не хватило смирения.
-
4. Основная ошибка Толстого: он пожелал «понять веру» разумом, а это — «логическая бессмыслица»56. Вера приобретается только смиренным ее исканием и покаянием: «Кто не входит этою, однажды указанною и до скончания мира отворенною дверью, тот есть волк, а не овца Христова»57.
В последней части статьи Кохановская прибегает к неожиданной аргументации: в качестве апологии православной веры приводит целый ряд стихотворений Пушкина, Лермонтова, Хомякова и Тютчева, считая, по-видимому, поэтическое слово решающим доводом для художника, каким оставался Толстой даже и в своей «Исповеди».
Сделав небольшое отступление, скажем, что Кохановская в русской традиции является, быть может, первым «богословом культуры». Ее статья «Степной цветок на могилу Пушкина», отвергнутая в 1857 году «Библиотекой для чтения» и напечатанная позднее в «Русской бесе-де»58, впервые рассматривает поэзию Пушкина в свете религиозной мысли и духовного пути поэта. Споря с Дружининым, отказавшимся печатать статью как «не идущую к делу» (якобы приписывающую поэту то, от чего он был далек), Кохановская ставила вопросы, опережающие свое время:
«Как вы думаете, Александр Васильевич, идет ли к делу или оно вовсе не идет: проследить этот вопрос о религиозности в нашей литературе? Как он открывается в представителе ее, Пушкине, и что из того может следовать? А очень может следовать то, что, коснувшись этого вопроса, наша литература войдет в соприкосновение с глубокими, жизненными основами народного характера и оттого сама получит глубину, которой у нее нет, — и на этой-то глубине встретит те положительно прекрасные идеалы, которых тоже, к сожалению, в нашей литературе нет»59.
С Толстым Кохановская говорит с той же позиции, какой придерживалась в статье о Пушкине (подлинный поэт обладает «серафимским посвящением», служение художника имеет религиозную природу и т. д.). После появления открытого письма к Толстому в печати поднялась небольшая буря. Кохановская, как писал чуть позже Д. В. Аверкиев, «удостоилась … строгого внушения»60. Аверкиев подразумевал высмеивание в «Новом времени» — в рубрике «Среди газет и журналов», а потом и в очередном фельетоне Буренина, о котором скажем чуть ниже. Робкая защита писательницы прозвучала в «Церковном вестни-ке»61, а уже в сентябре появилась ироничная статья Н. С. Лескова62. Уже после смерти Кохановской с полным сочувствия к обиженному «нетолерантной» писательницей Льву Николаевичу обратилась с открытым письмом монахиня и поэтесса Мария (Шахова)63. Рассмотрение всей этой полемической цепочки может стать предметом отдельного исследования и не входит в задачи нашей статьи.
Аксаков в конце 1884 года в письме Н. Н. Страхову (напомним: другу Толстого) заметил, что Кохановская возражала Толстому «исключительно с точки зрения положительной веры, просто протестовала во имя веры громадного большинства русского церковно-православного народа»64. Слова справедливые, но возникает вопрос: почему же тогда Аксаков не выступил печатно в защиту своей давней знакомой и постоянной сотрудницы, когда в «Новом времени» «пронесли имя ее яко зло»? Сама Кохановская сочла нужным ответить «Новому времени», пояснить, что ее подвигло возразить Толстому, и рассказать всю историю с не получившими ответа письмами Толстому и Буренину. «…с помощию Божией, я молчать не буду, — пишет она Вальховской, — и, начавши говорить, выскажу всё, чтò должно сказать по чувству души и по святой исти-не»65. Ее ответ («…стоя над раскрытой могилой, я могу говорить только то, что верующая душа обязана сказать…») вышел в «Гражданине»66 и через несколько дней вызвал статью Буренина, где было сказано, что Кохановская критикует Толстого «с узкой формальной точки зрения» «книжников и фарисеев» и что ее ответ никому, кроме нее самой, не ин-тересен67. Последний «аргумент» Кохановская, в принципе, предвидела. В одном из писем к Вальховской (от 3 января 1883 года) она заметила: «Я сама того мнения, что вообще для неверующих мой ответ не слишком годится…»68; но ведь к Толстому она обращалась, думается, все-таки как к верующему , хотя и заблудшему .
Поступок Кохановской остался непонятным и для большинства ее современников69, и для ее первого биографа — Н. Н. Платоновой (между прочим, дочери одной из ближайших подруг писательницы, Н. Д. Шамониной), жены известного историка С. Ф. Платонова. Она указывала, что бессмысленным было «опровергать рассуждения Толстого доводами, опирающимися на веру в истинность ортодоксального учения, т. е. на то, что в самом корне своем подвергалось сомнению и критике со стороны Толстого»70. Ответить на это можно было бы следующим образом: Кохановская писала не полемический памфлет, не апологетический трактат, а письмо к собрату. Еще в самом начале работы она рассказывала приятельнице: «…я желала бы этому придать не характер литературного возражения, а чтобы мое писание осталось тем, чтò оно есть, т. е. скорбным, задушевным словом, с теми порывами негодования, которых нельзя было превозмочь»71. Эта же интенция присутствует и в финале письма к Толстому: «„Обратитесь и живы будете“ 72 ‹…› И хотя не всё здесь слова Божии, но, смею сказать, что они все от Бога, — от сердечной скорби, ревности по душе и печали о вас — написались к вам»73.
«Письмо к графу Толстому…» было горячо поддержано только самыми близкими друзьями писательницы, пренебрежено адресатом и при получении, и в другой раз — после републикации в январской книжке «Русского обозрения» 1898 года, но, имея представление о душевном устроении Кохановской, можно предположить, что ей гораздо важнее было сознание, что она исполнила то, что считала своим долгом: обратилась к брату и попыталась предостеречь современников от «тонких, одухотворенных ядов подслащенного неверия»74. В том же письме, где есть большой фрагмент, посвященный Толстому и его рассказу «Чем люди живы», который часто воспринимали как своеобразный художественный манифест «новой веры», находим такие слова: «Всё любовь да любовь, а об вере ни слова! А любовь — союз совершен-ства75; а с чем же ей союзиться, когда нет ни веры, ни надежды на Бога, первых двух, неразлучных от последней, богословских добродетелей; а они суть в их нераздельной совокупности: вера, надежда и любовь»76.
Список литературы Письмо без ответа: Н. С. Соханская (Кохановская) и ее возражение на «Исповедь» графа Л. Н. Толстого
- Аверкиев Д. В. Дневник писателя за 1886 год. СПб., 1886.
- 2. Н. С. Соханская.//Русь.1884.15 дек.№ 24.С. 12-13.
- Аксаков И. С. Письмо к С. С. Аксаковой//ИРЛИ. Ф.3. Оп. 18. Ед. хр. 68.Л. 74-74 об.
- Аксаков И. С. -Страхов Н. Н. Переписка. Оттава, 2007.
- Буренин В. П. Критические очерки. Напрасные тревоги г-жи Коханов-ской//Новое время. 1884. 1 июня. № 2965. С. 2-3.
- Буренин В. П. Нечто//Новое время. 1882. 17 дек. № 2445. С. 2-3.
- Гиляров-Платонов Н. П. Письмо к С. А. Юрьеву "об исповеди графа Л. Н. Толстого"; (апрель 1882 г.)//Никита Петрович Гиляров-Платонов: Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии/под общ. ред. А. П. Дмитриева. СПб., 2013. С. 644-647.
- Из писем Н. С. Соханской(Кохановской) к М. В. Вальховской//Русский архив. 1900. № 1. С. 108-140.
- Из писем Н. С. Соханской к племяннице и ее мужу. "Подготовленныек печати С. И. Пономаревым выписки"//РГБ. Ф. 230. К. 10802. Ед. хр. 23.
- Кохановская Несколько слов «Новому времени»//Граж-данин. 1884. 27 мая. № 22. С. 9.
- Кохановская . Письмо гр. Л. Н. Толстому по поводу его «Исповеди»//Гражданин. 1884. № 8-11 (то же: Русское обозрение. 1898. Янв. С. 5-57).
- М. Мария Открытое письмо графу Льву Николаеви-чу Толстому//Новороссийский телеграф. 1885. 29 дек. № 3239. С. 2.
- Мнения печати по церковным вопросам//Церковный вестник. 1883.17 дек. № 51. С. 2-3.
- Мнения печати по церковным вопросам//Церковный вестник. 1884.10 марта. № 10. С. 2-3.
- Остроумов М. А. Граф Лев Николаевич Толстой. Харьков, 1887.
- Переписка Аксаковых с Н. С. Соханской (Кохановской)//Русское обозре-ние. 1897. Февр.-Дек.
- Письма к А. В. Дружинину. М., 1940.
- Письма к Н. С. Соханской (Кохановской) М. Н. Каткова/сообщ. С. Пономарев//Русское обозрение. 1897. Февр. С. 1020-1028.
- Письма Н. С. Кохановской к С. И. Погодиной/сообщ. А. Д. Погодин//Рус-ский вестник. 1889. Окт. С. 358-370.
- Платонова Н. Н. Кохановская (Н. С. Соханская): Биогр. очерк. СПб., 1909.
- Пономарев Ст. Опись бумаг, оставшихся после Н. С. Соханской (Коханов-ской)//Русское обозрение. 1898. Янв. С. 277-312.
- 22.«Русская беседа»: История славянофильского журнала: Исследования.Материалы. Постатейная роспись/отв. ред. Б. Ф. Егоров, А. М. Пентковский,О. Л. Фетисенко. СПб., 2011.
- Соханская Н. С.(Кохановская). Письма к А. В. Плетневой//ИРЛИ. Ф. 234.Оп. 4. Ед. хр. 162-164.
- Соханская Н. С. (Кохановская). Письма к С. И. Погодиной//ИРЛИ. № 172.
- Соханская Н. С.(Кохановская). Письма к С. И. Штакеншнейдер//ИРЛИ.Р. III. Оп. 2. № 2170-2175.
- Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки 1858-1880 гг.//Он же. Полн.собр. соч.: в 90 т. М., 1952. Т. 48.
- Толстой Л. Н. Исповедь//Он же. Полн. собр. соч.: в 90 т. М., 1957. Т. 23.
- Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседникии ученики. СПб., 2012.
- Хитрово М. А. По поводу одной «Исповеди»//Русь. 1885. 24 авг. № 8. С. 11.
- Эфрон С. К. Н. П. Гиляров-Платонов и Л. Н. Толстой//Русский листок. 1902.13 окт. № 281.