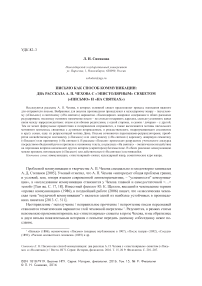Письмо как способ коммуникации: два рассказа А. П. Чехова с "эпистолярным" сюжетом ("Письмо" и "На святках")
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Исследуются рассказы А. П. Чехова, в которых основной сюжет предполагает процесс написания важного для отправителя письма. Выбранные для анализа произведения принадлежат к календарному жанру - пасхальному («Письмо») и святочному («На святках») вариантам. «Календарное» жанровое содержание в обоих рассказах редуцировано, поскольку основное назначение писем - не столько поздравить адресата, сколько установить канал связи между корреспондентами: отцом или обоими родителями, с одной стороны, и сыном / дочерью - с другой. Тем не менее формульные приветствия и поздравления сохраняются, а также вычленяются мотивы пасхального мотивного комплекса, связанные с духовным возрождением, и рождественского, подразумевающего соединение в кругу семьи, одну из репрезентаций мотива Дома. Письма сочиняются персонажами-ретрансляторами, приобретая несвойственную молчащему («Письмо») или диктующему («На святках») адресанту жанровую семантику («Письмо») или прагматику («На святках»). В рассказе «Письмо» происходит разрушение учительного дискурса посредством обыденной речи в приписке к основному тексту, а в рассказе «На святках» - эмпатическое воздействие на персонажа вопреки написанной другим автором (скриптором) бессмыслице. В обоих рассказах коммуникацию можно признать потенциально («Письмо») или действительно («На святках») состоявшейся.
Коммуникация, "эпистолярный" сюжет, календарный жанр, семантическое ядро жанра
Короткий адрес: https://sciup.org/147219670
IDR: 147219670 | УДК: 82-3
Текст научной статьи Письмо как способ коммуникации: два рассказа А. П. Чехова с "эпистолярным" сюжетом ("Письмо" и "На святках")
Проблемой коммуникации в творчестве А. П. Чехова специально и плодотворно занимался А. Д. Степанов [2005]. Ученый отметил, что А. П. Чехова «интересует общая проблема границ и условий, или, говоря языком современной лингвопрагматики, – “успешности” коммуникации», а «исследование коммуникации становится у Чехова главной и самодостаточной <…> темой» [Там же. С. 17, 18]. Известный филолог Ю. К. Щеглов, введший в чеховедение термин «провал коммуникации» (1986), в позднейшей работе (2006) пишет, что «классическая чеховская тема “неудачной коммуникации”» является одной из наиболее устойчивых в произведениях писателя [2013. С. 511].
Неотправление / неполучение / неправильное прочтение / непрочтение писем персонажей становится тематическим вариантом этой чеховской сверхтемы 1. Разумеется, в рамках статьи невозможно прокомментировать все «эпистолярные» сюжеты в прозе Чехова, и мы обратились к двум весьма показательным историям о попытке передать далекому собеседнику некое послание.
В рассказах «Письмо» (1887) и «На святках» (1900) сообщение адресанта перекрывается «чужим» словом, в первом случае – выполненным в учительном дискурсе, во втором – в комическом. В обоих рассказах смысл настоящего письма искажается его ретрансляторами: в первом – благочинным, диктующим письмо непутевому, с точки зрения причта, сыну дьякона; во втором – недалеким писарем, сочиняющим «ученый» текст вместо молчащих отправителей. Тем не менее в письмах разными способами восстанавливается первоначальная интенция подлинного адресанта – записывающего «чужое» слово («Письмо») или диктующего («На святках»). Коммуникация, таким образом, может быть признана потенциально («Письмо») или действительно («На святках») состоявшейся. Это объясняется тем, что либо происходит деконструкция внедренного в письмо «чужого» смысла вследствие приписки иного когнитивного уровня («Письмо»), либо буквальный смысл сообщения игнорируется реципиентом, но оттуда извлекается первичная коммуникативная интенция («На святках»).
Оба анализируемых рассказа относятся к календарному жанру: «Письмо» – пасхальный («Новое время», 18 апреля 1887 г.), а «На святках» – святочный рассказ («Петербургская газета», 1 января 1900 г.). Жанровая матрица воссоздается в обоих произведениях, несмотря на обыденность сюжетных ситуаций и особенно темы как единства смысловых компонентов произведения 2. В «Письме» событие духовного преображения заложено не в дидактическом тексте благочинного о. Федора, а в забытовляющей его приписке сокрушенного дьякона – письмо предназначено его «блудному сыну» Петру. Непонятно, воспрянет ли духовно адресат, но сам дьякон преодолевает «недовольство, скорбь и страх» и вспоминает о своем сыне только «хорошее, теплое, грустное» [Чехов, 1985. Т. 6. С. 163] 3 – так проявляется редуцированный мотив просветления-преображения, главный в пасхальном рассказе.
В рассказе «На святках» в формульном обращении родителей к уехавшей (а по сути, сгинувшей без всяких известий о себе) в Петербург дочери Ефимье: «Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение навеки нерушимо» (Т. 10. С. 181) – слышится матримониальный «прототекст», составляющий сюжетную основу святочного текста (см.: [Словарь-указатель сюжетов и мотивов..., 2006. С. 8]). Однако смысловым центром в рассказах является не календарный сюжетно-мотивный комплекс, связанный с духовным перерождением или сватовством / браком, а коммуникативное действие, предметно и материально выраженное в письме.
В рассказе «Письмо» дьякон Любимов просит благочинного о. Федора Орлова сочинить увещевательное письмо его сыну, живущему в далеком Харькове, не соблюдающему постов и вступившему в гражданский брак «с чужой женой» (Т. 6. С. 156). О. Федору импонирует мысль продиктовать назидательное письмо нечестивцу, ведь «помимо своей греховности, Петр был ему несимпатичен как человек вообще. О. Федор имел против него, что называется, зуб» (Т. 6. С. 157). Свободолюбивый Петр не выносил любого принуждения: в отрочестве – помогать в алтаре или креститься при входе в комнаты, «обижался, когда говорили ему “ты”»; в студенчестве – «вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и <…> любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы» (Там же).
Поскольку событие рассказа происходит в пасхальную ночь, о. Федор начинает письмо с поздравления: «Ну, пиши… Христос воскрес, любезный сын… знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи…» (Т. 6. С. 160). Отметим изменение речевого поведения персонажа в этом отрывке: поздравление сменяется ссылкой на слухи и скрытой в ней угрозой 4.
Телесность о. Федора («благообразный, хорошо упитанный мужчина <…> как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства» (Т. 6. С. 153)) продолжается в его пастырском служении: это человек, обязанный любить ближнего и любящий его только в силу обязанности – отстраненно и строго, овнешвленно (наблюдая его вид – так, его раздражает неопрятный и бедный о. Анастасий) и внешне (сочувствие отцу благочинному чуждо, что, собственно, и перформатируется в его письме).
Так, ничтожный о. Анастасий настолько раздражает благочинного, что тот не удерживается пожелать ему в пасхальную ночь скорейшей кончины – как единственного выхода из плачевного состояния, в котором тот оказался, впрочем, по своей вине 5: «Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот <…> испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно <…> Старик казался уже о. Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей <…> вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь о. Анастасий, это – как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света» (Т. 6. С. 155) 6. Когда дьякон жалуется на своего беспутного сына, о. Федор дважды обрывает желающего поучаствовать в беседе с нелепыми и глупыми комментариями Анастасия: «Не суйтесь, о. Анастасий»; в третий раз «хотел было сказать старику “не суйтесь”, но не сказал, а только поморщился» (Т. 6. С. 157–159). Подобным образом о. Федор проявляет пастырское терпение – вернее, нетерпение, – и психологический образ персонажа складывается окончательно. О. Федор – достаточно жесткий, властный, образованный (это подтверждается, помимо сложно организованной внутренней речи персонажа, его прекрасным владением учительным словом) и прагматичный иерей.
Письмо, которое о. Федор диктует дьякону, произнесено в официально-учительном стиле – и недаром восхищенный о. Анастасий откликается на него с соответствующей «регламентирующей» оценкой: «Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть! Ум! Светлый ум! Не женились бы, о. Федор, давно бы в архиереях были <…>!» (Т. 6. С. 160). О. Федор поучает: «Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны, скажу только, что причину твоей погибели вижу я в твоем неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо…
Всё письмо было в таком роде» (Там же).
Автор перебивает риторическую речь персонажа, поскольку она представляет собой, с одной стороны, упражнение в красноречии, а с другой – психологическую компенсацию о. Федора за некогда претерпеваемые от адресата беспокойства: «Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение» (Там же).
Затем дискредитированный и в ситуации рассказа, и в восприятии читателя о. Анастасий полностью меняет «прагматический контекст» (см.: [Ван Дейк, 2000. С. 25–26)]) коммуникации «отец – сын». Он советует дьякону не посылать письма и, более того, – простить сына: «Прости, Бог с ним! <…> Ежели отец родной его не просит, то кто ж его простит? <…> на-казующие без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал!» (Т. 6. С. 162). Призывы к милосердию, впрочем, перемежаются с рюмками водки, которые наливает себе о. Анастасий, мечтавший о разговленье еще в доме строгого благочинного и не дотерпевший до полуночи – тем самым формально вновь впавший в грех. Парадокс заключается в том, что грешник о. Анастасий совершает акт милосердия, а суровый о. благочинный придерживается тактики карающего пастыря, и даже грядущий светлый праздник не может смягчить его недовольства. В конце концов, дьякон, восхищенный учительным слогом о. Федора, прибавляет внизу несколько строчек о местных новостях и, «не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо», надписывает адрес (Т. 6. С. 163).
Таким образом, приписка разрушает выстроенную в учительном тексте дистанцию между корреспондентами, делая их равными собеседниками. Смысловая и жанровая инверсия – от назидания к прощению и от проповеди к бытописанию – по сути, элиминирует первоначальную интенцию высказывания и приближает его к пасхальному (письмо начинается с ритуального поздравления) частному сообщению.
Во втором рассказе – «На святках» – коммуникация состоялась: адресат получает письмо и даже понимает его вопреки написанному, ведь нанятый за пятиалтынный полуграмотный писарь записал придуманный им комически-назидательный текст вместо задуманного, но не произнесенного «заказчиками». Старики Василиса и Петр пытаются рассказать дочери Ефимье о своем житье, но Василиса сбивается, едва произнеся две общепринятые фразы: приветственную и поздравительную («А еще поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа… Царя Небесного» (Т. 10. С. 182)).
Тогда бойкий Егор сочиняет за них бессмысленные и «красивые» сочетания слов. Когда ему напоминают, что зять стариков «из солдат», вернувшихся со службы почти одновременно с писарем, тот вдохновляется на составление целого псевдовоинского артикула: «В настоящее время <…> как судьба Ваша через себя определила на Военое Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военого Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цывилизацию Чинов Военного Ведомства» (Там же).
Егор, подобно автору отеческого увещания в рассказе «Письмо», тоже не прочь наставить адресата: «И поетому Вы можете судить <…> какой есть враг Иноземный и какой Внутреный Враг есть-с: Бахус» (Т. 10. С. 183). В коммуникативном аспекте это «рассказ о бессловесности (любого) человека и о власти клишированного языка» [Степанов, 2005. С. 331]. Василиса догадывается, что писарь издевается над бедными стариками, но против его «учености» ей нечего возразить.
Телесное вновь продолжается в духовном – в «творческом» продукте ерничающего Егора: «Он сидел на табурете <…> сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно» (Т. 10. С. 183). Старик же «глядел с полным доверием», ничего не понял, «но доверчиво закивал головой»; он принимает «высокий штиль» письма: «Ничего, гладко… <…> дай Бог здоровья. Ничего…» (Там же). Старик – пассивный участник создаваемой Егором тупиковой коммуникации: «гладкое» скользит мимо ушей.
Несогласная с мудреной «эпистолой» Василиса понимает, что такое письмо не может найти отклика, но, как ни странно, получившая его Ефимья улавливает основной посыл: «подачу “сигнала существования”» [Степанов, 2005. С. 324]. Василиса хотела передать дочери, что с тех пор, как та покинула деревню, «утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь» и что в деревне много что переменилось за почти четыре года (Т. 10. С. 182). Ефимья, очевидно несчастная («Она его (мужа. – Л . С .) очень боялась, ах, как боялась! (Т. 10. С. 185)), ютящаяся в каморке, в водолечебнице, где ее преисполненный важности супруг-швейцар является проводником все той же победительной пошлости, что и деревенский писарь, вспоминает деревню, родной дом и захлебывается от слез. В деревне «снегу навалило под крыши… деревья белые-белые. <…> и собачка желтенькая…»; «А в поле зайчики бегают <…> В деревне душевно живут, Бога боятся… И церквочка в селе, мужики на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда Царица Небесная, заступница-матушка!» – причитает Ефимья (Т. 10. С. 184–185).
Жалоба-мольба Ефимьи полностью реконструирует мотивный комплекс «Утраченного рая», заявленный в чеховских произведениях. По наблюдению Ю. К. Щеглова, «характерный круг ностальгических мотивов» включает в себя как духовные ценности – свободу, близость к родным, радостное общение, – так и представления об идеальном месте, в котором персонаж когда-то обитал: «Это – родной дом, где тебя ласкали <…> близость к природе: солнцу, воде, миру животных, насекомых и птиц. С “Утраченным раем” связаны представления о нормальности, здоровье, досуге…» [2013. С. 509]. Ефимья восстанавливает прерванную связь с домом. В соответствии с жанровым заданием святочного рассказа герои «оказываются способными пережить то единение, которое и составляет суть праздничного времени» [Душечкина, 1995. С. 227].
И несмотря на финальную реплику рассказа: «Душ Шарко, ваше превосходительство!» (Т. 10. С. 185), – которая звучит неуместно в Новый год и маркирует всепобеждающую рутину, возникшее у Ефимьи представление о доме и празднике подтверждает состоявшееся событие коммуникации.
Таким образом, в рассказах А. П. Чехова «Письмо» и «На святках» послание от родителей к детям, опосредованное составителем письма, прочитывается потенциальным (в первом рассказе) и действительным (во втором) получателем адекватно замыслу адресанта. Это происходит за счет разрушения: а) стилевого единства («Письмо»); б) откровенной бессмыслицы («На святках») написанного. Своеобразие обоих рассказов заключается в том, что они являются календарными, и письма так или иначе передают праздничную эмоциональную мотивацию: эмпатическое вовлечение в местные дела в рассказе «Письмо» или создание иллюзии присутствия в родных местах в рассказе «На святках». Поэтому определение их сюжетно-смыслового ядра как «эпистолярного», на наш взгляд, релевантно их содержанию. При этом не столько важен сам текст сообщений, в последнем рассказе вовсе лишенный смысла, – сколько установление эмоционального контакта с адресатом.
Список литературы Письмо как способ коммуникации: два рассказа А. П. Чехова с "эпистолярным" сюжетом ("Письмо" и "На святках")
- Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: Сб. науч. тр./Пер. с англ. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с.
- Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: Становление жанра: Моногр. СПб.: СПбГУ, 1995. 256 с.
- Крейдлин Г. Е., Самохин М. В. Слухи, сплетни, молва -гармония и беспорядок//Логический анализ языка. Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка: Сб. ст./Под ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Индрик, 2003. С. 117-157.
- Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание/Авт.-сост. Е. В. Капинос, Е. Н. Проскурина; отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. Вып. 2. 245 с.
- Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова: Моногр. М.: Языки славянской культуры, 2005. 400 с.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 1996. 334 с.
- Щеглов Ю. К. Избр. труды: Сб. науч. тр./Сост. А. К. Жолковский, В. А. Щеглова. М.: РГГУ, 2013. 956 с.