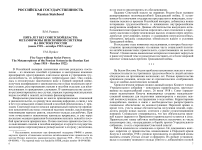Пять лет без советской власти: метаморфозы пенсионной системы на востоке России (июнь 1918 - октябрь 1922 годов)
Автор: Рынков В.М.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 66, 2020 года.
Бесплатный доступ
Пенсионное законодательство и практика выплат пенсий военным и гражданским служащим антибольшевистскими правительствами ранее в отечественной исторической литературе практически не рассматривались, за исключением нескольких публикаций. Выявление новых источников позволило автору расширить представление о законодательных инициативах и практике пенсионных выплат антибольшевистскими правительствами на востоке России. Более того, их пенсионная политика впервые вписана в более широкий контекст пенсионной политики антибольшевистских правительств на юге, севере и северо-западе России. Наиболее детальное правовое регулирование пенсионного законодательство осуществили Временное Сибирское правительство и Российское правительство адмирала А.В.Колчака, что позволило им возобновить отчисления выплат взносов в пенсионный капитал и одновременно установить гарантированные, хотя и небольшие, выплаты пенсионерам из казны. Главную проблему составляла адаптации порядка начисления пенсий к условиям быстро падавшего курса рубля. Другая проблема состояла в учете политической и идеологической обстановки Гражданской войны, которая исключала социальные выплаты политическим противникам, и требовала в обязательном порядке предусмотреть льготы для защитников действующей власти. Несмотря на существенные различия, пенсионную политику разных антибольшевистских правительств на востоке России объединяет отказ от классовых принципов, признание за государством социальных обязательств в том объеме, который существовал до революции, стремление адаптировать эти обязательства к условиям Гражданской войны. Сравнительный анализ свидетельствует о том, что и в других антибольшевистских регионах власти сталкивались с аналогичными проблемами и решали их примерно теми же самыми методами.
Гражданская война, белое движение, социальная политика, пенсия, пенсионная система, поволжье, сибирь, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/149127402
IDR: 149127402
Текст научной статьи Пять лет без советской власти: метаморфозы пенсионной системы на востоке России (июнь 1918 - октябрь 1922 годов)
Five Years without Soviet Power:
The Metamorphoses of the Pension System in the Russian East (June 1918 - October 1922)
В Российской империи пенсионная система рождалась постепенно - из казенных пособий служащим и мастеровым казенных предприятий, прослуживших длительное время и утратившим трудоспособность, из добровольных эмеритальных касс. Она сложилась в относительно законченном виде к Первой мировой войне, получила кодификацию в законодательстве в виде нескольких крупных уставов, регулировавших пенсии и пособия отдельно для военнослужащих и гражданских служащих. В законодательстве детально регламентировались все случаи, порядок и размер выплат разных видов пособий и пенсий, источники финансирования.
Февральская революция не внесла принципиальных изменений в законодательство, но раскрутила маховик инфляции, в связи с чем и без того невысокие ставки пенсий и пособий обесценились. С приходом Советской власти начался кардинальный пересмотр принципов пенсионной системы: отменили высокие пенсии, выслуженные чиновниками верхних рангов, увеличили оклады для рабочих. При этом отчисления в пенсионные капиталы прервались, и уже через несколько месяцев правления большевиков выплаты пенсий и пособий практически прекратились. Позже советское правительство стало выплачивать пенсии и пособия напрямую из средств государства, неоднократно пересматривало размер выплат в сторону увеличения, но не смогло предотвратить их обесценивания.
Падение Советской власти на окраинах России было вызвано развертыванием полномасштабной Гражданской войны. К оставшимся без попечения государства престарелым и инвалидам, получавшим пенсии со времени Российской империи, добавились новые потерявшие трудоспособность в начавшемся внутрироссийском вооруженном конфликте. Данные обстоятельства вынуждали антибольшевистские правительства определить свое отношение к советскому наследию в сфере пенсионных выплат, ставили перед необходимостью урегулировать вопрос о содержании нетрудоспособных, обозначить пределы социальных обязательств власти в условиях Гражданкой войны.
В последние годы появились исследования, в которых была всесторонне проанализирована эта важная часть социальной политики антибольшевистских правительств, существовавших на востоке России1. Однако вновь выявленные материалы позволяют вернуться к ранее изученной теме и попытаться поставить ее в более широкий контекст социальных проблем Гражданской войны.
* * *
На Белом Востоке России проблема пенсионных выплат и ответственности власти за утративших трудоспособность людей активно обсуждалась на протяжении нескольких лет. Разные правительства принимали решения, исходя как из прагматических соображений, так и из идейно-политических позиций.
Хронологически первым поднял данный вопрос Комитет членов Учредительного собрания - поволжское правительство, претендовавшее на всероссийский статус. 26 июля 1918 г. Совет управляющих ведомствами Комуча инициировал создание междуведомственной комиссии для подготовки законопроекта о выплате пенсий военнослужащим, пострадавшим в ходе войны. Корректировка понадобилась именно в связи с необходимостью распространить социальное обеспечение на военнослужащих Народной армии и, кроме того, учесть новые обстоятельства получения пенсий, определить размер новых выплат, соотнеся с ранее существовавшими нормами. Специально оговаривалось, что все обязательства прежней власти (царского и Временного правительств) остаются в силе. Правительство также заботила необходимость исключить из числа пенсионеров лиц, «пострадавших в борьбе против Учредительного собрания», то есть сторонников Советской власти2.
Работа комиссии не освещалась в прессе. Не дождавшись внятных директив от правительства, командование в Народной армии Комуча 4 сентября 1918 г. решило производить из армейской казны выплаты семьям убитых солдат и офицеров. Их размер устанавливался в половину воинского оклада убитого с добавлением полной суммы квартирных и пайковых денег. Выплаты следовало продолжать до принятия решения о начислении постоянной пенсии3. Но так как уполномоченные для принятия решений органы в то время отсутствовали, временные выплаты могли сохраняться довольно долго.
20 сентября 1918 г. Совет управляющих ведомствами Комуча принял постановление об увеличении процентных прибавок к пенсиям воинских чинов и их семейств. Причем для высших разрядов пенсий прибавка была установлена максимальная и составила для разных местностей от 552 до 371 %, для низшего разряда - от 160 до 100 %. Инвалидам, уволенным из армии до начала Русско-японской войны и получавшим ранее трех- или шестирублевое ежемесячное пособие, увеличили выплаты в четыре раза4. Осенью 1918 г. 12и24 руб. в месяц были хоть и небольшой суммой, но все же вполне существенной материальной помощью.
Как и многие начинания Комуча, эта инициатива осталась нереализованной ввиду быстрого военного поражения. Но нельзя не отметить одну важную новацию социалистического антибольшевистского правительства. В постановлении содержалось предписание лишить пенсий красноармейцев и их семьи. Даже те, кто заслужил пенсию в предыдущие годы, но оказался в Красной армии, терял право на социальные выплаты. Политико-идеологический принцип был впервые положен в основание социальной политики большевиками, но в дальнейшем к нему широко прибегали и их противники. Впрочем, другая принципиальная часть этого постановления - чем выше получаемая пенсия, тем выше надбавка - усиливала дифференциацию итоговых выплат, явно вступала в противоречие с тенденцией, получившей развитие в деятельности других антибольшевистских правительств, которые, напротив, старались сгладить прогрессию социальных выплат разным категориям получателей.
Необходимость восстановить отчисления из заработной платы правительственных и прочих гражданских служащих пенсионных взносов, а также внести назревшие изменения в пенсионное законодательство была признана Советом управляющих ведомствами Комуча 24 сентября 1918 г., за две недели до отступления войск Народной армии из Самары5. Подготовку законодательных инициатив поручили междуведомственной комиссии, а пока уведомили служащих о возобновлении вычетов из зарплат в пенсионный капитал6.
В Оренбургском военном округе, оказавшемся в изоляции от главного командования, пришлось самостоятельно разработать вопрос о социальных выплатах офицерам и их семьям. Временно командующий войсками округа полковник И.Г. Акулинин приказом по штабу округа № 68 от 25 июля 1918 г. восстановил выплату всех ранее утвержденных пенсий, учредил офицерскую комиссию с правом возбуждать ходатайства об установлении пенсионного содержания пострадавшим в войне с большевиками и их семействам. Комиссия 8
должна была в кратчайший срок начислить пенсии всем нуждавшимся офицерам, пособия - офицерским семьям, в том числе и тем, кого декреты советской власти лишали такого права. Вышедшим в отставку по болезни или ранению, полученному в борьбе с большевиками, до установления пенсии следовало выдавать 10 руб. суточных7. Принятые решения уже в августе-сентябре 1918 г. позволили начать выплату пенсии и пособий вдовам казачьих офицеров, погибших за последние несколько месяцев. На эти цели 6 сентября 1918 г. Оренбургский окружной штаб ассигновал 50 тыс. руб.8
В Сибири ситуативные ответы на социальные вызовы Гражданской войны потребовались гораздо раньше, чем удалось запустить подготовку законодательных решений. По отношению к военнослужащим и гражданским чиновникам вопрос решался асинхронно и подчас несогласованно. 4 июля 1918 г. командующий Степным Сибирским корпусом полковник А.Н. Гришин-Алмазов отдал приказ близким родственникам военнослужащих, убитых в борьбе с большевиками, без различия их званий и прежних окладов выплачивать по 300 руб. ежемесячно вплоть до начисления пенсии9. Сумма, кстати, была определена из расчета 10 руб. суточных во время нахождения в командировке. Приказ продолжал действовать до начала 1919 г. Необходимость его пересмотра довольно быстро стала очевидна. Даже по новым повышенным окладам размер пенсии оказывался существенно ниже 300 руб. в месяц. Но до ее официального установления проходило не менее полугода. За этот период просители получали выплаты, подчас многократно превышавшие просимые пенсии, и у них пропадал стимул торопиться с оформлением пенсионных документов10.
11 января 1919 г. в составе Генерального штаба сформировалось Пенсионное отделение, основной задачей которого стало своевременное оформление пенсий по запросам потерявших трудоспособность военнослужащих или родственников погибших солдат, офицеров и военных чиновников. Отделение сразу столкнулось с массой трудноразрешимых вопросов. Устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства и их семействам от 23 июня 1912 г., несмотря на детальность и фундаментальную правовую разработку, не позволял проиндексировать ставки пенсионных выплат. Существовавшие до революции специальные капиталы для выдачи пенсий отдельным категориям военнослужащих теперь оказались недоступны. Кроме того, оставалось множество некодифи-цированных новелл периода мировой войны и революции 1917 г., противоречивших прежнему пенсионному уставу.
20 февраля 1919 г. Совет министров Российского правительства принял Закон о пенсиях вдовам и сиротам рядовых бойцов11. Он не просто увеличил размер пенсии, но связал его с окладом погибшего. Отныне пересмотр окладов низших чинов означал соответствующую индексацию пенсионных выплат. Правда, специальная ин- струкция резко ограничивала круг его получателей. Пенсии и пособия выплачивались только престарелым (мужчинам старше 55 лет и женщинам старше 50 лет) или утратившим трудоспособность и признанным неимущими, то есть не имевших автономных источников дохода от имущества, капиталов и взрослых детей. Размер пособия равнялся пенсии вдовы погибшего. Волостным, уездным земским и городским управам поручалось призревать детей-сирот погибших военнослужащих и помещать их в приюты за казенный счет12.
В тот же день, 20 февраля 1919 г., при Генеральном штабе была организована комиссия по пересмотру Устава о пенсиях. Комиссия провела 20 заседаний и завершила работу 10 апреля 1919 г. За это время комиссия подготовила новую редакцию пенсионного устава 1912 г., пересмотрев размеры пенсий, адаптировав ряд статей к условиям Гражданской войны. Основным источником выплат воинских пенсий стала казна. Тем не менее решено было восстановить взносы из воинских окладов в эмеритальную кассу. Комиссия пришла к твердому убеждению, что пострадавшие от действий большевиков должны получать пенсионные выплаты на общих основаниях, а не выделяться в особую привилегированную группу13.
14 апреля 1919 г. Совет министров утвердил Положение о призрении увечных воинов и их семей, дополнявшее предшествовавший закон14. Оба нормативных акта подтверждали, что призрение указанных категорий граждан должно осуществляться за счет государства. Пенсии самим военноувечным или их вдовам, а также выплаты на содержание детей начислялись в размере, обозначенном Временным Сибирским правительством в постановлении от 30 октября 1918 г. со 100%-ной надбавкой15. Дети получали выплаты до 14 лет, а иждивенцы и учащиеся - до 21 года. При помещении получателя пенсии в инвалидный дом ему выплачивалась 1/5 пенсии, остальное шло на его содержание. Казна брала на себя содержание и обучение беспризорных детей военноувечных воинов, а также их лечение и обучение ремеслу. Все льготы распространялись в равной степени на внебрачные семьи. Положение предусмотрело право Министерства внутренних дел организовывать собственные учреждения для презрения военноувечных воинов и членов их семей или субсидировать земские и городские учреждения, используемые для содержания лиц, имевших право на военную пенсию от казны. Специальная инструкция МВД от 10 июня 1919 г. о порядке призрения увечных воинов и членов их семей, устанавливала заявительный принцип получения помощи от государства. Все выплаты делались лишь на основании заявлений в уездные или городские по воинской повинности присутствия, которые вели всю переписку с Военным министерством по соответствующему запросу. Инвалиды или нетрудоспособные члены их семей помещались в инвалидные дома по согласованию с учреждениями, в ведении которых находились такие дома (как правило, с городской управой или уездным земством)16.
Судя по тому, что на места упомянутая инструкция попала в июле17, пенсионные выплаты на основании Положения от 14 апреля 1919 г., вероятнее всего, начали выплачивать только во второй половине года.
Но оставалось еще несколько пробелов в законодательстве, настойчиво требовавших своего разрешения. По каким из неоднократно менявшимся ставкам высчитывать пенсии? Кто из пострадавших попадает под законодательство о пенсиях, а кто - нет? Расширение круга пенсионеров оказывалось слишком обременительно для государства. Поэтому обсуждение дополнений и изменений действовавших постановлений сопровождалось длительной дискуссией18.
Совет министров Российского правительства 17 июня 1919 г. утвердил «Временные правила о пенсиях лицам, пострадавшим на войне за освобождение России от советской власти и их семьям». С одной стороны, законодатели немного увеличили размер пенсии родственникам умерших или убитых в борьбе с большевиками. Они исчислялись в долях от оклада погибшего. Теперь эта доля стала во многих случаях на 10 % больше, чем предусматривалось Уставом о пенсиях 1912 г. Пенсию начисляли не только служащим регулярных воинских формирований, но и участникам добровольческих, в том числе и партизанских отрядов. С другой стороны, пенсию стали исчислять не от действующих окладов, а от окладов, обозначенных в табелях 1912 г., применяя к ним надбавки на дороговизну. Право на пенсию получали только пострадавшие после 1 мая 1918 г. и члены их семей, что лишило некоторых лиц возможности претендовать на государственную помощь19. Информация обо всех действовавших к тому времени нормах социальных выплат военнослужащим была объединена в специальном издании20.
Порядок выплаты пенсий гражданским чиновникам в Сибири подробно рассмотрен в предшествующих публикациях автора21. Как свидетельствует собранная информация, с июля 1918 г. по февраль 1919 г. Временное Сибирское и Российское правительства восстановили отчисления из зарплат служащих в пенсионный капитал. Дважды проводилась индексация пенсионных выплат - в октябре 1918 г. и июле 1919 г. Причем, низшие оклады индексировались максимально (в 2 и 9 раз), высшие - только на 40 и 50 %. Следовательно, пенсионные выплаты гражданских служащих постепенно выравнивались так же, как и у военных.
Процентное увеличение базовых окладов в условиях усиливавшейся инфляции проблему пенсионеров решить не могло. Поэтому власть вынуждена была распространить на пенсионные выплаты все новые надбавки на дороговизну, применявшиеся к окладам государственных служащих. Но на этом корректировка пенсионного законодательства Российским правительством не завершилась. Во второй половине 1919 г. пенсии и социальные выплаты вновь периодически индексировались в связи с падением стоимости рубля.
Список получателей пенсий пополнялся за счет врачей, священников, совершенствовался порядок выплат с учетом чрезвычайных обстоятельств Гражданской войны.
Один из острых социальных вопросов оказался связан с допустимостью увязывать пенсионные выплаты с политической лояльностью по отношению к власти. До революции Устав о пенсиях предусматривал выплату пенсий и пособий лицам, пострадавшим от преступных деяний, совершенных с политической целью. 19 сентября 1917 г. Временное правительство отменило эти выплаты22. С августа 1918 г. учреждения Временного Сибирского и Российского правительств получили множество запросов на выделение пенсий служащим, раненным в ходе политической и вооруженной борьбы с «представителями старого режима» или просто хулиганских действий отдельных лиц или групп, происходивших при попустительстве местных Советов, а также семьям убитых при тех же обстоятельствах. Списки служащих, которым министерства просили Совет министров утвердить единовременные пособия и усиленные пенсии, насчитывали сотни фамилий23. Причем пособия выделялись не только тем, кто пострадал после антибольшевистского переворота на востоке России. Основанием для начисления пенсий и пособий могли стать события, наступившие с февраля 1917 г. по май 1918 г. Нередко возникали сомнения в обоснованности представлений к выплатам. В военном ведомстве такие выплаты не практиковались, пенсии и пособия начислялись только пострадавшим участникам вооруженных столкновений.
Когда Отдел призрения МВД инициировал законопроект о специальных выплатах пострадавшим от политических гонений во время революции и советской власти, Военное министерство возражало, полагая возможным опираться на дореволюционное законодательство. Как отмечал директор Отдела призрения МВД А.А. Корчагин в специальном докладе от 9 июня 1919 г., большинство служащих подвергались насилию не при исполнении служебных обязанностей, а в силу одного лишь своего служебного и социального положения. Действующий закон позволял оказывать помощь только участникам боевых действий и лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев24. А.А. Корчагин предлагал распространить пенсионные выплаты и пособия на военнослужащих, правительственных служащих и священнослужителей, погибших или получивших увечья при советской власти. При этом гражданские служащие могли получить выплаты, только если пострадали непосредственно при исполнении своих служебных обязанностей, за сопротивление советской власти или подготовку такового.
Проблема материального обеспечения пострадавших в Гражданской войне и членов их семей не сразу попала в поле зрения антибольшевистских правительств, оставалась заботой военного руководства, самостоятельно действовавшего в отдельных очагах 12
противостояния Советской власти. Но примерно с октября 1918 г. Временное Сибирское и Российское правительства приступили к пересмотру нормативной базы и главным образом размера пенсионных выплат, чтобы, не перегружая бюджет, поддерживать на минимальном уровне благосостояние тех, кто пострадал в борьбе с противниками - с «внешними и внутренними врагами». До последних месяцев своего существования колчаковский режим проявлял заботу о материальном положении своих сторонников, правительственных служащих, имевших право на социальные выплаты в соответствии с законодательством, а также пострадавших в борьбе с советской властью.
Пришедший на смену Российскому правительству в Восточной Сибири Политцентр, сформированный из находившихся в оппозиции А.В. Колчаку социалистов, стал менять законодательство, внося в него кардинальные изменения. 8 января 1920 г. им был учрежден фонд обеспечения семей тех, кто погиб в борьбе с «реакционным» правительством адмирала Колчака. 17 января 1920 г. Междуведомственное совещание уполномоченных ведомствами Политцентра подготовило законопроект об отмене постановлений Совета министров Российского правительства о пенсиях лицам, пострадавшим в войне за освобождение России от советской власти, и о призрении семей служащих, убитых в борьбе с большевиками и утративших трудоспособность в связи с Гражданской войной. Взамен упомянутых нормативных актов готовились постановления о введении пенсий и пособий лицам, пострадавшим в борьбе с реакцией, и семьям лиц, погибшим в этой борьбе25. Так идеологически мотивированные пенсии прежнего правительства отменялись, зато Политцентр вводил аналогичные, но уже направленные на социальную защиту антиколчаковской оппозиции.
После военного поражения адмирала А.В. Колчака неподконтрольные Советской власти территории остались только в Восточном Забайкалье и на Дальнем Востоке. В январе - октябре 1920 г. в Восточном Забайкалье существовала администрация Верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской восточной окраины и атамана Забайкальского казачьего войска генерал-майора ГМ. Семенова. Семеновский режим был лишен возможности нести бремя полного объема социальных обязательств бывшего Российского правительства, пытался решить проблему персональными пенсиями героям Гражданской войны и их семьям. Но полагавшиеся по законам Российского правительства социальные выплаты сохранялись в качестве неоплатного долга, сумма которого постоянно росла в связи с введением все новых, более значительных надбавок правительственным служащим «по случаю дороговизны». Летом 1920 г. администрация атамана решила вместо установления все новых надбавок к зарплатам и пенсиям, к тому времени уже в разы превышавших первоначальный оклад, принципиально увеличить сами оклады. Помощник главнокомандующего вооруженными силами Российской восточной окраины по гражданской части приказом № 168 от 3 июня 1920 г. отменил с 1 мая все надбавки к пенсиям «по случаю дороговизны»26. В основе расчета новых пенсионных окладов лежали размеры пенсий, утвержденные до февраля 1917 г. Нижняя граница пенсионных выплат индексировалась в 100 раз (но не менее 4 800 руб.), верхняя - всего в 10 раз (но не более 65 тыс. руб.). Эти правила означали выравнивание пенсионных выплат по сравнению с дореволюционными27.
Впрочем, практическую значимость указанных нововведений едва ли можно допускать: осенью 1920 г. темпы инфляции в Восточном Забайкалье оказались стремительными, что лишало смысла любую фиксацию ставок и окладов.
Утвердившееся у власти в Приморье Временное правительство - Приморская областная земская управа (после 5 апреля 1920 г. -Временное правительство Дальнего Востока), как и Политцентр, состояла из социалистов, готовых к мирному взаимодействию с Советской властью. Оно продолжало выделять некоторые суммы на реализацию социальных обязательств колчаковского режима. Но куда большие суммы изыскивало для выплаты пенсий и пособий пострадавшим в борьбе против контрреволюции28. Новое региональное правительство пыталось опереться на группы населения, противостоявшие колчаковскому режиму. Значительные долги по старым и новым социальным выплатам и стремительная инфляция, обесценившая утвержденные в прошлом году пенсионные оклады, подтолкнули к пересмотру порядка начисления и размера ставок пенсий и пособий. Изменения определялись специальным законом, принятым 11 августа 1920 г.: все пенсионные оклады соизмерялись с текущим прожиточным минимумом, составляя от 0,4 до 1,5 от него. Примечательно, что на прибывших в последний месяц до принятия нового пенсионного закона, а также после этого срока, пенсионные обязательства правительства не распространялись. Таким образом, за бортом оставались въезжавшие в Приморье беженцы, в том числе после падения режима атамана Г.М. Семенова в Восточном Забайкалье, а само правительство не принимало на себя социальные обязательства других российских правительств по отношению к выходцам из других регионов.
Когда в результате очередного государственного переворота к власти пришло антибольшевистское Временное Приамурское правительство, оно оказалось завалено массой ходатайств о выделении пенсий и пособий обедневшим верным борцам против большевиков, имевших, по мерками царского или Российского правительства, все основания на получение пенсий. Несколько месяцев правительству приходилось решать социальные проблемы общества в «ручном режиме», принимая множество решений о выдаче пособий и пенсий конкретным героям борьбы с советской властью и членам их семей. 14
Наконец, 21 января 1921 г. правительство решилось на утверждение новых законов о пенсиях военным и гражданским служащим. По ним фактически восстанавливалось действие дореволюционного законодательства. Право на пенсии признавалось только за теми, кому они полагались по дореволюционным уставам, и только если они служили или вышли в отставку на территории Приморской области. Пенсия начислялась только материально не обеспеченным гражданским служащим, не имевшим недвижимости и иных доходов. Военнослужащие, потерявшие трудоспособность в борьбе с советской властью, имели право на пенсию независимо от материального положения. Размер пенсии индексировался в соответствии с изменениями прожиточного минимума и составлял от 0,35 до 1,629. Для определения круга пенсионеров законодатель обращался к дореволюционным нормам. Такие законодательные новации оставили без выплат некоторых пенсионеров, сократили размер выплат для других. Но в переполненном чиновными беженцами и военнослужащими Приморье в начале 1922 г. на казенном попечении оставалось до 5 тыс. пенсионеров30. Временное Приамурское правительство лишь на первый взгляд несколько усилило дифференциацию пенсий по сравнению с предшественником (разница минимального и максимального окладами стала составлять 4,57 вместо 3,75). На деле оно кардинально выровняло шкалу прогрессий, оставив одинаково бедными всех пенсионеров, так как до революции разница между минимальными и максимальными окладами пенсий была сорокакратная.
В какой степени проблемы, с которыми столкнулись антибольшевистские правительства на Востоке России и предложенные ими пути решения, являются оригинальными? Для поиска ответа на этот вопрос необходимо вторгнуться в сферу, практически не исследованную нашими предшественниками.
В других очагах антибольшевистского сопротивления правительственная власть также пыталась возобновить выплату пенсий на основании дореволюционного пенсионного законодательства, но столкнулась с проблемой инфляции и случаями, не вписывавшимися в дореволюционную нормативную базу. Не изобретя действенного механизма пересчета пенсий, антибольшевистские правительства производили периодически, - как правило, с большим опозданием, - процентное увеличение окладов пенсий, а также распространяли на пенсионеров прибавки на дороговизну31.
Вместо существовавших до революции эмиретальных касс, специальных капиталов и других фондов для выплаты пенсий отдельным категориям служащих источником всех выплат стала правительственная казна. Возобновили работу комиссии по освидетельствованию инвалидов и лиц, потерявших трудоспособность на службе в мировую или Гражданскую войну. Совет управляющих ведомств Всевеликого войска Донского и Особое совещание при глав- нокомандующем Вооруженными силами на юге России (ВСЮР) создали специальные комиссии по пересмотру пенсионных законоположений. Независимо друг от друга они пришли к выводу о нецелесообразности замены логичных и детально разработанных дореволюционных пенсионных уставов, предпочтя взять их за основу и подвергнуть переработке32.
Совет управляющих отделами Всевеликого войска Донского признал право на получение материальной помощи за счет войсковой казны на основании дореволюционных норм только за казаками, а также «лицами неказачьего сословия, принимавшими активное участие наравне с казаками в защите Дона от большевиков» и их семьями. 12 июня 1919 г. он отменил все ранее действовавшие пенсионные узаконения и принял новую редакцию закона о пенсиях и пособиях лицам, состоящим на службе военной и морской и их семействам33.
В Добровольческой армии семьям убитых выдавали единовременное пособие в размере 1 500 руб. на основании армейских инструкций34. 7 мая 1919 г. Особое совещание при главкоме ВСЮР приняло «Временное положение об удовлетворении пенсиями и пособиями увечных воинов, семейств убитых и умерших». Полностью утративший трудоспособность военнослужащий получал полный оклад содержания по последнему месту службы, частично утративший - часть оклада, пропорциональную доли потерянной трудоспособности, вдова погибшего или умершего военнослужащего - половину оклада, вдова с детьми получала большую долю, до полного оклада при трех и более детях, сирота без родителей получал четверть оклада35. Примечательно, что законодательные новеллы Особого совещания различались от нововведений Российского правительства в деталях, но общее направление вносимых в дореволюционное законодательство изменений у них было единым.
Не меньше внимания уделялось пенсиям и пособиям служащих и рабочих гражданских учреждений и предприятий. В Области войска Донского пенсионеры казны стали получать выплаты из областного бюджета на основании дореволюционных правил и ставок, сильно обесцененных инфляцией. 23 июля 1918 г. им восстановили надбавки за дороговизну. Лишь в марте 1919 г. одновременно с законоположениями, регулировавшими пенсии и пособия военнослужащих, Совет управляющих отделами Всевеликого войска Донского принял устав о социальных выплатах гражданским служащим36.
Пенсии по случаю потери кормильца выплачивались и семьям служащих Особого совещания, независимо от принадлежности к казачьему сословию. 26 октября 1919 г. Особое совещание при главкоме ВСЮР приняло обширный устав о пенсиях и пособиях гражданских служащих. В нем четко регламентировались основания для присуждения пенсий и пособий служащим и их семействам, размер выплат, основания для лишения пенсионных выплат. Позже, 16
18 ноября 1919 г., регламентировали и порядок начисления пенсий и пособий, назначенных «императорским и Временным правительствами»37. По этому положению, все ранее утвержденные пенсии возобновлялись с момента занятия местности частями ВСЮР. Если выплата пенсии или пособия приостанавливалась, то после возобновления доплата за прошедшие месяцы не производилась. Т а -ким образом, если на востоке России сложился единый порядок выплаты пенсий, то на юге они варьировались в разных полуавто-номных государственных образованиях. Впрочем, преувеличивать значение таких социальных трансфертов не следует. Необходимо помнить, что они определялись как доля от оклада по последнему месту службы. Сами ставки служащим при всех антибольшевистских правительствах на юге России устанавливались ничтожно малые, что подстегивало коррупцию и злоупотребления38. Вдовы и сироты погибших получали пенсию в 40-80 руб. при прожиточном минимуме в 1 500 руб. и не имели других способов заработать на жизнь, что обрекало их на полунищенское существование «Это было чистое издевательство», - характеризовал ситуацию деятель кадетской партии В.М. Левитский39.
На Севере России комиссию по пересмотру пенсионного устава Временное правительство Северной области образовало 18 ноября 1918 г., возобновив выплату всех пенсий, утвержденных до установления советской власти и всем, кто имел на нее право по дореволюционному законодательству. Не дожидаясь окончания работы комиссии, 7 февраля 1919 г., правительство увеличило вдвое все оклады пенсий в связи с обесцениваем рубля и признало своим обязательством выплачивать сполна пенсии служащим-беженцам, прибывшим из других регионов России. Общего пересмотра пенсионного устава для Северной области не последовало, но на протяжении 1919 г. пенсии постоянно индексировались с помощью надбавок к окладам на дороговизну, а число пенсионеров казны расширялось за счет служащих, ранее получавших страховые выплаты из эмеритальных касс40.
Северо-Западное правительство, распространявшее свою власть на части Псковской и Новгородской губерний, 27 сентября 1919 г. признало все права пенсионеров на получение государственного обеспечения после Гражданской войны, но в связи с недостатком средств временно начисляло всем пенсионерам по 200 руб. в месяц при условии отсутствия трудоспособных членов семьи, способных временно взять пенсионеров на иждивение. Пенсионеры, служившие в государственных или общественных учреждениях, на время службы теряли право на получение пенсионных выплат41. Правительство осознавало необходимость распространить право на пенсии на инвалидов, пострадавшим в борьбе с большевиками, и семьям погибших, но эти изменения остались только проектами42.
* * *
«Снабжение членов общества... пенсионеров и прочих практически полностью зависимых в социальном отношении лиц обусловливается прежде всего работоспособностью всего производственного аппарата»43. Эта непреложная истина, сформулированная известным германским экономистом В. Ойкиным, действует при всех режимах и во все времена. Ожидать на этом поприще успехов от правительственной власти в стране, четыре года участвовавшей в мировой войне и еще несколько лет пребывавшей в состоянии ожесточенной Гражданской войны, не приходится. В самой трудной ситуации, в отрыве от центра, противники Советской власти пытались организовать помощь военнослужащим, потерявшим трудоспособность, и семьям, лишившимся кормильца. Ради достижения результата антибольшевистские правительства готовы была идти на импровизацию, использовать самые разнообразные формы. Впрочем, почти все они были опробованы еще в годы мировой войны.
Поэтому антибольшевистские правительства шли по пути расширения круга получателей социальной помощи, признания всех старых правительственных обязательств и расширения за счет новых. Принцип лишения социальной поддержки своих идейно-политических противников использовался достаточно робко. Но все ускорявшийся маховик инфляционных процессов и острый дефицит бюджета сводили многие меры восстановления пенсионной системы к декларативным.
Даже периодическая индексация ставок не позволяла сделать пенсионные выплаты сколько-нибудь существенным подспорьем на продолжительный период. Отсутствие средств приводило к задержкам выплаты пенсий, а политическая нестабильность - к их длительному оформлению. Но нельзя не признать, что власти старались проявить заботу о пенсионерах и пытались нести возросшее бремя социальных расходов. И только на финальной стадии Гражданской войны власти столкнулись с необходимостью отказа от абсолютно непосильных обязательств.
Подходы большевистского режима были радикально отброшены. Власти, установленные антибольшевистскими военно-политическими силами, не отказались от заботы о старых, дореволюционных пенсионерах и пыталась распространить ранее существовавшие социальные льготы на новые группы населения, что только расширяло круг получателей пенсионных выплат.
Но следует оговорить два обстоятельства. Во-первых, серьезную попытку реанимировать пенсионную систему на востоке России предприняли только Временное Сибирское и Российское правительства. Это вполне соответствовало усилиям, предпринимаемым властями на Севере России, на Дону и Особым совещанием при главкоме ВСЮР. Во-вторых, условия Гражданской войны и инфляцион-18
ной экономики требовали адаптации пенсионной системы и даже ее кардинальной перестройки. И здесь тоже власть в разных регионах занимала достаточно схожую позицию. Нельзя не отметить общую демократизацию пенсионного законодательства в антибольшевистской России. Повсеместно законодатели отменяли ограничения по полу, национальности и вероисповеданию, расширяли круг профессий и должностей правительственных служащих и рабочих, имевших право на пенсионные выплаты.
Но только на востоке России, где к осени 1918 г. сложилось единое политическое пространство, охватившее несколько макрорегионов, удалось достичь видимых успехов одновременно в правовом и административном отношениях, при этом избежать крайностей политического реваншизма.
Список литературы Пять лет без советской власти: метаморфозы пенсионной системы на востоке России (июнь 1918 - октябрь 1922 годов)
- Рынков В.М. Социальная политика антибольшевистских режимов на востоке России (вторая половина 1918 – 1919 г.). Новосибирск, 2008. С. 192–194, 199–200, 204–205; Рынков В.М. Между революцией и контрреволюцией: Социальная политика Политцентра (5 – 21 января 1920 г.) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2010. Т. 9. № 1. С. 151–159; Рынков В.М. Индивидуальные социальные трансферты в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920 – 1922 годы как элемент социальной политики и идеологии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. № 1. С. 78–83; Катцина Т.А., Мезит Л.Э. Меры социальной помощи населению Енисейской губернии антибольшевистскими правительствами (июнь 1918 г. – декабрь 1919 г.) // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 4 (181). С. 78–91.
- Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-667. Оп. 1. Д. 23. Л. 232об.; Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, июнь – октябрь 1918 года. Москва, 2011. С. 43.
- Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 39466. Оп. 1. Д. 66. Л. 5–5об.
- Вестник Комитета членов Всероссийского учредительного собрания (Самара). 1918. 24 сент.; Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, июнь – октябрь 1918 года. С. 380, 381.
- ГА РФ. Ф. Р-667. Оп. 1. Д. 23. Л. 342; Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, июнь – октябрь 1918 года. С. 117.
- Вестник Комитета членов Всероссийского учредительного собрания. 1918. 27 сент.; Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, июнь – октябрь 1918 года. С. 382.
- Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. Р-1912. Оп. 1. Д. 6. Л. 33–34.
- ГАОО. Ф. Р-1912. Оп. 2. Д. 71. Л. 67, 68, 106, 117об.–118, 123об., 124.
- РГВА. Ф. 39466. Оп. 1. Д. 65. Л. 1.
- Там же. Л. 379.
- Правительственный вестник (Омск). 1919. 15 апр.; Собрание узаконений и распоряжений Российского правительства, издаваемые правительствующим сенатом. Омск, 1919. № 6. Ст. 68; Совет министров Российского правительства: Журналы заседаний (18 ноября 1918 – 3 января 1920 г.): Сборник документов. Т. 1. Новосибирск, 2016. С. 324–325.
- Алтайский вестник (Барнаул). 1919. 14 июля; Вестник Тобольской губернии (Тобольск). 1919. 17 июля; Семиреченские областные ведомости (Сергиопольская). 1919. 17 авг.
- РГВА. Ф. 39466. Оп. 1. Д. 66. Л. 79–135.
- Правительственный вестник (Омск). 1919. 10 мая; 25 мая.
- ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 1363. Л. 6.
- РГВА. Ф. 39466. Оп. 1. Д. 65. Л. 158–161.
- Позняк Т.З. Повседневная жизнь Владивостока от Первой мировой до Гражданской войны (1914 – 1922): Очерки истории. Владивосток, 2018. С. 301.
- Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского правительства адмирала А.В. Колчака, ноябрь 1918 – декабрь 1919: Сборник документов. Т. 2. Москва, 1918. С. 519–529.
- Правительственный вестник (Омск). 1919. 24 июля.
- Справочная книжка о правах солдат и их семей на пенсию, пособия и другие виды помощи от государства и об особых правилах и преимуществах на государственную помощь солдат участников войны с большевиками. Омск, 1919.
- Рынков В.М. Социальная политика антибольшевистских режимов на востоке России (вторая половина 1918 – 1919 г.). Новосибирск, 2008. С. 193, 194.
- Собрание узаконений Временного правительства. Петроград, 1917. № 246. Ст. 1750.
- ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 1. Д. 1558. Л. 12, 12об., 14, 29–30, 42–43, 56–57, 70, 70об., 134–135; Оп. 5. Д. 1366. Л. 26–27; Д. 1511. Л. 6.
- ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 4. Д. 36. Л. 470, 470об.; РГВА. Ф. 39466. Оп. 1. Д. 65. Л. 203, 203об.
- ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 13. Л. 19об.–20об.
- Рынков В.М. Индивидуальные социальные трансферты в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920 – 1922 годы как элемент социальной политики и идеологии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. № 1. С. 80.
- Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. 329. Оп. 1. Д. 28. Л. 277, 277 об.
- Рынков В.М. Индивидуальные социальные трансферты в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920 – 1922 годы как элемент социальной политики и идеологии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. № 1. С. 81.
- Вестник Временного Приамурского правительства (Владивосток). 1922. 21 февр.; 22 февр.
- Рынков В.М. Индивидуальные социальные трансферты в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920 – 1922 годы как элемент социальной политики и идеологии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. № 1. С. 83–84.
- Собрание узаконений и распоряжений правительства Всевеликого войска Донского. Новочеркасск, 1919. № 29. Ст. 168.
- Объяснительная записка к проекту Общего пенсионного устава, выработанному Пенсионной подкомиссией Комиссии законодательных предположений Большого войскового круга Всевеликого войска Донского. Новочеркасск, [б.г.].
- Собрание узаконений и распоряжений правительства Всевеликого войска Донского. Новочеркасск, 1919. № 15. Ст. 83; № 23. Ст. 110; № 30. Ст. 186; № 31. Ст. 190.
- Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. Берлин, 1925. С. 89.
- Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое Особым совещанием при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России. Екатеринодар, 1919. № 12. Ст. 64.
- Собрание узаконений и распоряжений правительства Всевеликого войска Донского. Новочеркасск, 1918. Вып. 3. Ст. 191; Собрание узаконений и распоряжений правительства Всевеликого войска Донского. Новочеркасск, 1919. № 39. Ст. 335, 336.
- Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое Особым совещанием при Главнокомандующем Вооруженными силами на юге России. Екатеринодар, 1919. № 28. Ст. 194; № 36. Ст. 328; № 44. Ст. 411.
- Karpenko S.V. The White Dictatorship’ Bureaucracy in the South of Russia: Social Structure, Living Conditions, and Performance (1918 – 1920) // The Soviet and Post-Soviet Review. 2010. Vol. 37. № 1. P. 84–96; Карпенко С.В. Экономический кризис и коррупция: Из истории тыла белых армий юга России (1918 – 1920 гг.) // Экономический журнал. 2015. № 1 (37). С. 112– 114.
- Левитский В.М. Борьба на Юге: Факты. Люди. Настроения. Москва, 2019. С. 104.
- Собрание узаконений и распоряжений Временного правительства Северной области. Архангельск, 1918. № 2. Ст. 206; № 7. Ст. 316, 317; Собрание узаконений и распоряжений Временного правительства Северной области. Архангельск, 1919. № 9. Ст. 364; № 13. Ст. 410; № 14. Ст. 440; № 20. Ст. 530; № 25/7. Ст. 597; № 27/9. Ст. 633.
- ГА РФ. Ф. Р-6385. Оп 1. Д. 2. Л. 10; Свободная Россия (Ревель). 1919. 12 окт.
- ГА РФ. Ф. Р-6385. Оп 1. Д. 3. Л. 33–34об.
- Ойкен В. Основные принципы экономической политики. Москва, 1995. С. 405.