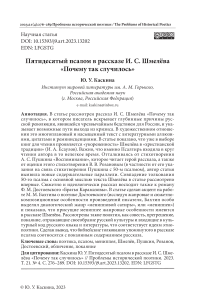Пятидесятый псалом в рассказе И. С. Шмелёва «Почему так случилось»
Автор: Каскина Ю.У.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен рассказ И. С. Шмелёва «Почему так случилось», в котором писатель вскрывает глубинные причины русской революции, явившейся чрезвычайным бедствием для России, и указывает возможные пути выхода из кризиса. В художественном отношении это многоплановый и насыщенный текст с литературными аллюзиями, цитатами и реминисценциями. В статье показано, что уже в выборе книг для чтения проявляется «укорененность» Шмелёва в «христианской традиции» (И. А. Есаулов). Важно, что именно Псалтирь входила в круг чтения автора в то нелегкое время. Отталкиваясь от стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание», которое читает герой рассказа, а также от оценки этого стихотворения В. В. Розановым (в частности от его указания на связь стихотворения Пушкина с 50-м псалмом), автор статьи выявила новые содержательные параллели. Совпадение толкования 50-го псалма с основной мыслью текста Шмелёва в статье рассмотрено впервые. Сюжетно и идеологически рассказ восходит также к роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». В статье сделан акцент на работе М. М. Бахтина о поэтике Достоевского (исследуя жанровые и сюжетнокомпозиционные особенности произведений писателя, Бахтин особо выделял диалогический жанр «менипповой сатиры», или «мениппеи») и показано, что присущие мениппее жанровые особенности имеются в рассказе Шмелёва. Рассмотрены такие понятия, как совесть, прегрешение, покаяние, отражающие своеобразие русской культуры и входящие в культурный код русского языка и литературы, что соответствует идеям этнопоэтики. Сделан вывод, что библейские толкования упомянутого в рассказе псалма соотносятся с покаянным содержанием рассказа
Поэтика, псалом, мениппея, шмелёв, пушкин, розанов, достоевский, обличение, покаяние
Короткий адрес: https://sciup.org/147242336
IDR: 147242336 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13202
Текст научной статьи Пятидесятый псалом в рассказе И. С. Шмелёва «Почему так случилось»
Р ассказ И. С. Шмелёва «Почему так случилось» сложен, многогранен, насыщен литературными аллюзиями, цитатами, реминисценциями. Как сообщал сам автор 28 августа 1945 г. И. А. Ильину и его жене Наталии Николаевне, «писалось в тоске великой (весна 1944 г.)» [Ильин: 334]. «Трудный для постижения в беглом чтении» (по оценке самого автора1), но неоднократно привлекавший внимание исследователей (см.: [Сорокина], [Солнцева], [Спиридонова], [Суровова]), рассказ и сегодня нуждается в дальнейшем углубленном исследовании — в том числе, например, в уточнении датировки.
О. Н. Сорокина первая обратила внимание на жалобы Шмелёва по поводу «отсутствия материала для чтения» [Сорокина: 285] в период работы над рассказом. Действительно, 22 августа 1945 г. он писал Ильину: «…нет Турген<евской> библиотеки, где можно было найти многое, старинное… редкостное… — немцы схряпали». И — «Библия моя — мелкого набора, глаза болят, нельзя долго. Псалмы читаю » (здесь и далее полужирным выделено мной. — Ю. К .) [Ильин: 332]. Тут знаменательна не только «укорененность» Шмелёва «в христианской традиции» (даже в выборе книг для чтения), постоянно отмечаемая И. А. Есауловым [Есаулов: 20]. Для нас важно узнать, что именно Псалтирь входила в круг чтения автора в это время.
Справедливая в целом Н. М. Солнцевой проблематики рассказа как повествования «о блужданиях русского интеллигента» в дальнейших ее рассуждениях представляется нам несколько упрощенной. «…В рассказе выразилась мысль, — считает исследовательница, — что в революции виновата интеллигенция, а вот голгофские страдания легли на плечи народа» [Солнцева: 404]. Однако интеллигенция страдала порой не меньше, и явленный в рассказе образ профессора во многом это демонстрирует.
Л. А. Спиридонова в своей книге также остановила внимание на рассказе «Почему так случилось», но сосредоточилась на текстологическом аспекте, утверждая, что известный нам текст произведения является второй его редакцией, значи тельно расшир енной по сравнению с первой, созданной в 1942 г.
Она полагает, что, переделывая рассказ в конце Великой Отечественной войны, Шмелёв «внес иные акценты в оценку событий русской истории». Исследовательница отметила, что «вернувшаяся к Шмелёву надежда на русский народ, способный вынести все и одолеть врага, изменила финал рассказа» [Спиридонова: 203].
Суждение Л. Ю. Сурововой о том, что рассказ «Почему так случилось» « призван раскрыть сущность народной веры » [Суровова: 463], и упоминание псалмолпевца Давида также дополняют исследовательскую картину, но не конкретизируют значимые частности.
Герой рассказа «Почему так случилось» — пожилой профессор-филолог, эмигрант — пишет историко-философское сочинение с таким же названием, в котором пытается осмыслить причины и последствия русской революции, тем самым подвести своеобразный итог своей научной и общественной деятельности. Он занят, по словам Солнцевой, «философией прогресса» [Солнцева: 404].
Вопросы, встающие перед профессором, столь болезненны и животрепещущи, что у него развивается бессонница, невропатолог советует «ложиться в 10» и думать, «раз уж не можете не думать <…> только о легком и приятном»2.
Чтобы успокоиться после дневных трудов, профессор читает на ночь стихи Пушкина. Он анализирует одно из них — «Воспоминание» (1828), которое высоко оценивали как современники поэта, так и современники Шмелёва. А. Мицкевич считал это стихотворение «лучшим его произведением»3, П. Б. Струве писал о соединенности в Пушкине «неистовострастной и жадно-безумной души с ясным и трезвым, мерным и простым Духом» и усматривал в «Воспоминании» «не толь ко психологи ческий, но и подлинно религиозный смысл»4.
-
В. С. Непомнящий утверждал, что пушкинские строки «говорят о муках совести, драме вины, неизбежной в отношениях человека с Богом» [Непомнящий: 342]. В целом, пушкинисты единодушно выделяют в нем, как один из главных, мотив покаяния .
«Случайный» выбор именно этого стихотворения неудачен для профессора и неслучаен для Шмелёва. Многими читателями XIX–XX вв. это стихотворение было любимо, и многие, как и профессор, знали его наизусть:
«Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю»5.
Профессор смакует аллитерации и ассонансы:
«Нашел новые оттенки, томительные три "т": "…В уме, подавленном т-оской, т-еснится т-яжких дум избыток". Нашел еще три "и": "Воспоминание безмолвно предо мной свой дл-и-инный разв-и-вает св-и-ток". В этих "и" чувствовалось ему бесконечно-то-мящая мука "угрызений". Усмотрел и другие "и", еще больше усиливающие томленье: "И… — с отвращением читая жизнь мою…" И… — "горько жалуюсь, и… горько слезы лью…" И это двойное — "горько"!
"Но строк печальных не смываю"» (254).
Вспоминает профессор высокую оценку этого сочинения В. Розановым: «…называл "50-м псалмом для всего человечества"» (254). Действительно, в сборнике «Опавшие листья» Розанов, записал свое впечатление о стихотворении:
«Пушкин… я его ел . Уже знаешь страницу, сцену: и перечтешь вновь; но это — еда . Вошло в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от грехов. Его
"Когда для смертного умолкнет шумный день…"
одинаково с 50-м псалмом ("Помилуй мя, Боже"). Так же велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда»6.
Профессор думает: «Правда, <…> воистину, п о к а я н н ы й…» (254). Добавляет к раздумьям Розанова свое:
«Этот стих он называл "приговором", наступающим неизбежно, неумолимо, — уйти от него н е л ь з я доводами рассудка, а надо принять и… что? — выстрадать?… И опять, в какой уже раз подумал: "да, счастливы верующие крепко… находят исход томленью в пафосе покаяния… и не просто один-на-один с собой, а при уполномоченном для сего с в и д е т е л е… и, кажется, это верно… психологически…". Томительно признавая, что "смыть" нельзя, он закрыл книгу и, вопреки советам невропатолога, невольно стал развивать свой "свиток"… но тут же спохватился, что не заснет, и принялся механически считать» (254).
Профессор наконец засыпает во время приятного воспоминания, как он гимназистом, с трудом достав билет на галерку, в Большом театре слушал оперу Ш. Гуно «Фауст» (1859) «с Бутенко в роли Мефистофеля» (254). Профессор вспоминает мороз, в который он стоял в очереди за билетом; в его памяти всплывают сугробы, «будто сцена в Большом, последний акт "жизни за Царя" <…> И вот — сугроб начинает шевелиться, показывается темный гребешок… — изба, должно быть?» (256). Войти в дом, где так вкусно пахнет щами, он не решается. Он уверен, что мужик спросит его:
«…ба-рин… а п о ч е м у… т а к… с л у ч и л о с ь?! ты вон в книгу пишешь, а все не то! ты по со-вести пиши… кто довел нашу Ра-сею-матушку до такой ямищи?! до такого смертоубивства?!‥ а?!‥ нет, ты сказывай, не виляй… кака притчи-на, кто додумался до такого? кто научил?‥ а?!!» (256).
Ему стыдно войти.
Далее Шмелёв использует известный сюжет явления человеку черта во сне. Сам он определяет это в письме Ильину как «некую параллель с кошмаром Ивана Карамазова» [Ильин: 332]. В рассказе Шмелёва происходит следующая трансформация: внутренний монолог профессора наяву сменяется воображаемым диалогом с мужиком во сне и далее во сне перерастает в диалог с чертом.
М. М. Бахтин, исследуя жанровые и сюжетно-композиционные особенности произведений Достоевского, особо выделял диалогический жанр «менипповой сатиры», или «мениппеи». Подробно описав основные черты этого жанра [Бахтин: 169–177], он доказал, что мениппеи имеются как в ранних произведениях Достоевского, так и в его романах.
По мысли Бахтина, «в "Братьях Карамазовых" замечательной мениппеей является беседа Ивана и Алеши в трактире "Столичный город" на торговой площади захолустного городка. Здесь под звуки трактирного органа, под стук бильярдных шаров, под хлопанье откупориваемых бутылок монах и атеист решают последние мировые вопросы . В эту "Мениппову сатиру" вставлена вторая сатира — "<…> о Великом инквизиторе", имеющая самостоятельное значение и построенная на евангельской синкризе Христа с дьяволом. Обе эти взаимосвязанные "Менипповы сатиры" принадлежат к числу глубочайших художественно-философских произведений всей мировой литературы. Наконец, столь же глубокой мениппеей является беседа Ивана Карамазова с чертом (глава "Черт. Кошмар Ивана Федоровича"). Конечно, все эти мениппеи подчинены объемлющему их полифоническому замыслу романного целого, определяются им и не выделимы из него» (курсив наш. — Ю. К .) [Бахтин: 235].
Жанровые особенности, присущие мениппее (одна из которых, зачастую карнавального характера — обсуждение вечных вопросов на фоне бытовой повседневности), имеются в рассказе Шмелёва.
Итак, черт оперный преобразовывается в настоящего, между ними происходит разговор. Он начинается «похвалой» Ф. М. Достоевскому: «А ведь недурственно, меня-то, Федор-то Михайлыч, представил» (259), — и напоминанием об Иване Федоровиче Карамазове. Как известно, в четвертой главе романа «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» в болезненном состоянии Ивану Карамазову является двойник героя в образе черта и начинает изводить его же собственными идеями. Он озвучивает мысли Ивана, вскоре получившие реальное развитие, что привело впоследствии к разрушению устоев жизни и государства. Это мысли о необходимости пошатнуть в обществе веру в Бога: «По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело!»7.
Мефистофель-Бутенко-черт в рассказе Шмелёва объясняет профессору, что тот в молодости и был именно одним из вольных или невольных, сознательных или случайных разрушителей нравственных основ общества и веры в Бога, — и показывает, к вящему удивлению негодующего слушателя, как именно.
Черт рассказывает изумленному собеседнику многое из того, что казалось профессору незначительным или вообще хотелось забыть. Как после симфонических концертов он «вскипал», «призывал извозчика»: «…чем-то троглодитным, опосля "сим-фоний"-то, был для тебя тот "ванька"… но как же без него, хоть и с "зарядом"?» (262). «И что же… мужик-то тоже… любил "симфонии"!» (262) — вдруг неожиданно сообщает он. И объясняет, что те же самые высокие чувства способен был переживать простой мужик, способен понимать и ценить виртуозное исполнение — в разных московских церквах «певали и солисты из Большого» (263), и не только восхищаться, наслаждаясь эстетически, но и возноситься! Возноситься к духовным вершинам, проникаться молитвой, преодолевать земное и материальное, переживать настоящее религиозное чувство:
«…ему во тьме и грязи, его-то… с загаженной землишки, открывалось… ну… да, открывалось!‥ небо! приходится признаться, — весь универс!» (262).
Черт наконец предъявляет здесь свое обвинение: «И вот, все это… ты у него украл» (263). На удивление и возражение профессора: «Подлец! фальсификатор!‥ шулер!‥ лжец!‥» — он объясняет, как «подпарывали т к а н ь-то, "устойцы"-то шатали» (264–265), убеждали народ, что Бога нет, что теперь все можно. Черт напоминает, как туляк-извозчик, парень лет 20-ти, покончил с собой из-за того, что «Бога нету, да-к мине скуш-но» (264). Рассказывает, как в Татьянин день студенты праздновали, пили, пели из Некрасова про народ. Он напоминает профессору, что тот в юности договорился с тетушкой посещать церковные службы за деньги.
Многочисленные аллюзии, реминисценции, цитаты, имена писателей, поэтов, литературных критиков, художников, композиторов, оперных певцов заставляют внимательно изучать текст, что уже частично сделано нами в монографии [Каскина]. Критично, язвительно и реалистично, к примеру, высказывается черт о знаменитых стихах Н. А. Некрасова про народ — «На Волге» и «Размышления у парадного подъезда»: «А каков финальчик "стонный"! И под телегой-то, и под овином, и под стогом… ну, стон и стон»; «Да в страдную-то пору будет тебе Микита по подъездам шляться, хоша бы и "парадным"!» (265).
Перед исчезновением Мефистофель все же прописывает «рецепты» или пути выхода из душевного кризиса. Кривляясь и поясничая, он дает «три презентика»:
«Первый: ты вдрызг бесснастный и посему бессилен оплодотворять… дарю совет: лечись! да вот, досада… слишком поздно. Второй: займи хоть у Микиты на монетку его сверх-логики! ах, нет под рукой Микиты! И — последний: свешивай почаще русую… пардон, седую! — голову к груди, где инструментик… "угрызений" им меряется, говорит, все очень точно!» (267).
Если расшифровать иносказания, они — в возвращении к вечным ценностям, чистоте души, совестливости, а еще точнее — в вере, покаянии и смирении . Проснувшись, профессор произнес: «Ф-ф… ко-шмар… Ффу… грязь какая!» — и размашисто написал: «ЛОЖЬ!», затем порвав и растоптав свой труд.
Обратимся снова к началу рассказа, которое, согласно оценке Розанова, отсылает к 50-му псалму. Дело в том, что 50-й псалом, с пояснением «покаянный», входит в состав утренних молитв и звучит в церкви ежедневно так: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во слове-сех Твоих, и победиши внегда судити Ти. <…> Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. <…> Научу без-законныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. <…> Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит»8.
Этот псалом был хорошо известен до революции каждому. И, как утверждает толкователь дореволюционных времен, «благочестивые христиане любили и дома упражняться в пении и чтении его, заучивая для этого даже наизусть благолепные слова его»9. Подобным образом интеллигентный читатель часто знал наизусть пушкинское «Воспоминание».
Полное название псалма: «В конец, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафану, пророку: егда вниде к Вирсавии, жене Уриеве». А толкование его таково: увидев красавицу Вирсавию, царь Давид воспылал к ней страстной любовью, он нарочно отослал ее мужа Урию на войну, на верную смерть, и взял Вирсавию себе в жены. Но впоследствии Давид глубоко раскаялся в содеянном и горячо просил у Господа прощения10.
Этот сюжет пророк Нафан излагает Давиду (2 Цар. 12:1–9) в виде притчи о том, как один богатый человек, имевший много крупного и мелкого скота, чтобы угостить пришедшего к нему в дом странника, отобрал единственную овечку у бедняка. Притча соотносима, на наш взгляд, с обвинением черта, когда он рассказывает о том, как простой мужик, условно названный «Микита» (это собирательный образ) «возносился», то есть во время богослужения молился — воспарял духом, на время отрешившись от всего земного, не замечая ничего мелкого, обыденного, веруя искренно и просто. Об этом уважительно отзывается даже лукавый, обвиняя профессора:
«А вознесенный и не слышит, — вознесен! И вот, все это… ты у него украл» (263).
Герой рассказа Шмелёва, подобно Давиду, отобравшему у бедняка овечку, лишил мужика единственной, но глубокой и духовной, эстетической радости.
Анализ псалма завершается так: «Псалом Давидов научает нас прежде всего воспитывать в сердце своем смиренное чувство покаяния и помнить, что истинное покаяние состоит не в лукавых словах самооправдания, а в сознании полного своего бессилия, недостоинства и неключимости, в сердечном сокрушении о содеянных прегрешениях и твердом намерении и обещании исправить свою жизнь, соединенном с надеждою на милость Божию»11.
Как видим, это толкование совпадает с «рецептами» черта профессору, а также с оценкой самого И. С. Шмелёва. В мае 1947 г. в статье «Необходимый ответ. Письмо в газету » (Русская мысль. Париж. 1947. 31 мая. № 7), он выделил «покаяние русского интеллигента» как одну из главных тем своего рас-сказа12. Отметим, что эти слова толкования и такие понятия, как совесть, прегрешение, покаяние, отражают своеобразие русской культуры, входят в культурный код русского языка и литературы и соответствуют идеям этнопоэтики [Захаров: 12], [Борисова].
Движение по авторским указателям: стихотворение А. С. Пушкина «Воспоминание» → отзыв В. В. Розанова → 50-й псалом — привело нас к Псалтири, толкованию псалмов и открытию нового смысла рассказа Шмелёва. Совпадение толкования 50-го псалма с основной мыслью рассказа выявлены нами впервые.
В «Почему так случилось» Шмелёв вскрывает глубинные причины русской революции, явившейся чрезвычайным бедствием для России, и указывает пути выхода из кризиса.
Список литературы Пятидесятый псалом в рассказе И. С. Шмелёва «Почему так случилось»
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 416 с.
- Борисова В. В. Терминологический словарь-тезаурус евангельского текста Достоевского: результаты корпусного анализа и интерпретации // Неизвестный Достоевский. 2023. Т. 10. № 2. С. 81–112 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1689238963.pdf. (19.04.2023) DOI: 10.15393/j10.art.2023.6701. EDN: NGMSEM
- Есаулов И. А. Поэтика русского мiра Ивана Шмелёва // Проблемы исторической поэтики. 2023. Т. 21. № 2. С. 7–37 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1687187573.pdf (19.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2023.12442. EDN: GORZCK
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 7–19 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1593805089.pdf (19.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8382
- Ильин И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1935–1946) / сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М.: Русская книга, 2000. 576 с.
- Каскина Ю. У. И. С. Шмелёв и русская классика XIX века: И. С. Тургенев, А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 160 с.
- Непомнящий В. С. Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы. М.: Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 2001. 398 с.
- Солнцева Н. М. Иван Шмелёв. Жизнь и творчество. Жизнеописание. М.: Эллис Лак, 2007. 512 с.
- Сорокина О. Н. Московиана: жизнь и творчество Ивана Шмелёва. М.: Моск. рабочий, 2000. 408 с.
- Спиридонова Л. А. Художественный мир И. С. Шмелёва. М.: ИМЛИ РАН, 2014. 240 с.
- Суровова Л. Ю. Иван Шмелёв // Русская литература 1920–1930-х годов. Портреты прозаиков: в 3 т. М.: ИМЛИ РАН, 2016. Т. 1. Кн. 1. С. 394–482. (Сер.: История русской литературы XX века.)