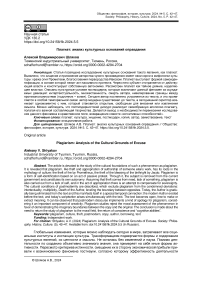Плагиат: анализ культурных оснований оправдания
Автор: Шляков А.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию культурных оснований такого явления, как плагиат. Выявлено, что хищение и присвоение авторства чужого произведения имеет свои корни в мифологии культуры: кража огня Прометеем, благословения первородства Иаковом. Плагиат выступает формой самоидентификации, в основе которой лежит акт пассивного протеста. Через него субъект отстраняется от действующей власти и конституирует собственную автономию. Рассмотрен плагиат как тайное деяние, наделяющее властью. Описаны культурные условия постмодерна, которые исключают данный феномен из осуждаемых девиаций: интертекстуальность, множественность, смерть автора, нивелирование границы между противоположностями (подлинник - копия). Сегодня автор постепенно устраняется из текста, и это проявляется в особой темпоральной связи: автор модерна существовал до текста, а сегодняшний скриптор возникает одномоментно с ним, который становится открытым, свободным для внесения или извлечения смысла. Можно наблюдать, что постмодернистский дискурс реализует своеобразную апологию плагиату, полагая его важной составляющей творчества. Делается вывод о необходимости перенесения исследования данного феномена в нравственное поле, возвращения совести «когнитивных способностей».
Плагиат, культура, хищение, постмодерн, копия, автор, заимствование, текст
Короткий адрес: https://sciup.org/149145921
IDR: 149145921 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.5
Текст научной статьи Плагиат: анализ культурных оснований оправдания
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия, ,
,
ученого оценивается через количественные показатели. Это подтолкнуло научное сообщество к необходимости наращивать «публикационную активность», что с неизбежностью сказалось на качестве научных работ и одновременно поставило ряд этических проблем, среди которых следует назвать и недобросовестное заимствование. Как пишет Е. Савицкий, в постфукольдианскую эпоху наука от поиска истины отклонилась в сторону разработки технологий производства знания (Савицкий, 2017: 318). К последнему стали применяться требования этики, среди которых – обязательное подтверждение ученым авторства своего открытия, публикации, то есть запрет на недобросовестное заимствование, или плагиат, попадающий с 2001 г. под статью 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»1. Это позволяет предположить, что из разового индивидуального акта нравственной девиации плагиат в научной среде переходит в распространенное явление, что, на наш взгляд, актуализирует проблему. Таким образом, целью работы является рассмотрение в оптиках модерна и постмодерна феномена плагиата для выявления факторов, обосновывающих его присутствие в данных культурных парадигмах, и тенденций, способствующих распространению и легитимации, а также предложить подход по минимизации явления.
Под плагиатом принято понимать «умышленное присвоение авторства чужой работы или ее фрагмента» (Левин, 2018: 145). Термин происходит от латинского «plagium», который обозначал незаконное обращение свободных людей в рабство. Это выглядит показательным, там как плагиатор использует того, кто творит свободно. Термин получил широкое распространение в период Нового времени, в Россию перешел от французского «plagiat» (подражание). Сегодня под плагиатом понимают хищение интеллектуальной собственности, присвоение чужого авторства.
Согласно мифологии, история человеческой культуры связана с хищением: кража огня Прометеем, плода от древа познания добра и зла Евой, благословения Иаковом. Причем иногда это действо героизируется, как в случае Прометея, которого описывает Платон в диалоге «Про-тагор»2. Хищение выступает антиподом дарения, которое основано на случайной воле дарителя и обеспечивает жесткую зависимость одаряемого от дарителя. В этом процессе происходит освобождение от случайности. Плагиат также является хищением. Но если при последнем похититель скрывает украденный объект, то при плагиате он демонстрируется им как свой в надежде, что прежние признаки принадлежности другому автору в нем не будут обнаружены. Для этого исходный объект должен быть изменен. Так, процесс плагиата выступает искусной творческой фальсификацией. Это не копия, так как она стремится максимально приблизиться к оригиналу, а фальшивка, стремящаяся отстраниться от подлинника, пытающаяся обрести самостоятельность. И хотя между плагиатом и фальшивкой нет полного тождества, некоторые исследователи предлагают рассматривать их вместе (Ackermann, 1992). Подделке подлежит только то, что обладает ценностью, может быть реализовано, поэтому плагиат выступает своеобразным индикатором значимости исходного произведения.
По мнению Е. Савицкого, хищение выступает формой самоидентификации, в основе которой лежит акт пассивного протеста (Савицкий, 2017). Через него субъект отстраняется от действующей власти и конституирует собственную автономию. Предполагая, что хищение происходит от нужды, недостатка чего-либо, можно утверждать, что плагиат также осуществляется от дефицита самости, и в акте присвоения происходит попытка компенсировать суверенность. Как отмечает Г. Гегель, становление субъекта происходит через осознание недостаточности и желания компенсировать ее (Гегель, 2021). В плагиате нет открытого бунта, он происходит тайно, незаметно ни для автора, ни для окружающих. К.С. Пигров, А.К. Секацкий пишут, что любой способ идентификации предполагает тайну (Пигров, Секацкий, 2010: 6), которая представляет собой эмоционально нагруженное знание о незнании. Владение тайной подразумевает наличие в человеке «Я», ведь тайну знает именно он, а не его имя или статус. Именно это выделяет субъекта из сообщества, наделяет его индивидуальностью: «Я неповторим потому, что у меня есть тайна». Но в акте плагиата она может проявляться и в профанной форме, загадке, которая может быть разгадана, секрете, который может быть раскрыт. Отдавая в публичное обнародование похищенное и преобразованное знание, плагиатор погружается в экзистенциал азартной игры: «раскроют – не раскроют», а редакция получает задание разгадать загадку, уличить во лжи, преобразовать тайное в явное. Таким образом, подозрительность становится естественным состоянием, в отличие от доверчивости, которая требует серьезного подвижничества, чтобы научиться, зная об обмане.
Бытие и обладание тесно связаны между собой, поэтому и индивид определяется не только тем, что он есть, но и тем, что у него есть, чем он владеет (Gehrlach, 2016: 29). Плагиат выступает самостоятельным тайным созданием собственности. Какой ущерб наносится автору, если после плагиата он даже не знает о хищении? Е. Савицкий считает, что боги, потерявшие огонь, стали собственниками только тогда, когда он оказался нужен кому-то еще и воплотил «желающий взгляд Другого» (Савицкий, 2017: 311). Похищается то, что незаметно для собственника, не защищено им. В этом обнаруживается желание быть независимым, обрести хотя бы сиюминутную самостоятельность, но при этом оставаться слабым, не способным к открытому бунту.
Плагиат в области научного знания рассматривается А.-К. Ройлеке в оптике подделки и фальсификации, которые не только имеют, с ее точки зрения, негативную оценку, но и способствуют развитию науки. Подделки оказали влияние на искусствоведение и филологию, которые А.-К. Ройлеке называет «науками о фальшивках» (Reulecke, 2016: 31). Выявление заимствования предполагает, что существует некий подлинный авторский текст, неплагиат, однако Х. Блум пишет, что ни один автор не может гарантировать оригинальность своего произведения: «Так что же можем мы назвать своим собственным, кроме силы, энергии, воли?» (Блум, 1998: 31). По словам Р. Федермана, если литература является лишь отображением реальности, то наличие воображения у писателя становится ненужным (Federman, 1993: 60). Писатель должен мастерски встраивать цитаты в новые контексты, осуществлять их переносы в новые места. В эпоху романтизма считалось обычным делом взять в качестве рабочего материала произведения Средневековья и стилизовать их. Это выглядело искусственно, поэтому романтики отдавали предпочтение цитированию, сохранявшему в себе дух прошлого.
Рассматривая плагиат в гегелевской диалектике раба и господина, можно проблематизи-ровать статус плагиатора. Кем он выступает: рабом из-за своей материальной и идентификационной недостаточности по отношению к господину (автору), или господином, так как посягнул на нарушение норм, запретов и в результате хищения обрел тайное знание, о котором ведает только он? Нет власти без тайны, именно на последней она и выстраивается, поэтому обладание плагиатора знанием о тайном деянии наделяет его сакральностью, дает ему власть. Господство над чужой собственностью, распоряжение ей по своему умыслу и для своей пользы возвышает плагиатора. При этом сам господин становится в зависимость от раба (плагиатора), ибо благодаря ему он наделяется сакральным статусом жертвы.
Плагиат возникает наряду с закреплением в собственности результатов интеллектуального, творческого труда, которая оспаривается как капиталистическая условность. Позиция собственности на информацию, патентное право исходит из предположения новоевропейской культуры, что знание должно подчиняться законам вещного, материального мира, отношений в нем, но это право не содержится в природе самого знания. Б. Брехт, уличенный в заимствовании, сожалеет, что еще не успел создать в плагиате ничего важного, но сам этот процесс почитает и чествует (Брехт, 1988). Плагиат им используется как борьба с подлинностью, через которую достигается отчужденность, отстраненность читателя, зрителя, должного не погружаться в образы произведения, а компетентно анализировать, распознавать текст (Земляной, 2004: 39).
Плагиат в научной среде можно рассматривать как акт хищений только при условии того, что наука признается творчеством так, как только в акте творчества может проявиться автор. Однако Н. Бердяев настойчиво отвергает научное творчество, полагая, что в его основе лежит не свобода, значимая для творения, а «подчинение мировой необходимости» (Бердяев, 1988). Что творит ученый? Он лишь открывает то, что до него уже существовало. «Научное знание безлично и интерсубъективно. В нем не остается следов личности того, кто получил результат» (Никифоров, 1989: 60). Поэтому с возникновением науки авторство стало приравниваться к первенству в открытии, что выглядит достаточно спорным критерием.
В истории существует достаточное количество примеров одновременных открытий, произведенных разными учеными независимо и в удаленных друг от друга точках пространства. Признание авторства в научной среде происходит после того, как ученый «растиражировал» результаты своих исследований в большом количестве признанных изданий и представил их на научных конференциях. Но факт коллективного свидетельства авторства имеет и обратную сторону, которую выявил Р. Мертон (Merton, 1973). После коллективного признания авторский труд принимается в коллективную науку, где происходит его использование, тиражирование, обезличивание, а авторское становится общим. Таким образом современный ученый попадает в безвыходную ситуацию: готовясь к публичному обнародованию своих трудов, чтобы подтвердить свое авторство, он нивелирует его, делая свои труды доступными для плагиаторов. Но отсутствие публичной научной активности ведет к академическому исчезновению.
Особые культурные условия, способствующие оправданию и распространению плагиата, заимствования создаются в постмодерне. Потоки коллажирования и цитирования захлестнули научную (и не только) литературу. В этот период культуры размываются границы творца и творения, копии и оригинала. Р. Барт пишет, что фигура автора является детищем Нового времени, появившимся благодаря высвобождению человека от власти религиозного теоцентризма (Барт,
1994). Сегодня автор постепенно устраняется из текста, и это проявляется в особой темпоральной связи: нововременной автор существовал до текста (продумывая, сочиняя, вынашивая), тогда как сегодняшний скриптор одномоментен. Текст становится открытым, свободным для внесения или извлечения смысла. «Присвоить тексту автора – это значит застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо», – утверждает Р. Барт (Барт, 1994: 389). Освобожденный от автора, смысла и содержания текст становится самостоятельным.
Подобный процесс Ж. Бодрийяр называл симуляцией, а то, что заменило объекты, – симулякрами, понимая под ними копии, у которых отсутствует оригинал (Бодрийяр, 2000: 114). Цитата может быть рассмотрена как симулякр, однако ее не следует путать с простым дублированием, так как каждое цитирование создает новые модификации, транскрипции (Шуб, 2007: 57). Она не может рассматриваться как копия (плагиат), так как вносит новые смыслы, будучи размещена в иных коннотационных условиях. Если исходить из кумулятивной концепции развития науки, то цитата выступает необходимым связующим звеном между прошлым и настоящим. Потребность в познании возникает в результате столкновения с проблемой, но если она отсутствует, то ничего не мешает выдумать ее и симулировать решение.
М. Фуко, размышляя об авторе, поддерживает мысль С. Беккета: «Какая разница, кто гово-рит?»1. По его мнению, письмо освобождается от того, кто говорит, становясь игрой знаков, определяемых не содержанием, а природой самого знака (Фуко, 1996: 13). М. Фуко говорит о пространстве, которое не идентифицирует («пришпиливает») автора и в котором пишущий субъект «не перестает исчезать». Письмо должно позволить не только «обойтись без ссылки на автора, но и дать основание для его нового отсутствия» (Фуко, 1996: 14). Автор выступает как способ существования дискурсов определенной стадии культуры, причем последние являются объектом присвоения. Научный дискурс ценен сам по себе, пишет М. Фуко, а не ссылкой на открывшего нечто человека, поэтому автор стирается (Фуко, 1996). Конечно, некоторый авторский набор в виде грамматических компонентов в тексте сохраняется, но его роль в разных дискурсах неравнозначна. Автор, а именно «функция-автор», обусловлен институциональной, правовой системой, которая детерминирует дискурс, место его может быть занято множеством субъектов, носителями классовых позиций.
Можно наблюдать, что постмодернистский дискурс реализует своеобразную апологию плагиату, полагая его важной составляющей творчества, необходимым условием интертекстуальности. Исследования в этой проблематике отказываются от нравственной оценки явления в пользу демонстрации мнимости границ между копией и оригиналом, установления культурных условностей установления этих различий. Речь идет о введении новых оптик при рассмотрении плагиата: проблеме дискриминации «слабых авторов», вторжения политического в область знаний. За рационалистскими суждениями теряется акт экзистенциального переживания самого субъекта плагиата, который, несмотря на позитивное обоснование, оправдание своей деятельности, чувствует, где «свое», а где «чужое».
Вопросы хищения и плагиата касаются не столько разума, сколько совести и нравственности. Попытки рационально обосновать плагиат демонстрируют компенсацию духовной пустоты логическими умозаключениями. Обращение к позитивному мышлению приводит к забвению «когнитивных способностей» самой совести (Варава, 2003). Границами плагиата выступают сознательные мотивы, о которых сам субъект не знать не может. Можно предположить, что распространение плагиата связано также с инфантилизацией сознания. «Детскость» его проявляется в наивном представлении о справедливости как о делении поровну. Если взять то, что понравилось, но чуть-чуть, чтобы никто не заметил, то это не кража. Культура постмодерна, устранив Бога и взявшись за устранение человека, отказывается от нравственной оценки человеческих действий, предложив гедонистическое мировоззрение. Постмодерн создает оптику, в которой сущее выступает должным, а вечное аннулируется. Опираться на предыдущее знание как на фундамент – значит двигаться вверх, обретая вертикаль; вплетать его в свой текст, компилировать его, то есть оставаться в горизонте иллюзорной новизны. Вертикальность подразумевает глубину и высоту, в ней обретается смысл. Горизонтальность предусматривает перечисление событий, пустословие. Автор отыскивает путь к трансцендентному, тогда как плагиатор занимается удвоением копий реальности. Вненравственное измерение плагиата ведет к экспансии вседозволенности, которая никак не способствует приближению ни к истине в науке, ни к вечности в художественном творчестве. Поэтому необходимо вернуть и в философский дискурс, и в культуру значимость нравственной составляющей, позволяющей говорить о добре и зле, выявлять тщательно замаскировавшиеся и оправданные корни зла, обнаруживать множество его форм и не дать патологии духовной бедности превратиться в норму.
Список литературы Плагиат: анализ культурных оснований оправдания
- Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384–391.
- Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М., 1988. 608 с.
- Блум Х. Страх влияния. Екатеринбург, 1998. 364 с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 389 с.
- Брехт Б. О литературе. М., 1988. 531 с.
- Варава В.В. Этика исчезающей благодати (опыт адогматического истолкования «злого» в человеке). Воронеж, 2003. 32 с.
- Гегель Г.Ф. Феноменология духа. М., 2021. 704 с.
- Земляной С.Н. Этика Бертольта Брехта // Этическая мысль. 2004. № 5. С. 37–52.
- Левин В.И. Плагиат, его сущность и борьба с ним // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 1. С. 143–150.
- Никифоров А.Л. Является ли философия наукой? // Философские науки. 1989. № 6. С. 52–62.
- Пигров К.С., Секацкий А.К Социальная философия тайны. СПб., 2010. 200 с.
- Савицкий Е. Политика воровства: фальсификации, кражи и плагиат как основополагающие культурные практики от Прометея до наших дней // Новое литературное обозрение. 2017. № 4 (146). С. 307–319.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. 448 с.
- Шуб М.Л. Постмодернистская цитата как механизм темпоральной коммуникации // Мир науки, культуры, образования. 2007. № 2 (5). С. 56–58.
- Ackermann K. Fälschung und Plagiat als Motiv in der Zeitgenössischen Literatur // Romanische Forschungen. 1993. № 105. S. 161–166. (на нем. яз.)
- Federman R. Critifiction: Imagination as Plagiarism // Critifiction: Post-Modern Essays. N. Y., 1993. P. 48–64.
- Gehrlach A.D. Die heimliche Aneignung als Ursprungserzählung in Literatur, Philosophie und Mythos. Paderborn, 2016. 421 s.
- Merton R. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, 1973. 605 р.
- Reulecke A.-K. Täuschend, ähnlich. Fälschung und Plagiatals Figuren des Wissens in Literatur und Wissenschaften: Eine philologisch-kulturwissenschaftliche Studie. Paderborn, 2016. 469 s. https://doi.org/10.30965/9783846754269. (на нем. яз.)