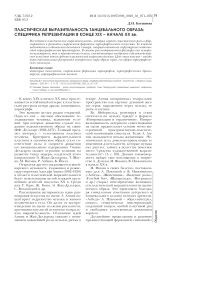Пластическая выразительность танцевального образа: специфика репрезентации в конце XIX - начале XX вв.
Автор: Катышева Дженни Николаевна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Мир художественной культуры
Статья в выпуске: 1 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследуется пластическая выразительность, которая играет существенную роль в формировании и развитии современной формации хореографического искусства. Ее влияние наблюдается в обновлении балетного словаря, совершенствовании структурных особенностей хореографической драматургии. В статье рассматриваются факторы как историко-культурного, так и практического плана, способствующие внедрению в балетмейстерское искусство новых средств пластической выразительности. Цель этих поисков - найти пути танцевального раскрытия внутреннего мира образа героя, его сферы хореографических монологов.
Категория телесности, современная формация хореографии, хореографическая драматургия, хореографический монолог
Короткий адрес: https://sciup.org/140298576
IDR: 140298576 | УДК: 7.072.2 | DOI: 10.53115/19975996_2023_01_071-076
Текст научной статьи Пластическая выразительность танцевального образа: специфика репрезентации в конце XIX - начале XX вв.
К концу XIX и началу XX века прослеживается устойчивый интерес к пластическим ресурсам актера драмы, танцовщика, хореографа.
Это вызвано целым рядом открытий. Одно из них – научное обоснование телодвижения человека, выяснение условий, при которых движение служит созданию художественного образа на сцене (Ф.Ф. Дельсарт (1862–1871). Главный предмет интереса – естественная пластика человека. Критерием выразительности пластики в сценическом образе стало со -ответствие силы и скорости движения его эмоциональному содержанию. Учение Дельсарта окажет огромное влияние на развитие танца модерн, создателей этого направления Э. Жака-Далькроза, Т. Шоуна, М. Вигман, Р. Лабана, К. Йосса.
Открытия другого выдающегося швейцарского музыканта, художника и режиссера-теоретика Адольфа Аппиа (1862–1928) в области пластической выразительности будут использованы целой плеядой крупнейших деятелей искусства XX в. Среди них Г. Крэг, Ж. Копо, Э. Жак-Далькроз, С. Волконский и др.
Рассматривая вагнеровскую идею равноправия искусства на сцене, А. Аппиа акцентирует содружество музыки и живого человеческого тела. Он далек от воспроизведения на сцене иллюзии реальности, противопоставляя ей истинную театральную выразительность. Сближение идей Аппиа и Жак-Далькроза связано с пониманием важнейшей роли музыки, ритма в театре. Аппиа воспринимал театральное пространство как картину духовной жизни героя, выраженное через музыку, ее ритм, пластику.
Вс. Мейерхольд, репетируя и ставя спектакли на музыку, придет к формуле «Импровизация и ограничение». Импро-визационность актерского существования на сцене предполагает условие четко выстроенной пространственно-пластической композиции спектакля. Тезис А. Аппиа оказывается весьма жизненным: «Человеческое тело, довольно приемлющее те изменения длительности, которые музыка ему диктует, займет в искусстве почетное место “средства художественной выразительности”» [1, с. 60]. Данная закономерность найдет свое воплощение в творчестве А. Дункан, М. Фокина, В. Нижинского в начале XX в.
М. Фокин в своих балетах, поставленных для А. Павловой и В. Нижинского («Лебедь», «Шопениана», «Видение розы», «Голубой бог», «Шахерезада», «Петрушка» и др.) открыл неисчерпаемые возможности пластической выразительности сценического образа. Это произошло благодаря уникальному сочетанию актерского и танцевального таланта великих артистов. «Лебедь» А. Павловой – образ-интеграл, символ, семантически неисчерпаемый, созданный танцем, особой пластикой рук и свободным естественным движением корпуса.
Дальнейшее продолжение и развитие предшествующей формацией, связанной с
Общество
эпохой М. Петипа, проявляется с начала XX в. творческими достижениями М. Фокина и А. Горского. Начнется все с «Русских сезонов», а затем плеядой танцовщиков и балетмейстеров в театре «Русский балет» С. Дягилева (1911–1929). К этому культурно-историческому периоду назрела необходимость обновить устоявшийся канон классического танца, абстрагированный в передаче духовно-эмоционального внутреннего мира героя на сцене. Понадобились новые выразительные средства. И они нашлись в пластике, телесности образа, следовательно, не только в танцевальной, но и пластической хореографии. Они позволяли конкретно визуализировать внутренний мир человека, к которому рождается особый интерес, открыть впервые в балетном спектакле монологические зоны образа, его внутренний монолог, материализованный в танцевально-пластическом выражении. В драматическом театре монолог был известен еще с V в. до н. э. и являлся необходимой частью действенной структуры спектакля (Эсхил, Софокл, Еврипид).
В том, что он возникнет и в балетном
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
театре по мере поисков выразительных средств в воплощении внутреннего мира человека, была неизбежная закономерность, как отмечает Л.Д. Блок: «Но история научает нас, что профессиональный танец никогда не оставался одинаковым, вечно в развитии, в эволюции, он насчитывает 4 отчетливых деления, этапы, связанные с зарождением новой идеологии, с новой эпохой в искусстве» [4, с. 566].
А. Дункан, по верному наблюдению Л.Д. Блок, «открыла целый мир возможностей»: «…можно находить танцевальные образы на основе серьезной симфонической музыки, можно жить в танце всем освобожденным телом» [4, с. 330].
Поначалу Дункан черпала фантазию движений танца из античных фресок, вазовой живописи, используя легкий хитон с полуобнаженным телом, часто с босыми ногами. Изначальное стремление – к импровизационному существованию в танце, живой передаче энергии, чувств и мыслей. Ее одухотворенный танец проходил эволюцию – от коротких импровизаций до пластической философии жизни в согласии с партитурами симфонии П. Чайковский, 5-й симфонии Бетховена, неоконченной 9-я симфонии Шуберта, произведений Листа, Скрябина и других композиторов.
Она отрицала в танце «красоту линий вообще», если она не была оправдана пре- красной целью. Иными словами, она стремилась к смыслообразующему сценическому действию, совмещая единство правды: органику жизни духа и правду чувств с телесной основой, пластическим воплощением хореографии.
К этому стремился и К.С. Станиславский, реформируя актерское искусство и прокладывая дальнейший путь к профессии режиссуры. Он это искал в источниках, предлагаемых обстоятельствах, мотивах сценического поведения на сцене, а также в танцевальном искусстве, находя единство правды духа, чувства и тела. Позже Станиславский посвятит статью Дункан в его непосредственном танцевально-пластическом действии с точки зрения фаз рождения, развития и формирования чувства образа героини в единстве духовного и телесного.
М. Фокин начнет свою реформаторскую деятельность, будучи танцовщиком – солистом Мариинского театра, с глубинного накопления новых художественных идей, которые стали возникать в новом культурно-историческом периоде в отечественном искусстве на рубеже XIX–XX вв. и далее на протяжении первой половины XX в. Он усвоит новые художественные идеи в области актерского и режиссерского искусства К. С. Станиславского. Его брат Николай, работавший в драматическом театре, обратил на себя внимание Фокина тем, что искал сценические перевоплощения в образ героя, персонажа, стремясь не повторяться в разных спектаклях. Штудирование литературы классиков, их высказываний о балетном театре не проходит мимо его внимания. Он увидел проект нового балета в книге Л.Н. Толстого «Что такое искусство» в том, что «Толстой в своих романах так восхитительно осмысливал танец, так исключительно понимал жест, мимику человека. Он знал, что из одного жеста, движения человека можно сделать художественное произведение» [6, с. 126]. Он высоко оценил мнение Гоголя о танце.
Занимаясь музыкой, игрой на разных инструментах, участвуя в оркестре В. Андреева, он переписывал партии для инструментов, оркеструя музыкальные пьесы. Все это способствовало пониманию музыки в балетном спектакле и убеждению в необходимости изучения ритмических структур. При сочинении своих балетов, танцев он руководствовался своими знаниями, способностью слышать музыку в соответствии с хореографией.
Выступая в качестве солиста в Мариинском театре в классических балетах, он вскоре убедился в выхолощенности танца в классике. Его диагноз был точен и своевременен: «Все художественные задания балета, все художественные приемы заменяются другими, нехудожественными. Нет перевоплощения, нет создания образа. Вместо того – показывание самого себя. Нет переживаний на сцене. Вместо них – погоня за успехом, угождение публике, старание получить ее одобрение, взгляды в публику, угодливые жесты. Нет единства действия. Оно прерывается для того, чтобы <…> своими поклонами растянуть аплодисменты публики. Нет единства в средствах выражения» [6, с. 124]. По этим направлениям и началась его реформаторская деятельность.
Его внимание было сосредоточено на выразительном, психологически мотивированном смыслообразующем танце, а также его пластической составляющей. К ней было приковано внимание хореографа. Чтобы раскрыть внутренний мир героя, его монологические зоны, требовалось раскрыть ресурсы телесности для органического танцевального действия, зримой визуализации внутренних импульсов души и сердца действующего лица. Все это исключала возможность механического танца строго по канону.
Открытия в области пластической выразительности танцевального образа были в кругу особого внимания Фокина, в том числе и А. Дункан: «Дункан я ценю, как реакцию на одностороннее направление балета. Балет слишком много танцует ногами, Дункан же – почти исключительно руками и корпусом. Я жду танцовщицу, которая будет танцевать всем своим телом». И далее: «…реакция против неестественности балета, освобождение тела от стесняющей его одежды, одухотворенность и простота танцев – все это пришло к нам с Дункан» [6, с. 518]. Однако, как далее комментирует Фокин: «Мысль о том, что в основу танца должно быть положено искреннее эмоциональное движение <…> формы танца <…> своими корнями должны уходить в правду жизни <…> – эта мысль, которая двигала мой труд и из которой родился новый русский балет» [6, с. 520].
Цель преобразований Фокина в русле телесности заключалась в том, чтобы зримо выразить смысл и внутреннюю жизнь героя в процессе развития танца, в осязаемой чувственной форме – жизненную энергию пластики, жеста человеческой личности. И тем самым классический «канон» обретал живую мысль и чувство, воздействующие на публику. «Канон» был исполнен живыми энергиями, позволил Фокину осуществлять свою цель – открывать тот одухотворенный танец, к которому он стремился. Как говорит Б. Эйхенбаум, искусство создает канон, чтобы его нарушать.
Однако в дальнейшем в создании образа героя эротизм был тесно связан с духовной доминантой. Это ярко проявлялось в его балетмейстерском шедевре «Петрушка» на музыку И. Стравинского (1911). Балетмейстер обращается к истокам русской культуры – народному театру. Исследуя по-своему историю русской души, он избирает ее символический образ в кукле. В народном театре Петрушка – завсегдатай и герой всех ярмарок. Он, подобно другой игрушке, Ваньке-встаньке, оказывается, как правило, в самых разных жизненных передрягах, иногда не без опасности для жизни. Но в итоге выходит победителем, выдерживая любые испытания. В его поведении во взаимосвязи телесного и духовного акцентируется второе. Б. Эйхенбаум подчеркивал специфику сценических эмоций, чуждых аффективным, душевным, патологическим. Они нейтрализуются ритмом, становясь духовными, эстетическими, представленными подлинными героями [8, с. 539].
Фокин, в отличие от народного петрушечного театра, избирает другой жанровый регистр жизни Петрушки – трагический. Петрушку погубит иноземец Арап в драматическом конфликте, когда Петрушка бросится защищать Балерину, к которой питает высокое любовное чувство, в отличие от Арапа с его плотскими низменными притязаниями. Конфликт Петрушки и Арапа – фактически идейный. В нем Петрушка защищает честь и достоинство, свою веру, свою любовь, нравственный закон, защищая Балерину, которая по недомыслию пыталась сблизиться с Арапом. Да, смертную телесность Петрушки погубит Арап, но не учтет бессмертную душу Петрушки. Она провозгласит свое бессмертие, оказавшись наверху кукольного балагана, оповещая о себе живой, как вечно торжествующем звуком трубы, обращенным ко всему миру на Земле. И тем самым утвердит победу духа над плотью.
Но вместе с тем Фокин, будучи предвестником нового исполнительского сти- ля, как и новой формации танца, усилит роль телесности, пластического начала в
Общество
Общество. Среда. Развитие № 1’2023
балетмейстерской практике. Это имело отношение к роли пластики в создании индивидуализированного образа героев. В спектакле в целом, что было для него главным – пространственно-пластическая и танцевальная композиция с разной хореографической стилистикой – стилизация народных танцев, кукольного движения и значительные монологические зоны (картина в каморке Петрушки) решены средствами пластической хореографии, где движения рук, корпуса передают мучительные страдания Петрушки.
Фокин учитывает открытия роли телесности, пластики в драматическом театре, нашедшие обоснование в новациях К.С. Станиславского. Так, он писал, связь жизни человеческого духа и «жизни человеческого тела» проявляется через движения, которые материализуют, определяют драматическое действие, превращенное в сценическое. Станиславский отмечал: «Первой вехой, помогающей освобождению всего человека для творческих задач артистических, будет, конечно, функция тела – движение <…> надо иметь тонкую наблюдательность и память в мелочах, чтобы воспроизводить не одну позу и жест, но гармонично движущиеся мысли и тело» [3, с. 136].
Стремление балетмейстера обратиться к телесности в ее эротической составляющей с явно выраженным сексуальным началом, в подлинно художественном творении, обретает процесс эстетизации чувств, страстей. Последнее определяется уже самим фактом музыкальной основы танцевального действия. И чем значительнее музыка, особенно симфоническая, тем больше возможностей выйти за границы сюжета бытийности, к вечным проблемам человеческого бытия, масштаба философско-нравственного уровня.
Как справедливо высказалась С.Ю. Бакина о Фокине, «…именно он преподнес эротику как самоценный мотив, раскрыв и усилив прежде искусство всего, ее эстетическое начало» [2, с. 14].
Влияние Фокина на мировой и отечественный балет трудно переоценить, особенно в современную эпоху при усилении роли механического начала в танце, чему всегда противостоит та же музыка с ее главной функцией передачи человеческих чувств, мыслей и страстей. Современные цифровые технологии, вытесняющие бытие реальности в ее чувственном телесном осуществлении, обусловили обращение к телесности. Это явилось противостоянием всему виртуальному, неживому, или, как говорят, мертвому театру.
Зарубежные труппы в настоящее время используют открытия Фокина в основном в качестве малых форм балета, но акцентируют определенные сферы человеческой жизни. Это, в первую очередь, взаимоотношения полов, мужчины и женщины, экзистенциональные проблемы, комплексы, погружение в подсознание, в сексуальную сферу отношений. Этому призвана телесность, пропущенная через призму «сексуализации сознания хореографа, а эротика представлена как специфическая квинтэссенция, ее существенное ядро» [7, с. 26].
Вместе с тем открытия Фокина были продолжены и в сфере воплощения эротики в хореографии, не исключая ее сексуальной составляющей. В мировой хореографии существовали под запретом наиболее интимные проявления в человеческой внутренней потаенной жизни. В этом плане явился показательным балет В. Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» на античную тему и на музыку К. Дебюсси. В рождении замысла балетмейстера сыграли свою роль ряд факторов: его стремление обновить хореографический словарь, преодолев жесткие рамки канона классического танца, убрать пуанты. Главное было – найти новые источники танцевальной лексики, чему способствовала поездка В. Нижинского в Грецию. Его внимание привлекла техника на керамике краснофигурной вазописи, мотивы сюжетов о сатирах – плотоядных существах, преследующих нимф. Он заимствует движения фигур, выраженных во фронтальных и профильных позах в вазовой живописи, напоминающей изображения на древнегреческом фризе. Фактически им было изменено сценическое трехмерное пространство, в котором существовал танец, начиная с древности вплоть до эпохи классики. Этот сдвиг хореографии в пластическое изображение потребовал новации во всех движениях исполнителей, был преображен в пластическое действие (от танца один прыжок). И в таком ракурсе был представлен сюжет, воплощающий юного фавна, получеловека и полузверя, молодого бычка, первое пробуждение его сексуального начала, которое было представлено в метафорической форме, а не в реально-бытовой. Воспроизводились первые признаки взросления, перехода от подросткового возраста к юношескому.
На премьере театра «Русского балета» Сергея Дягилева зал раскололся на
«за» и «против» из-за скандальной позы. Скульптор О. Роден встал на защиту балета, публично выступив в газете Le Martin. Он подчеркнул в открытиях Нижинского черты гениальности, отметил правду жестов полусознательной животности, органическое согласование между мимикой и пластикой, телесным выражением эмоции, разума. Формула искусства «держать зеркало перед природой» осуществилась Нижинским, который искал в танце природную, естественную телесную органику. Она-то и позволила выразить внутренний мир героя с его естественными сексуальными импульсами созревающего живого организма и вместе с тем, чтобы уйти от прямого бытийного копирования сексуального начала, балетмейстер обратился к художественному приему – «отстранению» бытийного начала, превращению его в метафорическое поэтическое – плоскостное пространство танцевального действия, фронтальные и профильные позы в движениях героя, его пластики.
Так балетмейстер находит магический «кристалл поэзии», пропускаемое через который откровенно сексуальное начало преобразуется в художественный образ, не становясь копией реальности.
Опыт В. Нижинского в области образно-метафорического воплощения телесности в хореографии, обогащение танцевального словаря пластической драматургией, в том числе раскрытие эротики с ее сексуальной доминантой фактически открыл дорогу бурной волне экспериментов в балетмейстерском искусстве XX в. Обновление хореографической лексики, уход от канона будут продолжены Нижинским в последующем балете «Весна священная» на музыку И. Стравинского, когда он обратился к корневым танцевальным истокам дохристианской Руси, к ее обрядовой культуре, четко направив телесное, танцевальное начало в сферу духовности. В «Великой жертве» во имя плодородия земли и благополучия народа наметились черты подвига во имя своей земли. Неслучайно балет выходит за год до Первой мировой войны. Однако многочисленные западные постановочные версии «Весны священной» (свыше двухсот), за редким исключением (М. Бежар, Р. Джоффри) были обращены к телесной доминанте.
Опыт Нижинского в области эротики с обращением к сексуальному началу в человеческой жизни в образно-метафорическом ключе нашел своих продолжателей среди известных зарубежных хореографов. Среди них Иржи Килана и его балет
«Маленькая смерть» на музыку В.-А. Моцарта, где хореограф обратился к образно-метафорическому воплощению сексуального полового акта, но использовал «отстранение» его реалий, бытийности через использование в танце металлических мечей, воплотив технически сложный образный танцевальный рисунок.
Другой крупный хореограф XX в. – Ан-желлен Прельжокаж в балете «Парк» на музыку Моцарта, обратился к галантному веку Людовика XIV в двух местах действия – во дворце и парке. Действие – в стиле современного танца, но исполняемого артистами классической школы Парижской оперы, выдающимися танцовщиками своего времени – Лораном Илером и Изабель Герен. Балет признан самым эротичным в современном балетном театре. Уже сама по себе классическая школа, блистательное владение академическим танцем в самых сексуально воплощаемых сценах были началом «отстранения», эстетизации во взаимоотношениях действующих лиц – дам и кавалеров.
Средством отстранения откровенных в сексуальном плане эпизодов балета служит жанровый сдвиг, когда сексуальное переходит в форму комического. К примеру, дворцовые сцены балов с соблюдением норм приличия сменяются за пределами танцевальных залов откровенным обольщением партнерами своих партнерш. Но далее следует эпизод, когда обессиленные партнеры ползут со сцены прочь. На их фоне развертывается история зарождения подлинного чувства двух главных героев спектакля – от полной неприступности героини, что проявляется в дуэте, не лишенном лирико-комедийного начала. Но постоянно возникает сближение и подлинное чувство друг к другу, где сексуальное, телесное и духовное обретает гармонию. Всей истории в двух ипостасях противостоят дворники, которые выметают из дворцового сада все, демонстрируя противостояние в танцевальном действии, а именно в жестком хип-хопе, лишенном всякой лирики и прочих «влечений».
В заключение следует заметить, что, решая проблему взаимодействия телесного и духовного, современный отечественный балет стремится к гармонии этих двух начал в своих лучших художественных созданиях. Свидетельство тому традиция русского балетмейстерского и исполнительского искусства как XIX, так и XX в. и начала XXI в. И это не случайно. Нельзя не согласиться с Пушкиным
Общество
и его формулой драмы и театра, который «стал заведовать страстями и душою человеческой» [5, с. 147]. И это проявлялось в творчестве целой плеяды отечественных хореографов – Л. Лавровского, К. Голей-зовского, Л. Якобсона, Ю. Григоровича, открывшего новые горизонты средствами музыкально-хореографической драматургии одухотворенного танца, визуализации в пластике хореографии, внутреннего мира героев. Григорович продолжил традицию хореографического монолога, начатого его великими предшественниками, и они далее были развиты современной хореографией уже XXI в., в том числе в балетах Б. Эйфмана. Этот опыт имеет продолжение в театрах балета современных известных балетмейстеров – Р. Пети, М. Бежара, Дж. Ноймайера и др. Именно они составляют основную парадигму развития современной формации балета, оттесняя поток постановочной танцевальной практики, сосредоточенной на коммерческих проектах, близких шоу-бизнесу, обращенных к абстрагированному танцу, либо телесном движении, воплощающем внутренние комплексы личности, нередко в чрезмерно сексуализированном ее облике. Но одухотворенный танец всегда был и будет в дальнейшем более востребован зрительской аудиторией разных стран и народов.
Список литературы Пластическая выразительность танцевального образа: специфика репрезентации в конце XIX - начале XX вв.
- Аппиа Адольф. Живая длительность. Живое пространство / Пер. А. Бобылевой // Московский наблюдатель. - 1992, № 1. - С. 60-64.
- Бакина С.Ю. Эротизм в хореографическом искусстве. Исторический и современный аспект / Автореф. … канд. искусствоведения. - СПб.: СПбГУП, 2009. - 21 с.
- Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1920 гг. / Авт.-сост. К.Е. Антарова. - М.; Л.: ВТО, 1939. - 164 с.
- Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. - М.: Искусство, 1987. - 382 с.
- Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. - М.: Гослитиздат, 1962. Т. 7. - 463 с.
- Фокин М. Против течения: Воспоминания балетмейстера. Статьи, письма. - М.: Искусство, 1969. - 639 с.
- Шор Ю.М., Дележа Е.М. Театр: плоть слова и телесности мысли Пластический театр и принцип телесности в современной культуре // Проблемы театральной педагогики. Традиции и новации школы З.Я. Корогодского: Материалы межвузовской научно-практической конференции, 28 марта 2011 г. - СПб.: СПбГУП, 2011. - С. 26.
- Эйхенбаум Б.О камерной декламации // Б. Эйхенбаум. О поэзии. - Л.: Сов. писатель; Ленинградское отделение, 1969. - С. 512-541.