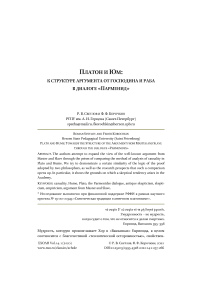Платон и Юм: к структуре аргумента от господина и раба в диалоге "Парменид"
Автор: Корочкин Федор Федорович, Светлов Роман Викторович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.14, 2020 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой статье предпринята попытка расширить взгляд на известный аргумент от господина и раба через призму сопоставления метода анализа причинности у Платона и Юма. Мы постараемся продемонстрировать пусть не содержательную близость, но определенное сходство логики доказательства, а также исследовательских перспектив, которые открывает подобное сопоставление. В частности, такое сравнение показывает причины, по которым в Академии возникнет скептическая тенденция.
Причинность, казуальность, юм, платон, диалог парменид, античный скептицизм, скептицизм, эмпиризм, аргумент от господства и рабства
Короткий адрес: https://sciup.org/147215865
IDR: 147215865
Текст научной статьи Платон и Юм: к структуре аргумента от господина и раба в диалоге "Парменид"
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00349 «Скептическая традиция в античном платонизме».
τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία τό τε μὴ θνητὰ φρονεῖν. Умудренность – не мудрость, когда судит о том, что не относится к делам смертных.
Еврипид, Вакханки 395–396
Мудрость, которую провозглашает Хор в «Вакханках» Еврипида, в целом соотносится с благочестивой «теологической осторожностью», свойствен-
ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 1 (2020)
ной греческой культуре. Ее следы видны даже в слове «философия», выражающем не претензию на обладание мудростью, но на то, что она должна быть «мила» человеку. Осторожность не означает скептицизма, она лишь указывает границы, за которые переходить опасно, ибо оказавшись там, где нам нет места, мы можем утерять «милость» к нам со стороны хозяйки этого края, т. е. мудрости.
Однако топос благочестивой осторожности может быть превращен в скептическую фигуру речи и даже в форму скептического дискурса. Именно это, на наш взгляд, и происходит в платоновском «Пармениде», когда элейский мыслитель демонстрирует, что дерзость Сократа, который претендует на знакомство с природой божественного знания (знание идей), оказывается ложным и не продуктивным ходом. Эта дерзость вынуждает нас прийти к парадоксальному выводу, что не только люди не знают области божественного, но и боги не знают дел человеческих.
Это место из «Парменида» (начинающееся со слов: «если мы являемся чьим-то господином или рабом», Parm . 133d) хорошо известно и неоднократно было предметом обсуждения. При этом обсуждения критического, ряд авторов полагают, что аргумент, выдвинутый Парменидом, ошибочен. Вот только два примера. Дж. Форрестер в свое время полагал, что рабство и господство выбраны ошибочно, так как они демонстрируют отношения подчинения, которые не могут иметь место в бытии идей. Иначе Благо было бы в подчинении у Знания, т. к. знание выступает по отношении к нему активное (познающее) начало (Forrester 1974, 233–237). Фр. Льюис полагал, что в данном аргументе, помимо прочего, смешиваются разные инстанции отношений: господин – раб, знание о господине – знание о рабе. Так, геометрия – это знание о фигуре, в этом случае знание того, что такое фигура является отличительным признаком геометрии. В то время как раб – это просто иная социальная инстанция, чем господин. Рабство определяет, что такое господство через ограничение последнего, в отличие от фигуры, которая не является иным родом, чем геометрия (Lewis 1979, 105–127).
С другой стороны, Ю. А. Шичалин в недавнем издании «Парменида» полагает, что здесь поднимается та же проблема, которую ставит Аристотель, когда различает в «Метафизике» уровни познания – опыт и искусство (Arist. Metaph . 981а15–23).1 Платон, собственно, ставит вопрос о том, каким образом возможно «трансцендирование» от опыта к искусству, т. е. каким образом возможно научение.
Мы не станем обсуждать проблему фальсифицируемости данного аргумента, а также его места во внутриакадемических дискуссиях. Сама проблема его опровержения, на наш взгляд, зависит от того, как мы понимаем цель Платона, какую конкретно концепцию он проблематизирует. На наш взгляд, это концепция, удваивающая (как мы увидим ниже – даже учетверяющая) реальность, которая вытекает из сократовского способа решения парадокса Зенона, обсуждавшегося в самом начале беседы. В этом случае аргументы достаточно очевидны и требуют какого-то иного хода, чем указание на их отнесение к разным типам отношения.
Мы предлагаем другой ход, точнее, сопоставление, которое может позволить расширить горизонт интерпретации. Это сопоставление в чем-то схоже с «апроприацианистским» подходом, основные тезисы которого недавно были сформулированы нашими коллегами.2 Однако оно имеет другую цель: не присвоения и «модернизации» философии Платона, а демонстрации предпосылок скептического прочтения наследия Платона, которое было осуществлено Академией при Аркесилае.
Ход рассуждений Платона мы сопоставим с дискурсом скептика иной эпохи – Дэвида Юма. Такое сопоставление может вызвать сомнение в своей легальности. Ведь целью скептических рассуждений Юма является концепция причинности. Платон же рассуждает о проблемах гипотезы о причастности вещей к неким вне них существующим идеям.
Однако такое возражение, на наш взгляд, не во всем корректно – даже с точки зрения культурного и исторического контекста. Традиционно полагают, что тема причинности начинает рассматриваться Аристотелем, который на ее основе формирует, в частности, свои историко-философские представления. Внимательное исследование сохранившихся текстов показывает, что это не совсем верно. Во-первых, Аристотель не просто «присваивает» предшествующий философский материал, помещая ее в «прокрустово ложе» своей четверицы причин. Он полагает, что имеет к тому вполне очевидные интерпретационные поводы. Во-вторых, понятие причины в V в. до н. э. уже встречается в философских текстах в научном значении – в «Гиппократовом корпусе» и у Демокрита. Оно не могло быть незнакомо и Платону: не только потому, что и он его использует в некоторых случаях (правда, не так систематично, как Аристотель, чаще как понятие ординарного языка), но и потому, что полемика вокруг аристотелевской концепции причинности происходила в Академии. Как пример мы можем указать на четыре «рода» из диалога «Филеб», которые, скорее всего, противопоставляются именно учению о причинности Аристотеля.3
Наконец, и мы можем прибавить некоторые аргументы о близости дискурсов. Ко времени создания «Парменида» античная философская физика уже создала оба способа суждения о причинах, которые были созданы физикой новоевропейской, хронологически предшествующей творчеству Юма (причем последняя, новоевропейская, во многом ориентировалась на античный опыт, хотя и развивала его по-своему, прежде всего, в рамках экспериментальной науки). Первый из них – это атомизм. Согласно Демокриту, причиной всего является движение и соударение атомов. Хотя Демокрит трактовал атом иначе, чем мы понимаем его сейчас, его точку зрения вполне можно проинтерпретировать как сведение причинности к взаимодействию простейших материальных тел. С другой стороны, независимо от Демокрита (и раньше его), Эмпедокл сформулировал объяснение возникновения и уничтожения как «соединения и разъединения», происходящего благодаря взаимодействию противоположных сил: Любви и Раздора.
С этой точки зрения, в каком-то смысле «Парменид» создавался в эпоху, дискурсивно перекликающуюся с эпохой Юма.
Проблема причинности для Юма оказывается связанной, в первую очередь, с событием, причем событием как перцепцией. Событие как следствие невозможно усмотреть в причине. Так, Юм указывает, например, на невозможность для Адама знания об опасности утонуть в воде при первом взгляде на воду. Наблюдение за камнем не может говорить с необходимостью о потенциально разбиваемом этим камнем стекле. Изучение бильярдного шара не позволит заключить о траектории движения другого шара при ударе о первый и так далее. «Рассматривая окружающие нас внешние объекты и деятельность причин, мы никогда не в состоянии, исходя из одного примера, открыть какую-либо силу, или необходимую связь, и вообще какое-нибудь качество, связывающее действие с причиной и делающее первое неизменным следствием второй. Мы находим только, что первое действительно, фактически следует за второй» (Юм, Исследование о человеческом познании , пер. С. И. Церетели и др. 1996, 53).
Таким образом, если рассматривать причинно-следственные связи с позиций причины, следствия носят исключительно произвольный характер. В этом пункте уже нетрудно усмотреть если и не содержательную близость позиций Юма и элейского мыслителя из «Парменида», то определенное сходство аргументации. Равно как отношения господства и рабства извне определяют содержание отношений господина и его слуги, так и в юмов-ской казуальности определенность следствий не является собственным свойством причины.
Именно вопрос отношений (если точнее – связей) между причиной и следствием занимает Юма более всего. Шотландский мыслитель вводит понятие привычки, говоря о том, что антиципация следствий оказывается возможной на основании предшествующего опыта. Иными словами, если человек «достаточно раз» наблюдал, как камень разбивает окно, он может ожидать, что и при следующем повторении этого события целостность стекла окажется нарушенной. Любопытным оказывается указания Юма на непременную необходимость регулярности восприятия следствий для усмотрения в уме постоянства казуальной связи. Утверждение, что всякий опыт непременно требует повторения для формирования представления о наличии причинно-следственной связи трудно признать бесспорным.
Интересно также, что в повседневности Юм не отрицает пользы наличия мнимых причинно-следственных связях. Вера в согревающую силу огня и освежающую силы воды необходима, ибо «иное мнение стоило бы нам слишком больших страданий» (Юм, Трактат о человеческой природе , пер. С. И. Церетели 1998, 314).
Впрочем, сама привычка относится Юмом к одному из четырех несомненных типов причинно-следственных связей наравне с порождением идей впечатлениями, обоснованностью решений предшествующими мотивами и ассоциативным сцеплением идей друг с другом и с впечатлениями. Иными словами, говорить об истинной причинности возможно лишь как о способе соединения перцепций в психике.
Так, на фоне анализа необходимости или случайности следствий Юм переходит к рассуждению об идее казуальной связи. Как было установлено выше, ум усматривает сходство между причиной и следствием в результате регулярного повторения, однако понимание этого сходства по-прежнему не позволяет нам говорить об объективном и необходимом характере казуальности. Пусть все треугольники похожи друг на друга, один не является причиной другого. Кроме того, повторение последовательности событий не меняет сами объекты, с которыми эти события происходят. Юм проверяет и положение о божественной природе причинно-следственных связей, однако и здесь не находит удовлетворительного ответа, замечая, что если мы не имеем представления о связи между причиной и следствием, мы не имеем и представления о божественной воле. Таким образом, идея постоянной связи как важнейшая часть идеи причинности возникает исключительно из привычки и не свидетельствует об объективном характере казуальности. Со- гласно Юму, мы «проецируем» на объекты то, что происходит в умах, что в целом соответствует юмовской концепции познания. Важно отметить, что невозможность выведения объективных причинно-следственных связей из опыта не говорит об их отсутствии, лишь – об ограниченности познания.
В главе VII «Исследования о человеческом познании» Юм дает двойственное определение причины. С одной стороны, речь идет о связях между самими объектами, с другой – об объектах в уме наблюдателя. «Обладающие сходством объекты всегда соединяются со сходными же – это мы знаем из опыта; сообразуясь с последним, мы можем поэтому определить причину как объект, за которым следует другой объект, причем все объекты, похожие на первый, сопровождаются объектами, похожими на второй. Иными словами, если бы не было первого объекта, то никогда не существовало бы и второго. Появление причины всегда переносит наш ум в силу привычного перехода к идее действия – это мы тоже знаем из опыта. Стало быть, сообразуясь с последним, мы можем дать другое определение причины и назвать ее объектом, который сопровождается другим объектом и появление которого всегда переносит мысль к этому последнему» (Юм, Исследование о человеческом познании , пер. С. И. Церетели и др. 1996, 65-66), – пишет Юм, указывая, что оба эти определения выведены не из самой причины, но при этом «мы не можем устранить это неудобство или достигнуть более совершенного определения, способного указать ту черту причины, которая связывает ее с действием». Сходное двойственное определение находим и в «Трактате о человеческой природе».4
В этом рассуждении остается несколько вопросов, ответов на которые мыслитель нам не дает. Во-первых, может ли считаться причина причиной, удовлетворяя обязательно обоим определениям или лишь одному из них? Перефразируя второе определение, видим, что причина выступает как объект, за которым следует другой, появление которого заставляет разум думать об этом другом. Чтобы избежать определенной цикличности, мы вынуждены понимать возникновение причины в контексте первого определения. Во-вторых, Юм говорит о сходстве причин, не поясняя, однако, что можно считать сходным или похожим. Идеи сходства и различия субъективны, что делало бы любые причинно-следственные связи исключительно субъективными, что противоречит мысли Юма. И наконец, в-третьих, отсутствует механизм различения истинных и случайных последствий. Неоднозначность самих определений, которые Юм дает причине, активно изучается историками философии сегодня.5
Вернемся к Платону и посмотрим, что утверждается во фрагменте 133c–d:
-
• есть идеи (господина и раба)
-
• есть знание об идеях
-
• есть телесные сущности (господин и раб)
-
• наконец, есть находящиеся в нас их подобия – подобия в соименных идеям свойствах вещей
Все это можно изобразить в виде следующей таблицы:
ГОСПОДСТВО отношение 1 РАБСТВО
ЗНАНИЕ ГОСПОДСТВА отношение 2 ЗНАНИЕ РАБСТВА
Господин отношение 3 Раб
Подобие господства в нас отношение 4 Подобие рабства в нас
Получается четверица, родственная тетрахомии познавательных способностей из «Государства» (Resp. 509е–511е). Можно видеть, что общая структура описания реальности познания у Платона в этих диалогах едина. В «Пармениде» ее проблематизация получит свое разрешение в «гипотезах», которые представляют собой описание необходимого диалектического алгоритма, позволяющего найти правильный (пусть и парадоксальный, апофатический) язык описания отношений между сущностями идеальными и телесными. В «Тимее» в форме «мифа» будет предложена натурфилософская модель преодоления пространства между уровнями представленной нами схемы.
Возможно, обсуждение этой темы имеет еще и исторический контекст, ныне нами не до конца воспринимаемый. Действительно, не указывают ли персонажи из Клазомен из пролога диалога на Анаксагора? И им именно поэтому было важно послушать этот разговор, так как в нем обсуждалась тема, которая была поставлена, но не разрешена этим великим клазомен-цем: отношение между чистым Умом и теми вещами, которые он некогда привел в движение, но не отдал себя им (Zuckert 1998, 881).
Если искать некоторые соответствия в других платоновских текстах «элейского цикла», то вывод от аргумента от господина и раба может означать, что мы живем в мире, который оставлен богами. Впрочем, проблема- тично, что миф из «Политика», где элейский гость рассказывает о том, что мы живем в мире, о котором боги оставили свое попечение (Statesman 286d–274e), является вариацией на ту же тему (Zuckert 1998, 889). Возможность подражания божественной мудрости и «удаленного», но, тем не менее, знания «возвышенных вещей» в «Политике» же предполагается – правда, лишь для наиболее искусных в диалектике.
Отметим еще один важный момент, связанный с «онтологическим» аспектом данной проблемы. Платон пишет:
«ὅσαι τῶν ἰδεῶν πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν αἵ εἰσιν, αὐταὶ πρὸς αὑτὰς τὴν οὐσίαν ἔχουσιν».
«Ибо идеи в отношении друг к другу есть то, что они есть, имея сущность друг в отношении друга» (133с).
Перед нами очень «протагоровская» фраза: мы можем говорить о чем-либо как о существующем лишь только в том случае, если оно дано нам в нашем восприятии, т. е. если мы с ним взаимодействуем. Так и здесь одно выступает бытием для другого лишь в случае их взаимодействия, которое ниже Платоном передается через понятие «δύναμις», каковое, свою очередь, в «Государстве» является ключевым словом для описания знания,6 а в «Софисте» – бытия:
«ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἐν ἡμῖν πρὸς ἐκεῖνα τὴν δύναμιν ἔχει οὐδὲ ἐκεῖνα πρὸς ἡμᾶς»
«Но то, что в нас, не имеет силы по отношению к тем [идеям – авт.], ни они по отношению к нам» (133е).
Если нет силы-бытия, значит, идеи не даны нам, как и мы не даны идеям. Это приводит к множеству проблем иного рода. Так, мы можем достоверно узнавать господина и раба лишь тогда, когда имеем в нас некие отражения их идей. Но мы не можем иметь образцов для этих отражений, то есть они в каком-то смысле этого слова – симулякры (для нашего уровня реальности). И это сразу ставит под сомнение нашу способность адекватно различить в нашем мнении господина и раба. Видя конкретного господина, мы можем узнать его и даже припомнить парный к нему образ его раба. Потому что господин обычно соседствует с рабом. Раб ведь – раб господина (а не господства как такового, Parm. 133d), а наше мнение о рабе связано с наличием мнения о господине. Ибо только эта пара обладает силой-бытием в отношении друг друга. Конкретного господина делает таковым обладание вот этим рабом. И наоборот. Точно так же знание/мнение о конкретном господине возможно лишь потому, что мы имеем знание/мнение о его рабе. Но все это знание не дает ответа на вопрос о причине рабства и господства. Как и о причине наличия в нас мнения о том и другом. Ответ на вопрос о причине всего этого находится в самодостаточной и самозамкнутой божественной области.
Конечно, в «Пармениде» нет дискурса причин в его «юмовском» модусе. Здесь каузальные отношения прописаны через понятие силы («δύναμις»), которая и свидетельствует о наличном бытии чего-то и о его связи с иным наличным бытием (господина с рабом, идей господства и рабства). Но поскольку сила/бытие возможна лишь на «горизонтальном уровне» и, в каком-то ограниченном виде, на вертикальном между отношениями 1 и 2 и 3 и 4 то мы, смертные люди, можем обладать мнением об обстоятельствах нашего существования, но не знать их истинных причин. В отличие от Юма место причин, каковым выступает идеальное бытие, Платоном вынесено в область умопостигаемого. Однако выводы достаточно схожи. Не зная идей господина и раба, мы можем говорить лишь о некотором мнении о господине и рабе. Связь между господином и рабом устанавливается нами ситуативно, и она вполне может быть оспорена в духе какой-либо космополитической концепции в духе «младших» софистов.
Таким образом, платоновский аргумент «от рабства и господства», представленный визуально в качестве приведенной выше таблички, безусловно, структурно похож на критический дискурс Юма о причинах. В каком-то смысле это, видимо, говорит о том, что конкретные исторические техники скепсиса связаны с родственными алгоритмами, которые мы можем «визуализировать» сходным образом.
Подобное родство (или схожесть) показывает, почему платоновское наследие вполне могло быть прочитано скептическим образом в Академии эпохи Аркесилая.
Список литературы Платон и Юм: к структуре аргумента от господина и раба в диалоге "Парменид"
- Берестов, И. В., Вольф М. Н., Доманов О. А. (2019) Аналитическая история философии: методы и исследования. Новосибирск. Караваева, С. В. (2014) «Филеб» Платона в контексте поиска начал и причин Аристотеля. Платоновский сборник, 231-242. Шичалин, Ю. А. (2017) Введение. Платон. Парменид. Санкт-Петербург, 7-146.
- Юм, Д., перевод Церетели С. И., Швырева В. С. и др. (1996) Исследование о человеческом познании. Сочинения в двух томах. Т. 2. Москва. Boehm, M. (2014) "Hume's definitions of "Cause": Without idealizations, within the bounds of science," Synthese 191, 3803-3819. Forrester, James Wm. (1974) "Arguments and Able Man Colud Refute: Parmenides 133b-134e," Phronesis 19, 233-237.
- Lewis, Frank A. (1979) "Parmenides on Separation and the Knowability of the Forms: Plato Parmenides 133a-ff," Philosophical Studies. An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition 35, 105-127.
- McPherran, Mark L. (1999) "An Argument 'Too Strange': "Parmenides" 134.c4.-e8," Apeiron. A Journalfor Ancient Philosophy and Science 32: Recognition Remembrance & Reality: New Essays on Plato's Epistemology and Metaphysics, 55-71.
- Robinson, J. A. (1966) "Hume's two definitions of "Cause"," in V. C. Chappell, ed., Hume: A Collection of Critical Essays. New York.
- Zuckert, Catherine H. (1998) "Plato's "Parmenides": A Dramatic Reading," The Review of Metaphysics 51, 875-906.
- Berestov, I. V., Volf, M. N., Domanov, O. A. (2019) Analiticheskaya istoriyafilosofii: metody i issledovaniya. Novosibirsk.
- Karavaeva, S. V. (2014) "«Fileb» Platona v kontekste poiska nachal i prichin Aristotelya," Platonovskij sbornik, 231-242.
- Shichalin, Yu. A. (2017) Vvedenie. Platon. Parmenid. Sankt-Peterburg, 7-146.