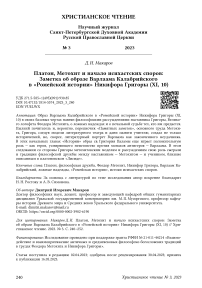Платон, Метохит и начало исихастских споров: заметка об образе Варлаама Калабрийского в «Ромейской истории» Никифора Григоры (XI, 10)
Автор: Макаров Д.И.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
Образ Варлаама Калабрийского в «Ромейской истории» Никифора Григоры (XI, 10) в своих базовых чертах навеян философскими рассуждениями наставника Григоры, Великого логофета Феодора Метохита, о ложных надеждах и о печальной судьбе тех, кто им предается. Пылкий почитатель и, вероятно, переписчик «Памятных заметок», основного труда Метохита, Григора, следуя модели литературного театра и дани памяти учителю, создал не только исторический, но, скорее, литературный портрет Варлаама как законченного неудачника. В этих начальных главах «Истории» образ св. Григория Паламы еще играет положительную роль - как героя, усмиряющего неистовство против монахов антигероя - Варлаама. В этом следовании со стороны Григоры метохитовским моделям и рассуждениям свою роль сыграли и традиции философской дружбы между наставником - Метохитом - и учеником, близкие описанным в платоновском «Лисиде».
Платон, философская дружба, феодор метохит, никифор григора, варлаам калабрийский, ложные надежды, «ромейская история», истоки исихастских споров
Короткий адрес: https://sciup.org/140301640
IDR: 140301640 | УДК: 271.5-585+1(495)(091):930.85 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_240
Текст научной статьи Платон, Метохит и начало исихастских споров: заметка об образе Варлаама Калабрийского в «Ромейской истории» Никифора Григоры (XI, 10)
Всем памятно, что Варлаам Калабрийский явился инициатором исихастских споров. Феодора Метохита же никто не прочил на эту роль. Однако может оказаться, что и Великий логофет империи косвенным образом — через свое литературное влияние — стал сопричастным к изображению предыстории этого мегасобытия, а именно — к рассказу о прибытии Варлаама в Византию и о его поражении в споре с Никифором Григорой (Григора, «Ромейская история», XI, 10). Во всяком случае, то, как об этом рассказывает Григора, заставляет думать о, по крайней мере, косвенном влиянии на него Метохита. Тому имеются как конкретно-текстовые и общеисторические, так и философские подтверждения. И дело здесь не столько в том, что Метохит был, по словам К.-П. Мачке, spiritus rector политики Андроника II [Matschke, 1971, 43]1, сколько в силе его образного и идейно-философского влияния на своего лучшего ученика, каковым явился Григора.
В настоящей заметке речь пойдет об образных и идейно-философских предпосылках конструирования персонажа автором исторического в своей основе текста (таким автором для нас выступает Никифор Григора с его «Ромейской историей»). Не столь уж давно стало понятно (однако соответствующее представление прижилось в исто-риографии2), что византийская историческая проза, подобно античной, была частью художественной литературы. А потому могла испытывать влияние со стороны всей системы жанров данной литературы — включая и жанр столь сложного по своей природе произведения, как «Памятные заметки» Феодора Метохита. В них содержатся, на наш взгляд, те общие идеи, в качестве примера конкретного воплощения которых Григора и привел Варлаама. И это — идеи о пагубности и вреде ложных надежд и упований (о чем Метохит пишет, прежде всего, в 63-й главе «Заметок»3), а также некоторые иные, повлиявшие — и это еще один сюжет, который мы затронем лишь мельком — и на формируемый Григорой образ самого Метохита. В данном случае, как и в случае заимствований из Фукидида, Арриана, Иосифа Флавия и прочих историков у Критовула (XV в.), путем неявных отсылок к Метохиту тексту Григоры «усваивается дополнительный смысловой потенциал, который читатель, впрочем, может для себя раскрыть лишь через истолкование (данного текста. — Д. М. )» [Reinsch, 2010, 26–27, cf. 29]. Византийский мимесис, вторит коллеге Маргарет Маллет, — это «репрезентация реальности (в отличие от простого повествования); показ, а не рассказ; в этой области предстоит сделать еще многое» [Mullett, 2010, 281]. Наша статья — лишь кирпичик в продолжающем возводиться здании историко-литературного и историко-философского знания.
Все это отвечает ведущим тенденциям современной византинистики; так, по словам одного из ее ведущих представителей, «история византийской литературы, ориентированная на конкретных авторов, остается задачей будущего» [Reinsch, 2010, 23].
Почему нас интересует лишь краткий отрывок «Ромейской истории» (XI, 10)4? Во-первых, в повествовании историописателя это — вставной эпизод (о чем говорит и сам Григора5), т. е. заведомо иллюстративный, художественно окрашенный фрагмент текста, к тому же, ближе к завершению маркированный театральной лексикой. Так, о завершении июньского поместного Собора Константинопольского патриархата 1341 г. говорится: «Завершилось же то зрелище (τὸ θέατρον; здесь и далее курсив в цитатах наш, если не оговорено иначе. — Д. М.), о котором мы ведем речь, уже вечером» (Byz. Hist. ХI, 10: р. 559.9–10). Император Андроник III настоял на решениях Собора, включая осуждение Варлаама, «словно впав в одержимость честолюбием под влиянием какого-то вакхического разгула (ὥσπερ βακχείᾳ τινὶ φιλοτιμίας γενόμενος κάτοχος)…» (Byz. Hist. ХI, 10: р. 558.22–559.1). «Вакхический разгул», «хор друзей», «сообща корибант-ствовать» и даже «быть честолюбивым», «тщиться из честолюбия» (φιλοτιμέομαι) — все это слова из «театрального словаря», характерного для речей и писем византийских интеллектуалов, сообщающих друг другу о неких семиотически маркированных и значимых событиях, как, например, в письме Мануила Рауля великому доместику Фессалоники Алексею Ласкарю Метохиту6 (которое датируется о. Р.-Ж. Лёнерцем периодом 1366–1369 гг.; обратим внимание на то, что адресат являлся, судя по всему, одним из потомков Феодора). Друзья подходят мне, словно в некоем хороводе, с твоими письмами, говорит он, «да так, что каждый соперничает с другим (φιλοτιμούμενοι), кто первым напомнит мне о каком-либо из тех твоих деяний[, что запечатлены в письмах], зная, что я — наиболее пламенный и огненный из твоих пылких друзей (собственно, „твой эраст“, σὸν… ἐραστήν; такой перевод нам принципиально важен для дальнейшего. — Д. М.)» [Loenertz, 1956, 156.1–157.20; Медведев, 1997, 20].
Таким образом, повествование в данном отрывке осуществляется в рамках литературной модели театра, что лежит на поверхности и может быть замечено всяким. На более глубоком уровне семантика фрагмента XI, 10 связана, помимо «плотинов-ской трактовки платоновского образа мира как театра, в котором люди играют роли» [Лурье, 2006, 472], с непрямым воплощением в нем платоновской модели дружбы (филии) между эрастом и эроменом.
Кроме того, как отметил немецкий переводчик «Истории» Григоры Ян-Луис ван Дитен, «Григора, разумеется, уже представил более подробный рассказ об этом7 в диалоге „Флорентий“… Из факта отсутствия упоминаний об этом событии в „Ромейской истории“ (отсутствия все-таки не полного, см. далее. — Д. М. ) можно сделать вывод, что к моменту написания данной главы он уже решил рассказать о нем в связи с Собором 1341 г. …значит, данная глава (XI, 10. — Д. М. ) его труда была написана не ранее 1341 г.» [Nikephoros Gregoras, 1979, 329, Anm. 325]. Иначе говоря, перед нами — зрелый Григора, знающий Калабрийца уже немало лет — и сознательно избирающий особого рода концептуальные модели для содержательной трактовки его образа.
1. Образ Метохита в «Ромейской истории» Григоры (Некоторые наблюдения)
Метохиту уделяется в «Ромейской истории» Григоры довольно значительное внимание. Впечатлению о его полном восхищении и преклонении перед учителем препятствует лишь критическое замечание о литературном стиле последнего: «Единственное, в чем его, пожалуй, можно было упрекнуть, состояло в том, что в стиле своего письма (τοῦ τῆς αὐτοῦ γραφῆς χαρακτῆρος) он не пожелал подражать никому из древних риторов…»8 Действительно, стиль Григоры в «Истории»
гораздо проще, автор старается избегать столь длинных сложноподчиненных периодов, что так характерны для Феодора. Ведь учителю «совершенно не хотелось обуздывать свою исключительную природную одаренность какой бы то ни было уздой (οὐδὲ τὸ τῆς φύσεως πάνυ τοι γόνιμον χαλινῷ τινι κατέχειν προτεθύμηται), но, следуя достаточно заметному своеобразию и независимости природы (ἰδιοτροπίᾳ τινὶ καὶ αὐτονομίᾳ φύσεως), учитель производил (προΐσχεται) настоящую бурю и разлитие слов»9.
Надо сказать, что представления современных филологов о стиле Метохита не слишком отличаются от тех, что были у Григоры. Однако же последний признаёт, что при всем при том книги Метохита «исполнены пользы» (VII, 11 (Г): vol. 1, p. 272.14–17). Да Феодор и вправду заменял всем библиотеку, так что общавшиеся с ним совсем или почти совсем не нуждались в подборках книг (VII, 11 (В): vol. 1, p. 272.1–3), «ведь он и был одушевленной библиотекой и легкодоступным обилием [материалов] (πρόχειρος εὐπορία) для ищущих» (VII, 11 (В): vol. 1, p. 272.3– 4) — «настолько великою мерой превосходил он всех, кто когда-либо соприкасался с [искусством] словесности (ὅσοι ποτὲ λόγων ἥψαντο)» (VII, 11 (В): vol. 1, p. 272.5–6).
Как не воспользоваться, мысленно спрашивает себя Григора, — нет, не стилем, но именно идеями такого мужа? «И в самом деле, всем желающим возможно убедиться10 в силе словес оного мужа (τεκμηριοῦσθαι τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἐν τοῖς λόγοις δύναμιν)…» (VII, 11 (Г): vol. 1, p. 272.14–15).
Григоре оставалось лишь воплотить эту программу в жизнь в собственных сочинениях.
Обращение к надгробному слову Метохиту (или, вернее, к монодии по нему), включенному в «Ромейскую историю»11, многократно усиливает уже сложившееся у нас впечатление. Приведем лишь несколько цитат (отметим в первой из них совершенно шекспировскую по своему всеобъемлющему трагизму топику):
«О злейшее из времен… почему ты столь непрерывно неистовствуешь против нас, не зная ни капли жалости и не насыщаясь [столь] желанной [для тебя жатвой] бедствий?» (Х, 2 (В): vol. 1, p. 475.20–476.1)
Речь идет в совокупности о периоде 1328–1332 гг., отмеченном смертями императора — «покровителя муз» Андроника II (1328) и Великого логофета Феодора Метохита (13.03.1332)12.
«Так приди же ко мне, весь хоровод оставшихся [у нас] мудрецов (если еще остался хоть кто-то), оплачьте то, что источник [всех] словес — попран (τὴν πηγὴν τοῦ λόγου φραγεῖσαν)! Плачьте над тем, что умолк язык, некогда в высшей степени гармонично изъяснявшийся на аттическом наречии (ἀττικίζουσαν) и обильно (постоянно, ἀθρόως) изливавший на землю его сладостный нектар!» (Х, 2 (В): vol. 1, p. 477.5–9).
«Оплакивайте того, кто своею премудростию возвысил (τῇ σοφίᾳ σεμνύνοντα) славу ромеев паче древних Сократов и Платонов, [живших] в Афинах!» (Х, 2 (В): vol. 1, p. 477.11–12).
«Так кто же похитил из центра вселенной Геликон муз? Кто обрушил (завалил, κατέχωσεν) Олимп премудрости? Кто угасил светильник (τὸν λύχνον), освещавший нам очи души и достодолжным образом (καλῶς) раскрывавший око ума?» (Х, 2 (В): vol. 1, p. 477.14–18).
«Далее, как мне не подвергнуться угрозе — [риску] полагать, будто в [случае] Феодора [мы имеем дело прямо-таки] со своего рода метемпсихозом — таким, в ходе которого в одном его теле сошлись воедино и вновь зажили души всех [великих мужей] — Гомера, Платона, Птолемея и тех, кто стяжал богатство в виде красноречивого языка, пользуясь [его телом], словно универсальным (μυριοφόρῳ) кораблем?» (Х, 2 (В): vol. 1, p. 479.23–480.4).
Вышеприведенные цитаты более или менее традиционны по содержанию, отвечая монодийной топике. Однако в тексте «плача по Метохиту» есть еще одна, из которой видно, что василевс Андроник II уподобляется Григорой Христу; соответственно, как образ Христа — по сопричастности — прославляется и Великий логофет. Вот соответствующие слова: Андроник II — «тот божественный василевс, человек, [живший] сверхчеловеческим образом (ὑπὲρ ἄνθρωπον ἄνθρωπος)…» (Х, 2 (В): vol. 1, р. 480.9–10).
Это оборот, применяемый отцами Церкви ко Христу. Так, по словам св. Григория Синаита (ок. 1275–1346), Господь преобразился на горе, «[будучи] Богом и истинно став человеком сверхчеловеческим образом (ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονὼς ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἄνθρωπον)…»13
Через божественность императора — как сопричастный ему, а через него и к Богу — прославляется и Метохит. Так, василевс продвигал Феодора при жизни, «[тем самым] отчетливо показывая, что столь выдающемуся василевсу подобает и столь же выдающийся служитель» (Х, 2 (В): vol. 1, р. 480.10–12, цит. р. 480.11–12): рассудительнейшему — самый мудрый (Х, 2 (В): vol. 1, р. 480.12–13). Метохит как бы сияет в лучах божественности и праведности императора, при этом неустанно озаряя его — и всех окружающих — и собственной мудростью.
Поэтому в завершение монодии-треноса Григора и говорит об усопшем наставнике:
«Телом же он был крепок, и все [члены его тела] были соразмерны [друг другу], словно природа „мерою… и весом“ (Прем. 11, 21) усовершила в нем всякий возраст14, а заодно и [расположила пропорционально по отношению друг к другу] каждый член и каждую часть. Что в нем еще бросалось в глаза, так это неунывающий взгляд (ἱλαρότητα ὄψεως) вкупе с исполненной достоинства улыбкой, спокойный и приветливый нрав; прилежным же он был паче всего прочего в науках (ἐς λόγους)15, ведь силу [для занятия ими] ему придавали как острота разумения [как такового] (τῆς διανοίας), так и гениальность умозрений (τὸ τῶν νοημάτων γόνιμον). Что же касается его пламенного благоговения и благочестия в делах Божественных (πρὸς τὰ θεῖα), то оно было в точности таким же (ὁμότροπον εἶναι καθάπαξ), как и у почившего василевса » (ср. выше; Х, 2 (Г): vol. 1, р. 481.15–24).
Бог–василевс–Метохит: перед нами нечто вроде неоплатонической квази-эманационной иерархии образов , в которой «в собственном смысле беспределен (ἄπειρος κυρίως) один лишь Бог»16 и которая неплохо согласуется с христианско-неоплатоническим мировоззрением Григоры в целом17.
Из сказанного можно с уверенностью сделать следующий вывод (вспомним письмо № 8 Мануила Рауля Алексею Ласкарю Метохиту): отношения Феодора Метохита и Никифора Григоры (как при жизни, так и по смерти первого из указанных лиц) являли собой пример ученой дружбы (в смысле платоновского «Лисида», который, как показывает письмо, хорошо помнили в поздней Византии), в которой Метохит был «возлюбленным» (эроменом), а Григора — «любящим» (эрастом). Чтобы прояснить эту гипотезу, обратимся к диалогу «Лисид».
2. Григора, Платон и Фреге. Таблица истинности для определений дружбы в «Лисиде»18
Табл. 1.
|
Эраст (гориз.)/ эромен (верт.) |
Д |
З |
Д & З (само выделение трех типов см.: Lys. 216d, 220c, 222d) |
|
Д |
F (216b) |
F (216b) |
T (216cd, 217a) |
|
З |
F (216b) |
F (216b) |
F (216e) |
|
Д & З |
T (216cd, 217a) |
F (216e) |
F (216e) |
Пояснения к таблице.
F — ложное значение функции: не друг (т. е. функция « х является другом у » принимает в данном случае значение «ложь»);
Т — истинное значение функции: друг (функция принимает значение «истина»);
Интересно, что Платон вскрывает тернарную , а не бинарную структуру феномена дружбы, conditio sine qua non которой оказывается наличие в мире трех типов людей — что позволяет уточнить мысли Якобсона–Леви-Строса–Вяч. Вс. Иванова19 о сугубой значимости именно бинарных оппозиций для человеческого мышления20. Строфы «ни добрый, ни злой, ни смешение доброго и злого» нет у Платона, т. к. это было бы равнозначно небытию, а четвертая графа диалетеической матрицы в логике Г. Приста (и не добрый, и не злой) здесь сливается с их смешением (т. е. третьей графой), что и очевидно: ~ (~ (Д & З)) ↔ (Д & З).
Важно отметить, что злой не является другом никому, даже самому себе ( Lys. 216e: οὐ γὰρ ἄν που τῷ κακῷ φίλον ἄν τι γένοιτο), т. к. своей злостью (т. е. злыми качествами ; например, тем же курением) он разрушает сам себя, подготавливая то самое длящееся небытие , т. е. бытие (условное) небытия, стремящееся к небытию бытия, каковым (вслед за св. Григорием Нисским) и можно считать преисподнюю, или ад [Лурье, 2006, 474 (со ссылкой на А. А. Лиходедова), 478].
Можем ли мы привести конкретные примеры таких пар из поздней Византии? Да; и одной из них будет — Никифор Григора (эраст, стремящийся; тип Д & З, т. е. знающий меньше учителя, а стало быть, немного «злой» в этом плане) / Феодор Метохит (эромен; совершенный, идеальный ученый и поборник благочестия в восприятии Григоры; см. выше). И именно оценка себя самого как человека недостаточно (по сравнению с Феодором) благочестивого, образованного и мудрого двигала Григорой в его стремлении (выразившемся в юные годы) учиться у Феодора и даже, вероятно, переписывать рукописи его «Памятных заметок» (такое предположение высказывают по отношению к Paris. gr. 2003 издатели текста К. Хюльт и С. Вальгрен)21. Однако только такие люди, как Григора, по Платону, и философствуют (Lys. 218b), тогда как Метохит и подобные ему являют собой верх совершенства.
Из признания данной позиции проистекает многое в творчестве Григоры — в том числе и центральный предмет настоящей заметки: литературный образ Варлаама Калабрийского во многом определялся соответствующими антропологическими воззрениями Метохита, в частности, на феномен надежды (ПЗ 63). Настала пора взглянуть на этот пример зависимости Григоры от Метохита подробнее.
3. Образ Варлаама у Григоры:
воплощение ложных надежд по Метохиту
Итак, буквально через двенадцать строк после появления Варлаама в тексте «Ромейской истории» Григоры историк нам сообщает, что он, подобно дурному актеру, почти сразу «был покрыт презрением (κατέγνωσται) со стороны всех и прилюдно подвергнут сильнейшему и фундаментальному осмеянию (διακεκωμῴδηται πάνυ τοι σφόδρα περιφανῶς)» (ХI, 10 (В): vol. 1, р. 555.22–23; ср. vol. 1, р. 555.23–556.4 и цитируемое далее начало «Флорентия»).
И смех этот, вопреки Бахтину, был весьма недобрым. Более того, это был страшный смех — такой, которым «можно заткнуть рот, как кляпом… Террор смеха не только успешно заменяет репрессии там, где последние почему-либо неприменимы, но не менее успешно сотрудничает с террором репрессивным там, где тот применим» [Аверинцев, 2001, 476, 477]. Смех был недобрым, как недобрым (в том числе в упомянутом выше смысле св. Григория Нисского) был и сам Варлаам, заслуживший по отношению к себе именно такой вид смеха: не детскую смехоту , но именно предельно серьезное в своем замысле осмеяние . Григора здесь выступает как добротный свидетель социально-психологических практик отторжения людским обществом чужеродного этому социуму начала. Таковым началом и оказался Варлаам.
Вспомним идеи из 62-й и 63-й глав «Памятных заметок» Метохита. Из гл. 62 «О тех, кто в силу случайности оказывается вовлечен в общественные дела: одни — из-за назойливого и дурного характера, а другие — по неведению и неумению предвидеть судьбу» Григора мог извлечь вывод о том, что политика — попытка «убежать от себя» (Theod. Met. SN 62.1.3: р. 16.2 Wahlgren22), сфера «бегства от свободы» (Э. Фромм), погружения в das Man. Тем, кто по невежеству берется за политические дела, подобно Варлааму, вступившему на тропу войны против монахов (XI, 10: vol. 1, р. 556.22–557.1 sq.), следует сказать: «Куда несетесь, о безумцы?» (ПЗ 62.2.2: р. 18.11 Wahlgren). Что вы затеваете против себя самих, не осознавая, что оно не принесет вам пользы? (ПЗ 62.2.2: р. 18.11–12 Wahlgren). Ведь «то, что вам кажется сейчас блестящим и наисладчайшим, когда вы наброситесь на него, не даст вам просто так (μετ̉ οὐ πολὺ)23 и безнаказанно освободиться от своего [влияния] — но поскольку вы, будучи дурными, дурным же образом и впали в то, чего не могли себе и представить, то освободитесь вы от [сопряженных с] этим [тягот] лишь после смерти» (ПЗ 62.2.3: р. 18.12–15 Wahlgren).
Фигура Варлаама в «Ромейской истории» (XI, 10) как нельзя больше подходит для иллюстрации подобного рода случаев. По сути, Калабриец (как выяснил Григора) явил собой живой exemplum общетеоретических установок Метохита. Именно этим определяется трактовка его образа у Никифора. Именно поэтому, думается, он был «подвергнут сильнейшему и фундаментальному осмеянию ».
Поведение Варлаама, как кажется, укладывается в рамки того канона изображения отрицательного, вызывающего смех героя, и в тот набор парадигм-образцов его воплощения, который был задан, конечно, античной и византийской традицией в целом24 — но и ПЗ Метохита, в частности. Варлаам, надо полагать, питал ложные надежды на триумф — и вот оказался достойным « осмеяния со стороны своих врагов» (ПЗ 63.3.4: р. 28.15 Wahlgren). Таковые люди, как калабрийский интеллектуал, «совершенно не сведущи в истине сущих (ἀμαθέστατοι τῶν ὄντων τῆς ἀληθείας)» (ПЗ 63.4.6: р. 32.8–9, цит. р. 32.9 Wahlgren). При осмыслении истории Варлаама у Григоры должно было сформироваться стойкое ощущение дежавю — что все это он уже в принципе , на уровне моделей, читал… у «мудрейшего Великого логофета»!
Над таковыми, как италийский грек, писал Феодор, впору смеяться — «за какое бы дело [они ни взялись], они удерживаются в неведении относительно должного» (ПЗ 63.4.7: р. 32.12–13 Wahlgren).
Сравним и следующую тираду:
«И тебе нисколечко не помогут ни [напущенный на себя] важный вид, ни то, что ты думаешь [о себе] сейчас как о чем-то более [значимом], чем [думал] до сцены и до представления ; а то, что ты взыскуешь и пытаешься заполучить то, чего не имеешь, заставит тебя выглядеть — вновь [скажу словами] поговорки — „волком, напрасно разевающим [свою пасть]“» (ПЗ 63.5.7: р. 34.34.13–16 Wahlgren)25.
И вновь мы видим, что подразумеваемый Метохитом смех не очень добрый. В 63-й же главе «Памятных заметок» «О надеждах и о том, что, с одной стороны, они являются наиполезнейшим из того, чем располагает человек в жизни, а с другой же — чем-то всецело попираемым и вызывающим всеобщее негодование» раскрывается тема крушения ложных надежд , главная и в описании поведения Варлаама после поражения в диспуте (Григора здесь спрессовывает в единое целое обширный временной промежуток 1332–1341 гг., так что создаваемый им образ Варлаама, так сказать, заведомо концептуален , он служит иллюстрацией возвышенных концепций, и это — концепции его учителя):
«Однако этот Варлаам, расставшись с первой надеждой и лишившись [всех] своих важнейших надежд [вообще], следом [за ними] выпестовал другую — очевидно, вознамерившись, раз уж не получилось добиться славы там (в науках. — Д. М. ), так [сделать это] хотя бы здесь (в богословии. — Д. М.)» (XI, 10 (Г): vol. 1, p. 556.14–17)26.
После этого начинается рассказ о признании им более правильными учений латинян (ср.: vol. 1, р. 556.19–21), а там и о нападках на житие аскетов, которых Калабриец презрительно именовал «евхитами27 и пуподушниками…» (vol. 1, р. 556.22–557.1).
Варлаам изображается как типичный герой какого-нибудь античного или средневекового агона, или aemulatio. Уязвленный в своем себялюбии, он пытается совершить акт хюбрис — т. е., собственно, задеть, оскорбить — кого-нибудь иного , и этим иным, в конечном счете, оказываются монахи, возглавляемые св. Григорием Паламой:
«Однако [монахи], выдвинув [из своей среды] в качестве оплота для борьбы с Варлаамом — [борьбы, которую подобало вести] устно и при помощи писаний — некоего (τινα) Паламу, наиболее выдающегося среди них по части словесности (ἐν τοῖς λόγοις)28, пытались с его помощью, насколько это было возможно, опровергнуть положения Калабрийца» (XI, 10 (Г): vol. 1, р. 557.5–8).
Мы видим в этой части повествования топос уничижения : Палама — «некий», как будто Григора о нем доселе ничего не знал; согласно законам литературного построения, в создаваемый Григорой конструкт — «сценарий» реальности — вписываются герой и антигерой (Варлаам и св. Григорий Палама). Логикой сюжета и волею автора св. Григорий пока (пока еще!) — в этих начальных эпизодах — играет преходящую для него в «Истории» Григоры роль положительного героя, который со своей стороны способствует крушению ложных надежд неудачного актера и притворщика — Варлаама (и именно такое крушение ложных надежд подробно описано в ПЗ 63). Приведем лишь несколько подкрепляющих цитат.
Жизнь была бы не в радость без надежд, «которые словно вселяют [в нас] некий жизнетворный дух, начаток устойчивости и [твердого] пребывания [в бытии], залог всяческого преуспеяния в тех делах, которыми мы занимаемся в нашей жизни, и оправдание вольности / досуга (ῥᾳστώνης)» (ПЗ 63.1.3: р. 24.4–7, цит. р. 24.5–7 Wahlgren). Надежды — «некая формообразующая сила (потенция, δύναμις) человеческого существования (τῆς… βιοτῆς), связующий элемент длительности и пребывания [в бытии]» (ПЗ 63.2.2: р. 24.22–23 Wahlgren), по сути — экзистенциал (в духе Хайдеггера).
Однако жизнь без надежд — не что иное, как приготовление к самоубийству: лишенные этого дара природы люди влачат свое существование, «избрав для себя в качестве воздаяния (за прожитую жизнь. — Д. М. ) всесовершеннейшую погибель[, состоящую в бесконечном] разливе бедствий и пребывании (τῆς μονῆς) в них» (ПЗ 63.2.6: р. 26.16–17 Wahlgren). И многие, оказавшись в бедствиях и отчаявшись, так и поступают (ПЗ 63.2.7: р. 26.17–19 Wahlgren)29, «будучи людьми малоразумными (μικρογνώμονες), не ценящими (μικρολόγοι) благих надежд и не сведущими в том, что в них является самым наилучшим» (ПЗ 63.2.7: р. 26.20–21 Wahlgren).
Люди же, погруженные в ложные надежды , оплакивают себя за то, что « разыгрывали, словно в драме, в театре помыслов (κατεδραματούργουν ὡς ἐν σκηνῇ τοῖς λογισμοῖς), собственную власть, наслаждения, свою привилегированность (πομπείαν) и благосклонность к ним судьбы…» (ПЗ 63.3.4: р. 28.15–17 Wahlgren).
«Но, в конечном счете, — задается вопросом Великий логофет, — что же это будет за житие, что за жизнь и что за самореализация, охваченная сном (οὐσίωσις ὀνειρώδης)? Иначе говоря, можно ли, доверяя снам, связывать с ними свое житие, живя всю жизнь как во сне 30 (ὅλως ζῶν ὄναρ), считать, что именно отсюда ты получаешь [подлинное] наслаждение и приобщаешься некоему благоденствию (τινὸς εὐδαιμονίας) — и не быть при этом несчастнейшим из людей ?» (ПЗ 63.3.6: р. 28.23– 30.2 Wahlgren).
Таким человеком и является Варлаам. Именно по этой модели, как кажется, и конструируется его образ в «Ромейской истории» Никифора Григоры — с первых строк, повествующих о его появлении в Византии. Ведь он — именно тот, кто, положившись на ложные надежды, ни в науках, ни в богословии не нашел своей славы.
Нам осталось ответить на достаточно важное возражение методологического характера. Насколько все-таки правомерно сопоставлять византийские сочинения столь различных жанров (все равно, что балетную и симфоническую партитуру)?
В поисках ответа мы обратили внимание на то, что между Метохитом и Григорой существовали устойчивые отношения ученой дружбы, организованной по платоновской модели (вероятно, их личная дружба также на ней базировалась), в своих существенных чертах описанной в диалоге «Лисид» и известной в поздней Византии (что мы отметили на примере переписки Мануила Рауля и Алексея Ласкаря Метохита). Наконец, мы всячески обращали внимание на то, что сами анализируемые нами сочинения — как «Памятные заметки», так и «Ромейская история» — являют собой пример многожанрового и многопланового текста, для которого характерно то же (и даже большее) богатство взаимопереплетающихся элементов содержания и та же «междискурсивность» вкупе с «полимодальностью» выражения, что и для наиболее выдающихся памятников культуры последующих эпох (см.: [Соколова, 2019, 158, 162]).
Список литературы Платон, Метохит и начало исихастских споров: заметка об образе Варлаама Калабрийского в «Ромейской истории» Никифора Григоры (XI, 10)
- Аверинцев (2001) — Аверинцев С. С. Бахтин, смех, христианская культура [1988] II М. М. Бахтин: pro et contra. Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли. Антология. ТЛ I Под ред. К. Г. Исупова. СПб.: Изд-во РXГИ, 2001. С. 468-483.
- Жинкин (1982) — Жинкин Н..И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982.
- Иванов: Нечет и чёт (1999) — Иванов Вяч. Вс. Нечет и чёт. Асимметрия мозга и динамика знаковых систем II Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. Т. I. C. 381-602.
- Иванов: Очерки по предыстории (1999) — Иванов Вяч. Вс. Очерки по предыстории и истории семиотики II Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. Т. I. C. 787-791.
- Каждан (2002) — Каждан А. П. (в сотрудничестве с Ли Ф. Шерри и Х. Ангелиди). История византийской литературы (650-850 гг.) I Пер. с англ. А. А. Белозёровой и др. СПб.: Алетейя, 2002. (Византийская библиотека).
- Каждан (2012) — Каждан А.П. История византийской литературы (850-1000 гг.): история византийского энциклопедизма I Пер. с англ. Д. Р. Абдрахмановой и др. СПб.: Алетейя, 2012. (Византийская библиотека).
- Лурье (2006) — Лурье В.М. Апокатастасис и учение о свободе воли. Отзыв на диссертационное исследование: А. А. Лиходедов, «Учение Григория Нисского об апокатастасисе в свете античных источников его антропологии» (кандидатская диссертация; МГУ, философский факультет, 2006) II Scrinium. 2006. T. 2. Universum Hagiographicum. Mémorial R. P. Michel van Esbroeck, s.j. (1934-2003) I Ed. by B. Lourié, A. Mouraviev. С. 470-479.
- Луховицкий (2023) — Луховицкий Л. В. Слова и образы: Иконоборчество глазами византийцев VIII-XV вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2023. (nAPAAEirMATA BYZANTINA, 6).
- Медведев (1997) — Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб.: Алетейя, 1997. (Византийская библиотека).
- Платон (2022) — Платон. Лисид II Платон. Диалоги «Лисид» и «Лахет» I Иссл., пер. и комм. Р. Б. Галанина, Р. В. Светлова. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. С. 98-133 (перевод Р.Б. Галанина), 133-163 (оригинал).
- Ростова (2022) — Ростова Н. Н. Мягкая сила постгуманизма. Что нам мешает мыслить по-русски? М.: Проспект, 2022.
- Соколова (2019) — Соколова О. Межсемиотичность как категория идиоматики авангарда (на материале поликодовых манифестов русских футуристов) II Зборник матице Српске за славистику. 2019. Т. 96. С. 155-176.
- Феодор Метохит (2020) — Феодор Метохит. Слово о нравственных проблемах, или Об образованности I Пер. со среднегреч. яз. и вступ. ст. Д. И. Макарова; коммент. Я. Полемиса, Д. И. Макарова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. (nAPAAEirMATA BYZANTINA, 1).
- Щедрина, Щедрина (2022) — Щедрина Т.Г., Щедрина И.О. «Жажду бесед с Вами»: переписка Романа Якобсона и Николая Жинкина // ВФ. 2022. № 12. С. 137-147.
- Beyer (1978) — Beyer H.-V. Eine Chronologie der Lebensgeschichte des Nikephoros Gregoras // JÖB. 1978. Bd. 27. S. 127-155.
- Beyer (1971) — Beyer H.-V. Nikephoros Gregoras als Theologe und sein erstes Auftreten gegen die Hesychasten // JÖB. 1971. Bd. 20. S. 171-188.
- S. Gregorii Sinaitae Sermo in Transfigurationem // Balfour D. Saint Gregory the Sinaïte: Discourse on the Transfiguration. First critical edition, with English translation and commentary // ©eoXoyia. 1981. T. 52. No. 4. P. 631-681.
- Hult (2002) — Hult K. Introduction // Theodore Metochites on Ancient Authors and Philosophy. Semeioseis gnomikai 1-26 & 71. A Critical Ed. with Introd., Trans., Notes and Indexes by K. Hult; With a Contribution by Börje Bydén. Göteborg: Göteborg University, 2002. (Studia Latina et Greca Gothoburgensia, LXV). P. xiii-xliv.
- Hult (2016) — Hult K. Introduction // Theodore Metochites on the Human Condition and the Decline of Rome. Semeioseis gnomikai 27-60. A Critical Ed. with Introd., Trans., Notes and Indexes by K. Hult. Göteborg: Responstryck, 2016. (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, LXX). P. ix-xxvi.
- Ljubarskij (1999) — Ljubarskij J. N. New Trends in the Study of Byzantine Historiography // Любарский Я.Н Византийские историки и писатели (сб. статей). СПб.: Алетейя, 1999. (Византийская библиотека). С. 308-317.
- Loenertz (1956) — Loenertz R.J, O.P. Emmanuelis Raul Epistulae XII // EEB2. 1956. T. 26. P. 130-163.
- Matschke (1971) — Matschke K.-P. Fortschritt und Reaktion in Byzanz im 14. Jahrhundert. Konstantinopel in der Bürgerkriegsperiode von 1341 bis 1354. Berlin: Akademie-Verlag, 1971. (Berliner Byzantinische Arbeiten, 42).
- Mullett (2010) — Mullett M. Imitatio-aemulatio-variatio // Imitatio-aemulatio-variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008) / Hrsg. A. Rhoby, E. Schiffer. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse. Denkschriften, Bd. 402). P. 279-282.
- Nic. Greg. De communi (1971) — Nicephorus Gregoras. De communi et per se subsistente specie, quae sola mente videtur // Beyer H.-V. Nikephoros Gregoras als Theologe und sein erstes Auftreten gegen die Hesychasten // JÖB. 1971. Bd. 20. S. 171-188 (S. 185).
- Nicephorus Gregoras (1829) — Nicephorus Gregoras. [Historia Rhomaïke.] Vol. 1. Bonnae: Impensis Ed. Weberi, 1829. (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, pars XIX).
- Nicephoros Gregoras (1973) — Nikephoros Gregoras. Rhomäische Geschichte. Historia rhomaïke / Übersetzt und erläutert von J.-L. van Dieten. Erster Teil (Kapitel I-VII). Stuttgart: Anton Hiersemann, 1973. (Bibliothek der griechischen Literatur, 4).
- Nicephoros Gregoras (1979) — Nikephoros Gregoras. Rhomäische Geschichte. Historia rhomaïke / Übersetzt und erläutert von J.-L. van Dieten. Zweiter Teil (Kapitel VIII-XI). 2. Halbband. Stuttgart: Anton Hiersemann, 1979. (Bibliothek der griechischen Literatur, 9).
- Reinsch (2010) — Reinsch D. R.. Der Autor ist tot — es lebe der Leser. Zur Neubewertung der imitatio in der byzantinischen Geschichtsschreibung // Imitatio-aemulatio-variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008) / hrsg. A. Rhoby, E. Schiffer. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, Bd. 402). S. 23-32.
- Sevcenko (1962) — Sevcenko I. Études sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos. La vie intellectuelle et politique à Byzance sous les premiers Paléologues. Bruxelles: Éditions de Byzantion, 1962. (Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae; Subsidia, III).
- SN — Theodore Metochites' Sententious Notes. Semeioseis gnomikai 61-70 & 72-81. A Critical Edition with Introduction, Translation, Notes, and Indexes by S. Wahlgren. Gothenburg, 2018.
- Wahlgren (2018) — Wahlgren S. Introduction // Theodore Metochites' Sententious Notes. Semeioseis gnomikai 61-70 & 72-81. P. xi-lvi.