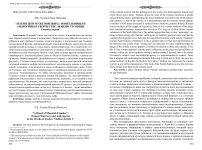"Племя жен мужепохожих": воительницы и андрогины в творчестве Любови Столицы. Статья первая
Автор: Зусева-Озкан Вероника Борисовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
В первой статье двухчастного цикла, посвященного исследованию образов воительницы и андрогина в творчестве полузабытой поэтессы Серебряного века Любови Столицы, ставится вопрос о воительнице как гендерно неоднозначной фигуре, апроприирующей традиционнейшую маскулинную роль патриархатной культуры, т.е. роль воина. Демонстрируется, что в творчестве Столицы воительница появляется многократно и в разных обличьях (амазонки, богиня Афина, русские богатырки, Жанна д’Арк, воительницы времен воображаемого «матриархата», амазоноподобные дивы в «Песни о Золотой Олоне», «девица-доброволец» Первой мировой). Доказывается, что наряду с «женской» андрогинной фигурой у Столицы присутствует и «мужская», причем константной сюжетной ситуацией является любовь ангелоподобного женственного юноши и «мужепохожей» женщины. Анализируются такие особенности творческого мира Любови Столицы, как гендерные перевертыши и понимание женской роли как роли сильного. Устанавливается, что образ воительницы возникает в произведениях Столицы в связи с тремя основными темами. Во-первых, это «женский вопрос» и рефлексия писательницы о месте и возможностях женщины, по ее мнению, явно недооцененных. Во-вторых, это тема женского творчества и женской авторской субъектности, т.е. автометарефлексивный контекст. В-третьих, это утопически-эсхатологическая проблематика: вслед за А. Блоком и А. Белым - двумя важнейшими для Столицы представителями русского символизма, писательница репрезентирует воительницу как одно из воплощений Мировой Души, Софии, спасающей мир, чей образ восходит к гностическому мифу.
Любовь столица, дева-воительница, андрогин, гендерный порядок, маскулинность и фемининность
Короткий адрес: https://sciup.org/149135833
IDR: 149135833 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00013
Текст научной статьи "Племя жен мужепохожих": воительницы и андрогины в творчестве Любови Столицы. Статья первая
Эта статья посвящена проблеме, которой, насколько нам известно, никто еще не касался: речь идет о фигуре девы-воительницы и связанном с ней мотивно-сюжетном комплексе в произведениях Любови Столицы -поэтессы Серебряного века, чье творчество остается мало исследованным до сих пор. Сразу скажем, что Любовь Столицу весьма волновал столь актуальный в начале XX в. «женский вопрос», следы чего отчетливо видны в целом ряде ее текстов, прежде всего «большой формы», те. в поэмах и драмах. Образ воительницы и возникает в творчестве поэтессы прежде всего в связи с «женским вопросом» и рефлексией о месте и возможностях женщины, по мнению писательницы, явно недооцененных. Однако, как мы покажем далее, поскольку в творчестве Столицы очень значительна утопически-эсхатологическая струя, образ воительницы связывается у нее, вслед за А. Блоком и А. Белым, и с гностическим мифом о Мировой Душе, Софии, спасающей мир, одним из воплощений которой предстает дева-воительница.
Мы постараемся проследить константы, эволюцию и основные «силовые линии» в репрезентации воительницы у Любови Столицы. Кроме того, поскольку обращение к образу девы-воительницы, который представляется нам случаем «гендерного беспокойства» на фоне нормы гендерного дисплея (не будем забывать, что традиционнейшей маскулинной ролью патриархатной культуры является роль воина, и претендующая на нее женщина неизбежно воспринимается как существо особой, странной,

непонятной, промежуточной - андрогинной - природы), - это, по нашему мнению, лишь один из элементов более широкого явления, а именно размывания в Серебряном веке старого гендерного порядка и попыток выстраивания нового, мы будем говорить о воительнице в связи с конструированием фемининности и маскулинности вообще.
Уже в довольно ранних стихотворениях Любови Столицы возникают мотивы, связанные с анормативностью гендерного дисплея - чертой, принципиальной для образа воительницы, строящегося на нестандартном соотношении гендерных ролей, ибо воинская доблесть и физическая сила - традиционно мужские атрибуты. Для Столицы на всем протяжении ее творчества характерен образ андрогина - то репрезентирующийся через описания и / или уподобления, то названный прямо. См., например, третье стихотворение цикла «Хмелевые песни», вошедшего в книгу стихов «Лада» (1912), где воспевается возлюбленный Лады:
...Ходим мы, два Лада, Два родные Люба.
Угадайте, люди, Кто из нас двух дева? Малы обе груди, Круглы оба чрева.
Сами мы забыли, Сами уж гадали, Девушка - не ты ли? Юноша - не я ли?.. [Столица 2013,1, 121]
Это поразительное описание, по нашему мнению, откликнется в поэме М. Цветаевой «Царь-Девица» (1920):
-
- Гляжу, гляжу, и невдомек: Девица - где, и где дружок?
Тот юноша? - лицом кругла, Тот юноша? - рука мала:
Да больно вид-то их таков, -А ну-ка двое пареньков?
Кто сам с косой да в юбочке -Тому пускай - два юноши.

Кто вокруг юбок веется -Тому пускай - две девицы. [Цветаева 1994- , III, 210]
Вообще, Цветаева многим обязана Любови Столице (тема, тоже практически не исследованная), хотя и отзывалась о ней скорее презрительно (см. письмо А. Бахраху от 9 июня 1923 г, где речь идет как раз о «Царь-Девице»: «...сейчас в газетах, хваля меня, хвалят не меня, а Любовь Столицу. Если бы я знала ее адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. Это не я» [Цветаева 1994- , VI, 558]). Так, у Столицы неоднократно возникает образ сказочной царь-девицы, в том числе в этой же книге стихов «Лада» (см., например, «К радуге»: «Мы - сестрицы, / Царь-девицы...» [Столица 2013, I, 83]), заглавная героиня которой - родня всем стихиям так же, как цветаевская Царь-Девица: «Огнь - отец мне, Вода - матерь, / Ветер - брат мне, сестра - Буря» [Цветаева 1994- , III, 200]. Более того, в стихотворении «К ветру» возникает тот же комплекс мотивов, что и в поэме-сказке Цветаевой, где Ветер предстает «нареченным братом» и одновременно ревнивым женихом. У Столицы ветер - тоже брат героини («Ты - родимый мне брат» [Столица 2013,1, 87]), тоже крылат, причем руки героини сопоставляются с крыльями ветра: «Две руки подняла - / Вот два белых крыла!» [Столица 2013 I, 87]; «Тот навстречу - крылья, / Та навстречу - руки...» [Цветаева 1994-, III, 256]. В обоих случаях появляется мотив Восхода и Заката: «Через синий поток / Полетим на восток! / Через розовый сад / Полетим на закат!» [Столица 2013,1, 87]; «Тебе путь - к Восходу, / Ну, а мне - к Закату!» [Цветаева 1994- , III, 257]. В обоих случаях образ Ветра связывается с любовной темой и одновременно с мотивом свободы: «И всегда я пою, / Как и ты, про любовь / И ладонями бью, / Коль поет во мне кровь...» [Столица 2013, I, 87] и «Руку в руку мне дай, / На лету всех целуй, По пути -обнимай. / Мы попляшем с тобой, / Братец мой, голубой!» [Столица 2013, I, 87]; у Цветаевой:
-
- Здорово, нареченный брат!
-
- Здорово, брат!
-
- В дорогу, нареченный брат!
-
- В дорогу, брат!
Довольно, знать, по гусляру
Рвать волоса!
В грудь - сквозь сердечную дыру -
Ветр ворвался!
[Цветаева 1994- , III, 262]
В обоих случаях сюжет завершается отлетом стихийной героини с ветром. Наконец, отметим, что в «Царь-Девице» происходит мена гендерными ролями, и не только заглавная героиня-воительница предстает муже-
ственной, даже «мужепохожей», если употребить окказионализм Любови Столицы, но и герой - женственным (и инфантилизированным). То же характерно для творчества Столицы: ее излюбленный герой женоподобен (и обычно сравнивается с архангелом Гавриилом и богом Дионисом, которые выступают у нее мужскими архетипами андрогина), а героиня получает ряд маскулинных черт.
Так, в стихотворении «Моя Муза» из четвертой книги стихов «Лазоревый остров» (не опубликованной при жизни поэтессы) оказывается, что музой лирической героини является вдохновляющий ее возлюбленный:
Муза эта, знай же! не из бессмертных, Хоть и выше нас с тобой легким станом... Не из дев та Муза, хоть всех нас краше Ликом прелестным!
Кудри ее коротки, ярко-черны, По-мужски не собраны и не свиты, Щеки же смуглы и покрыты пухом Так не по-женски!
Ах! она, безмолвная, просит гимна...
Ах! она, бескрылая, ввысь уносит...
Знать ее желаешь - ищи прилежно
Здесь, между нами:
Между милых отроков, льющих вина...
[Столица 2013,1, 200-201]
Возникает образ андрогинного юноши, причем о нем говорится в женском роде - отчасти благодаря уподоблению Музе, но и само это уподобление многозначительно. Сходным образом о Царь-Девице у Цветаевой нередко говорится в мужском роде, но и у Столицы возникают такие конструкции в романе в стихах «Елена Деева»: «И проснулося в ней снова / То, что нужно для победы: / Хитрость девы-сердцееда, / Дерзость девы-сердцелова. / О, прекрасный, бедный инок! / Не от Бога ли любовь? / Но, коль начат поединок, / Будут схватки вновь и вновь!» [Столица 2013, I, 571].
В «Лазоревом острове» мотив андрогина возникает очень часто - см. стихотворения «Божок» («В твоем лице, мужском и женском...» [Столица 2013,1, 207]), «Иакх и Иоанн» - экфрастический сонет, воспевающий андрогинных юношей Леонардо да Винчи («Иоанна Крестителя» и «Бахуса») с их «ликами двусмысленными», седьмое стихотворение цикла «На иной земле» («Мы с ним - что дружные братья, / Мы с ним - что нежные сестры...» [Столица 2013,1, 259]). Напрямую это слово в «Лазоревом острове» употребляется по отношению к «женскому» варианту андроги-
на - в сонете «Жорж Занд» (имя писательницы и герои ее произведений неоднократно упоминаются в различных текстах Столицы): «Чудесный романтизма андрогин!» [Столица 2013,1, 226]. Крупным планом показаны «женственность руки продолговатой» и «рот мужской, лобзавший столько раз, / Где пахитоска тонкая зажата» [Столица 2013,1, 226], «камзол и кринолин»; как «мужское» и «женское» сопоставляются «гений» и «пенная страсть», которыми равно «веет» от этой писательницы. В другом, более позднем, стихотворении «Жорж Занд» (1917) те же мотивы отчасти модифицируются: полюса «женственного» и «мужественного» оказываются уже распределены не между частями тела (рука и рот), но между телом и духом - «Люблю, как раньше, лик твой женственный / И мужественный твой талант» [Столица 2013, I, 390] (и двумя именами - «Аврора Дюде-ван! Жорж Санд!»). Вновь возникает слово «гений», но оно, хотя и отсылает самой своей грамматической формой к мужскому полюсу, сочетается здесь со словом «женщина»: «Ты мной владела, гений-женщина...» [Столица 2013, I, 390]. Вновь возникает и «кринолин», однако не противопоставляется «камзолу», а становится частью другой оппозиции: он является частью женственной внешности писательницы, создававшей при этом книги, в которых «таился вызов для мужчин». По обеим этим приметам устанавливается более прозрачная, чем в раннем стихотворении, параллель между лирической героиней Столицы и французской писательницей: «В зарю ту, золотую, скорую, / Все женщины вспомянут вновь / И ту, что звалася Авророю, / И ту, что звалася - Любовь!» [Столица 2013, I, 390]. Жорж Санд упоминается также в пьесе Столицы «Звезда от Востока», где главное действующее лицо - уподобленная ей героиня.
Софья Львовна Вьельгорская, воплощенная Звезда (в этой героине присутствует и несомненный софийный элемент"), впервые появляется одетой по-мужски и имеет «вид мальчика из парижской богемы» [Столица 2013, II, 378]. Все, кроме дочери, очень на нее похожей, сначала принимают ее за мужчину (что, кстати, есть архетипический мотив сюжетов о воительнице). Она описана как «феминистка» и «жорж-зандистка» и даже внешне походит на Жорж Санд. Влюбленный в нее герой восклицает, воспроизводя топосы стихотворений Столицы о Жорж Санд: «...как много аромата вы / В себе таите женского, блестя умом мужским!» [Столица 2013, II, 457]. Наконец, хотя героиня не является воительницей как таковой, с ней связываются мотивы, типичные для сюжетов о воительницах. Прежде всего, это мотив любви-вражды. Арсений говорит: «Я, как царице, в верности великой присягаю вам, / Своей подруге в будущем и... бывшему врагу» [Столица 2013, II, 458]. Сама Вьельгорская высказывается в том же духе: «Арсений, друг сердечный мой, противник и возлюбленный, / Смотри: тебя целую я, я, гордая сама!» [Столица 2013, II, 458]. Арсений, признаваясь в любви, так формулирует свои желания: «Чего хочу?.. Да чтобы по любви, / По вольной воле вы моею стали, - / И розами б сплелись мечи двух воль, / И мед, не кровь, закапал бы с их стали...» [Столица 2013, II, 484]. В финале героиня ощущает к себе нечто вроде презрения за свое «па-
дение», что заканчивается ее трагической гибелью - почти самоубийством. Арсений догадывается: «Ох, нет... Сдалась, но, чтоб не снять доспехов, / Сама с собой...» [Столица 2013, II, 496]. Наконец, и ее возлюбленный-враг, Арсений, назван «русским Вакхом», воспроизводя постоянный для Столицы образ андрогинного возлюбленного. За разворачивающимися событиями следит «замшенная статуя Вакха, юного, женоподобного» [Столица 2013, II, 398], которую так любит Вьельгорская; этого Вакха Арсений в IV действии называет своим соперником.
В первоначальной редакции стихотворения «Тринадцатая весна» из книги стихов «Лазоревый остров» Столица прямо говорит о том, что все ее андрогиные мужские персонажи имеют единый облик и единый источник:
Да, лик тот воплощен в Медуне, Данииле, Иакхе, Дафнисе, Паломнике, гяуре, -С лозой иль лотосом, крылатый иль без крылий... [Столица 2013,1, 665]
Здесь перечислены герои «Песни о Золотой Олоне», романа в стихах «Елена Деева», стихотворений «Иакх и Иоанн» и «Дафнис и Ликенион», пьес «Мириам Египетская» и «Голубой ковер». В «Елене Деевой» многократно упоминается «образ юношески-женский» [Столица 2013, I, 518] архангела Гавриила, которому уподоблен герой - молодой купец Даниил Святогоров. О нем тоже сказано, что у него «образ юношески-девий», в нем героиня узнает священный облик: «Он - архангел Гавриил!» [Столица 2013, I, 533] (а в главе V о нем же говорится: «юный, нежный Дионис» [Столица 2013, I, 571]; эти два уподобления совпадают с основными андрогинными образами лирики Столицы). В главе IV, как прежде в лирике, сближаются и противопоставляются мужские (ангельские) и женские (страстные) черты героя: «Взор его голубоватый / Серафимски ужасался, / Но уж женски улыбался / Рот его малиноватый» [Столица 2013, I, 559]. Елена, разлученная с Даниилом, ищет забвения в различных увлечениях, и дольше всего она способна увлекаться «бриттами» (англичанами): «В красоте их андрогинной / Ей мерещился слегка / Тот, чей взор - аквамарины, / Чьи улыбки жемчуга» [Столица 2013, I, 562]. Более того, герой и ведет себя «по-женски»-, отдает инициативу героине, хранит целомудрие, предается мечтам, пассивной созерцательности; он чувствителен в гораздо большей мере, нежели героиня. Напротив, сама Елена в облике и поведении сближена с мужчинами, она тоже андрогин: «К ней ни платье не пристало, / Ни передник кружевной» [Столица 2013,1, 521]; она апроприи-рует все мужские занятия и привилегии. Согласно слухам, она «и стреляет по-бреттёрски, / Ив седле сидит по-горски, / И гадает по-цыгански... /Ав ее волшебных виллах есть для юношей гарем...» [Столица 2013,1, 547]. В письме Елены к сестре, перечисляя своих любовников, она, в частности, говорит о дуэли с одним из них:

После пламенно влюбилась
Я в Магницкого Вадима, На дуэли даже билась, И дала, увы! не мимо... Был он крайним анархистом, Хладнокровный, с трубкой, в кэпи, Презирал все узы, цепи, Слыл же вором ловким, чистым! Победила я. И тотчас
Он пошел за мной, как паж... [Столица 2013,1, 548-549]
Героиня, таким образом, ведет себя, как воительница, и эта ее само-репрезентация получает итоговое подтверждение в эпилоге: если Даниил уходит в монастырь (как поступила, например, в сходных обстоятельствах тургеневская Лиза Калитина), то героиня, напротив, уходит на войну, где геройски погибает: «Дни спустя, в грозе военной / Скрылась Деева бесследно. / Вскоре слух прошел мгновенный, / Что в погибнувшем победно / Кирасире-добровольце / После девушку узнали...» [Столица 2013,1, 604].
Наиболее отчетливо излюбленная сюжетная ситуация Столицы, т.е. любовь андрогинных героев - ангелоподобного женственного юноши и сильной женщины, - предстает в «Песни о Золотой Олоне» (1914, публ. 1917), однако подробно мы проанализируем ее далее, пока же лишь обратим внимание на ту же странную смесь чувств героини по отношению к герою, которую демонстрирует и Царь-Девица в одноименной поэме Цветаевой. Вообще, с нашей точки зрения, эта поэма Столицы о царице -воительнице, несомненно, повлияла на цветаевскую «Царь-Девицу» - начиная с отдельных образов и выражений до мотивов и сюжета в целом с его трагическим завершением в земном мире и соединением героев за его пределами - у Столицы очевидным, а у Цветаевой предстающим лишь как намек. В обоих случаях героини испытывают к герою не только страсть, но и квазиматеринское чувство: «Мне ль ему годиться в жены? / Предо мной он - мальчик малый» [Столица 2013, II, 31], «Спать тебе не помешаю, / Алмаз, яхонт мой! / Оттого что я большая, / А ты - махонькой!» [Цветаева 1994- , III, 211]. В обоих случаях сюжет движется инициативой героинь, которые представлены как наделенные всей возможной властью, обычно атрибутируемой лишь мужчинам. Они правительницы и воительницы, а также и сакральные существа: Царь-Девица уподоблена святому воину небесного царства («Грудь в светлых латах, лоб - обломом, / С подсолнечником равен лик. / Как из одной груди тут громом: / “Сам Михаил-Архистратиг!”» [Цветаева 1994- , III, 202]), об Олоне, чье царство спроецировано на страну амазонок, сказано, что она «Дочь богини лунной Плены / Благосклонная Олона, / Чье священным мнилось лоно» [Столица 2013,11,23].
Гендерный перевертыш отчасти присутствует даже в пьесе-стилиза-
ции «Голубой ковер», главная героиня которой, вольная танцовщица Мне-вэр, как будто явилась из «Кармен» или пушкинских «Цыган». Однако традиционная расстановка действующих лиц, где власть и насилие над изменчивой женской природой осуществляют мужчины, оказывается опрокинута в финале: если начальная мизансцена представляла собой хана Узбека в окружении двух угождающих ему жен, то финальная, в райском царстве, напротив, являет гурию Мневэр в окружении любящих ее Узбека и Гяура; здесь воспроизводится один из постоянных топосов Любови Столицы - мужской гарем для женщины (ср. также в «Елене Деевой», «Песни о Золотой Олоне» и др.).
Эти гендерные эксперименты присутствовали уже и в лирике Столицы. Так, в противовес дискурсу Вечной Женственности, столь характерному для русского символизма, Столица пишет стихотворение «Вечная Юношественность», где возводит в мистический идеал мужскую природу (точнее, природу юноши, т.е. сохраняя известную долю андрогинизма), но самим этим жестом переворачивает все традиционные соотношения и ставит себя в позицию власти. Образ Юноши здесь сохраняет свои серафические черты и при этом - в духе поэмы «Три свидания» Вл. Соловьева с ее шутливым тоном - наделяется посюсторонними, современными чертами:
Безмятежно, несмутимо Ты прошел однажды мимо -Непорочный и немудрый, Лучше самой лучшей грезы.
Ах. Плечо крутое крыли Голубые перья крылий, Над главою синекудрой Бились розовые розы...
Шел ли ты на пляж купаться, Иль на мол в челне качаться, Или в парк резвиться в теннис -Я не знала и не знаю.
Образ Юноши. Ты вечен,
Ты в душе живешь, как встречен, -Мчащим, розой в беге вея, Крылья к лёту расправляя.
[Столица 2013,1, 204]
Тем же чувством вечности в мимолетном и отблеском сакрального в живом человеке, столь характерными для символистского мироощущения и биографических легенд, проникнуто и стихотворение «Чувство разумом
не делится...», где лирическая героиня воспевает все мелочи в облике возлюбленного: «Я люблю тебя всего. / Даже мелочи, безделицы / Из костюма твоего. // Даже утренние галстуки / Мерклых розовых тонов...» [Столица 2013,1,211]. При этом «он» и «она» вновь меняются местами, определенными им традицией: герой оказывается уподоблен мальчику Ганимеду, и героиня - «былая изменница», в чем она спокойно и признается, - боится, что он будет похищен некими «зевсами» (в подтексте ощущается гомосексуальный мотив, а герой тем самым отчетливо отнесен к андрогинным фигурам):
Я боюсь, чтоб не увидели Лик твой те, кто мудр и сед, И неволей не похитили От меня, мой Ганимед.
Ибо ими только ценится Красота, что так юна, Да одной былой изменницей, Что вдруг сделалась верна. [Столица 2013,1,211]
Те же мотивы силы, ассоциируемой с женщинами, и мужской слабости, подчинения прочитываются в стихотворении «Поэтессе», где лирическая героиня наделяется и мистической силой. Субъектность, в которой только и черпаются авторские прерогативы [Эконен 2011 ] и которая позволяет «сказать свое мужчинам слово» [Столица 2013,1, 227], дается героине через ряд уподоблений, связывающих ее с «глубинным вздохом космическим, / Всполохом таинственным вселенским» [Столица 2013,1, 226] - что как раз было традиционным топосом маскулинного гендерного порядка модернизма, в рамках которого женщина виделась как своего рода природная сила и сосуд таинственного. Столица, используя этот топос, превращает его, однако, в основание для приоритета, главенства женщины над мужчинами:
Влекись же в мир, от всех завешанный, Грядущего или былого
И, просветленной иль помешанной, Скажи свое мужчинам слово.
Дельфийской будешь ли сивиллою Иль русской бедною кликушей, -Про тайну страшную и милую Им пой - и голос мира слушай.
[Столица 2013,1, 227]
Кроме того, поэтесса здесь сближена с Евой: «Еще ты помнишь тени, шепоты / Золотояблоновой кущи, - / И смуглые от солнца стопы ты / Направила к земле цветущей...» [Столица 2013,1, 226]. Ева является героиней цикла Столицы «На иной земле», во втором стихотворении которого оказывается, что Бог сотворил сначала не Адама, а именно ее: «Сотворил тебе друга Он, Ева...» [Столица 2013,1, 254]. Таким образом, переворачивается традиционный богословский тезис о главенстве мужчин над женщинами и более высокой мужской природе, основанный прежде всего на том, что Ева якобы сотворена из ребра Адама, Адам же создан вполне по образу и подобию Бога, и утверждается приоритет женщин перед мужчинами. Это привилегированное положение вновь сопрягается с темой творчества, с одной стороны, и любви к андрогинному юноше, с другой, в десятом стихотворении цикла «Дневник любви»:
О, как хорошо, что Вы - не поэт, А только - возлюбленный мой, Который будет чудесно воспет, Сам будучи чудно-немой. [Столица 2013,1, 240]
Здесь, как и в цитированном выше стихотворении «Моя Муза», оспаривается характерное для маскулинного гендерного порядка модернизма представление о том, что женщина может быть только объектом, но не субъектом - в том числе субъектом творчества; может быть музой, но не автором, Беатриче, но не Данте, как З.Н. Гиппиус сформулировала это в статье «Зверебог» (1908). По словам К. Эконен, «оппозиция культуры и природы воплощается в оппозиции маскулинного и фемининного, причем фемининная природа и телесность связываются с немотой, а маскулинная рациональность и абстрактность обозначают активность» [Эконен 2011, 43]. Таким образом, Любовь Столица, как это было ей свойственно, переворачивает традиционную оппозицию, и поэтом оказывается женщина, а немой Музой - ее возлюбленный. X в цикле «Тринадцатая весна» о лирической героине-поэтессе говорится: «Ты сильна, не как женщина... / Не тобой ли, непризнанной, / Лира новая дерзостно выгнулась...» [Столица 2013, I, 242]. Те. неженская сила связывается здесь с открытием новых горизонтов в поэзии.
Есть у Столицы и такие стихотворения, где сила женщины и ее власть над мужчиной трактуется не только в связи с темой творчества, но и непосредственно - как физическое одоление, которое, однако, связано с темой любви-вражды, любви-борьбы. Таково стихотворение «Кентавр», где события происходят в двух планах: в плане условного настоящего героиня заслушивается музыкой Скрябина, а в плане фантазии, куда ее уносят звуки, она предстает «дерзкой наездницей», которая объезжает и покоряет кентавра. Завершается стихотворение опять планом настоящего, причем сближаются физический акт покорения кентавра и метафорический - пси-
хологической любовной борьбы:
Пусть жжет нас, как героев Гамсуна, Любовь, похожая на гнев, Ее усладам я отдамся, Надменный, Вас лишь одолев.
[Столица 2013,1, 222]
Все проанализированные особенности творческого мира Любови Столицы - андрогинность, гендерные перевертыши, понимание женской роли как роли сильного - это черты, в той или иной степени характерные для сюжетов о воительнице. Поэтому не должен удивлять тот факт, что в творчестве Столицы воительница появляется многократно и в самых разных обличьях. Это и амазонки, и богиня Афина, и русские богатырки, и воительница из нубийского племени, и Жанна д’Арк, и воительницы времен воображаемого «матриархата», и амазоноподобные дивы в «Песни о Золотой Олоне», и, наконец, «девица-доброволец» Первой мировой, появляющаяся как в стихотворениях, составивших соответствующий (издательский) стихотворный цикл, так и в романе в стихах «Елена Деева», где заглавная героиня в эпилоге сама становится «девицей-добровольцем», причем притворяется мужчиной, как некогда кавалерист-девица Н. Дурова. Столица как бы перебирает все сюжетно-мотивные возможности, связанные с этим образом.
Так что глубоко не прав был М.А. Кузмин, который в своем отзыве на стихотворение Любови Столицы «В простор», напечатанное в № 2 журнала «Остров» за 1909 г, высказался так: «Г-же Любови Столице было угодно надеть доспехи древней “поляницы”. Отчего же скучающей Людмиле не надеть и этого наряда? “Во всех ты, душенька, нарядах хороша”.
На каждой странице “лукоморье”, “ширяет”, “растильчивый”, “шелом” и т.д., всего не перечесть. Себя величает “исполинской девой”, “богатыркой”, “каменной бабой”, но всегда мы видим барышню, вышедшую в поле и говорящую, какая она была “вся розовая”, какие у нее были руки, глаза, волосы, - т.е. прием, не только не совсем скромный, но далеко и не художественный.
Так и данный опыт маскарада может только рассматриваться как милый, несколько претенциозный женский каприз» [Кузмин 1909, 46^17]. Как видно из всего сказанного выше, это не был каприз, прихоть или случайность - но органический элемент всей художественной системы Любови Столицы.
Стихотворение «В простор», послужившее поводом для этой кузмин-ской отповеди, датировано 28 августа - 2 сентября 1908 г. и, по-видимому, представляет собой одно из первых обращений Столицы к образу воительницы; вообще, в течение полутора лет, с осени 1908 г. по конец 1909 г. она создает целый ряд лирических текстов о воительнице. Стихотворению предпослан эпиграф из былины «Илья ездил с Добрынею» из сбор-
ника Кирши Данилова: «Скочил Добрыня со добра коня, / Напущался он на бабу Горынинку» [Столица 2013, I, 282]. В былине контаминированы два сюжета: поединок Добрыни с поляницей и поединок Ильи Муромца с сыном. Если поначалу бой Добрыни с бабой Горынинкой идет к его поражению, то затем вмешивается Илья Муромец, объясняющий Добрыне, как надо «с бабой дратися» [Древние Российские стихотворения... 1977, 191]. Покорившись, Горынинка говорит: «Не ты меня побил, Добрыня Никитич млад, / Побил меня стары казак Илья Муромец / Единым словом» [Древние Российские стихотворения... 1977, 192]. Она готова показать богатырям клад из злата и серебра как выкуп за свою жизнь, но, когда она это делает, «молоды Добрынюшка Никитич млад / Втапоры бабе голову срубил» [Древние Российские стихотворения... 1977, 192]. Очевидно, что в стихотворении Столицы мало что остается от этого патриархатного и мизогинного сюжета.
«В простор» состоит из пяти частей, отделенных друг от друга пробелами. Первая, вступительная, весьма напоминает стихотворения из книг Столицы «Раиня», «Лада» и «Русь» - это идиллические картины деревенской жизни. Лирическое «я» впервые появляется только в 14-й строке: «Буйно умчусь я отселе...» [Столица 2013,1, 283]. Сразу фиксируется разрыв между окружающим мирным бытом и лирической героиней, стремящейся показать свою богатырскую удаль, потешить свою разбойную и лихую натуру: «В дальний опасный ковыль из приюта веселий / Я с похвальбою девической ринусь горячей стопой» [Столица 2013, I, 283]. Деревня обозначается как мирное, веселое, но замкнутое пространство, тогда как героиня мечтает о просторе и опасности, о мире разомкнутом, открытом всем ветрам.
Вторая часть начинается с поездки героини на челне (отметим и эту параллель с «Царь-Девицей» М. Цветаевой) к вожделенному простору:
Руки мои простираются с шалой тоскою, Ширятся алчно зрачки, улыбаются дерзко уста... Стоя в челне, я плыву... Я - за славной рекою... Вот - вожделенный мой брег! Вот - простор! Подымайся, мечта! [Столица 2013,1, 283]
Стихотворение представляет собой любопытный случай субъектного неосинкретизма (что соответствует стилизации народной поэзии): речь неожиданно начинает вестись уже не от первого, а от второго лица, а потом так же неожиданно переходит обратно к первому, причем все время имеется в виду один и тот же субъект - лирическая героиня:
С этой расстильчивой и голубой луговины Любо тебе, о пернатая, кругом крутым запарить, Кинуть земле из-за облак привет соловьиный, В крае таинственных россов, обнявшись с ветрами, царить.
Хищное око твое все глядит - не упьется...
Око, мечта моя, ширь!
Ах, бытия тебе мало, - себя же всё много...
Жаждешь похитить ты весь и отдать самое себя в дар.
Тягостно-спелая жизнь! Высоко над дорогой
Виснешь ты, плод недоступный! Стрясет ли тебя чей удар? [Столица 2013,1, 283]
Отметим в этом фрагменте следующие важные особенности: героиня названа «пернатой» [Столица 2013, I, 283], она как бы парит в выси и «обнимается с ветрами». (Или только мечтает об этом? Увидим далее.) Не менее существенны и самоубийственные тенденции героини, ее тяга к Танатосу, порожденная сверхполнотой натуры (недаром ее жизнь сравнивается со спелым плодом) и невозможностью найти себе применение - то же самое верно и в отношении М. Цветаевой, в чьих текстах появляется такой тип героини; см., например, стихотворение «Бог, внемли рабе послушной!..» (1920):
Бог, внемли рабе послушной! Цельный век мне было душно От той кровушки-крови.
Цельный век не знаю: город Что ли брать какой, аль ворот.
Разорвать своей рукой.
Все гулять уводят в садик, А никто ножа не всадит, Не помилует меня.
От крови моей богатой,
Той, что в уши бьет набатом, Молотом в висках кует,
Очи застит красной тучей, От крови сильно-могучей Пленного богатыря...
[Цветаева 1994- , I, 563]
Третья часть стихотворения «В простор» - самохарактеристика лирической героини:
Я - исполинская дева. Неволи врагиня.
Медным шеломом волос потрясает моя голова.

Очи грозят булавой своей хладной и синей, Темным, коварным рукам не чужда ворожбы тетива. [Столица 2013,1, 283]
Героиня бросает вызов мужчинам: «Вас созываю, мужи, на прямой поединок с собой!» [Столица 2013,1, 283]. Здесь возникают архетипические для сюжетов с участием девы-воительницы мотивы любви-ненависти, богатырского сватовства, равенства и потому взаимной предназначен ности противников-.
Ширь - наше поприще. Смерть лишь разнимет объятья.
И победителю только владеть своевластной судьбой.
Ведаю древним чутьем я, что ненависть - сила,
Ненависть - девья любовь, к обоюдной усладе тропа,
И, богатырка, противлюсь тому, что взманило,
В битве ужасна, в оружье загадочна, к страху слепа.
Так я служу вековому и правому Счастью!
Ибо что воинам слаще, чем девственниц вызов принять?
С равномогучими биться отточенной страстью
И, одолев, пировать?
[Столица 2013,1, 283-284]
В четвертой части оказывается, что действие стихотворения развивается не в легендарном героическом прошлом, к которому отсылает и былинный эпиграф, но в настоящем: утверждается, что век героев - До-брыни, Муромца - минул, и лирической героине не сыскать достойного противника; и в этом, собственно, ее трагедия - в несоответствии ее богатырства мирному веку:
Перси мои, как вы жаждете яростной схватки!
Бранное ж поле пустынно... Лишь мирный лазоревый лен...
Спит под курганами дух ваш - былины святыня, Перевелись в стороне заповеданной богатыри... [Столица 2013,1, 284]
В пятой же части героиня, наконец, находит себе ровню, истинного своего жениха, которым оказывается... Ветер. Как следует из сказанного выше, в творчестве Столицы это происходит не единожды (ср. стихотворение «К ветру» из сборника 1912 г. «Лада»), но здесь, по-видимому впервые:
Единоборство с тобой принимаю, о витязь!
Рослый, дородный, в серебряных латах - достойный ты враг!
С девой, славянкой, сражается ветер - стихийный варяг.
Грудями стиснулись мы, врукопашную взялись:
О, что за мышцы железные, неуязвимая плоть.
Мне о пощаде моления только остались...
Но не смирюсь. Хоть бы в алое сердце стал ворог колоть! Ветр ненавистный, о ветр мой, о ветр мой любимый, Поднял ты, ястреб, меня! Умыкаешь невесту с собой... [Столица 2013,1, 284-285]
Как и положено деве-воительнице, героиня не сдается до последнего, но тем слаще оказывается поражение от честно осилившего ее «витязя». Стихотворение заканчивается соединением героини со стихиями, отлетом в вожделенный простор - что впоследствии будет дублировано в стихотворении «К ветру» (без мотива поединка). Непонятно при этом, уносит ли ветер убитую героиню или живую:
Чудно твоей полонянке немой, недвижимой, Гневны уста непорочные, радостен взор голубой. Сзади - дубравное царство, немота и девство... А впереди - на воздушных становьях заката костер, Суженый - князь поднебесья, ночной златозвездный шатер, И богатырство - стихия! И ширь - королевство!
С ветром - в простор!
[Столица 2013,1, 285]
Героиня «нема» и «недвижима», а уносит ее «князь поднебесья», собственно, в небеса - так что вполне возможна версия о том, что она уносится в рай или, по крайней мере, некий мистический локус, где обитают блаженные мертвые. Здесь действует принцип сюжетной неопределенности, ведь неизвестно, ответил ли Ветер на вызов героини: «Хоть бы в алое сердце стал ворог колоть!». Думается, что Цветаева почувствовала эту неопределенность, последовав за Столицей в финале «Царь-Девицы», где героиня сама вырывает у себя сердце, после чего уносится с Ветром -но непонятно до конца, остается ли она в каком-то смысле живой, ибо соединяется с родной ей стихией, теряя лишь «слишком человеческое» -земную страсть к Царевичу.
Почти одновременно со стихотворением «В простор» был написан «Матриархат» (19-20 сентября 1908) - об эпохе еще более древней, чем былинные времена. Стихотворение построено как обращение к женщине, чей облик текуч: сначала она представлена в духе Золотой Олоны из написанной позже «Песни...», а ближе к финалу оказывается, что лирическая героиня обращается и к женщине нынешней, современной, причем из модуса воспевания переходит к модусу поучения, дидактики. Эпоха матриархата показана как царствование «великой варварки Евы», которая является
одновременно и жрицей, и законодательницей, и воительницей. Боевые мотивы возникают в стихотворении несколько раз; сначала вводится мотив равного, уже нам известный: «А потом обручаешься с тем лишь, / Кто в бою свой род обессмертил» [Столица 2013,1, 286]. Далее Женщина оказывается облачена в метафорический доспех, которым предстает ее потомство: «Но зачав, передашь ты потомкам / Лишь свое среброзвучное имя, / Как воитель в доспехе неломком, / Защитися пред будущим ими» [Столица 2013,1, 286]. Потом Женщина представлена уже напрямую в полной боевой славе:
Ты сама, свирепясь, как волчица, Вражье полчище древком заманишь. Горе тем, кто поздно смирится: Ты коленом на груди их станешь.
Мало, мало смертей и пленений, Больше, больше рабов и сокровищ Для родных племен и селений.
Так ты вопишь, чудо чудовищ.
Возвращаешься в села победно На чужой вороной кобыле, Кровь - на шее тщеславной и бледной, Волоса - как зарево в тыле.
[Столица 2013,1, 286-287]
Но затем, когда речь незаметно переходит к женщине новой и современной эпохе («Время древнее, право, вернуть бы... / Горе тем, кто смирится позже» [Столица 2013,1, 287]), лирический субъект высказывается о женской воинственности иначе:
Приобресть понапрасну не тщися
Роду воев присущие свойства: Плоть лебяжья, а ум твой - рысий, И роды - вот твое геройство.
Но и этим ты будешь державной, Ибо вечность в тебе почила, Не мужам, но богам станешь равной Ты, жена - изначальная сила.
[Столица 2013,1, 287-288]
С одной стороны, лирическая героиня здесь как бы встает на патриар-хатные позиции - нечего женщине пытаться приобрести свойства, присущие воинам (мужчинам), ее задача - в рождении потомства. С другой же, по мнению лирической героини, женщина равна не мужчинам, а богам -как сосуд вечности. Таким образом, женщина-воительница оказывается прочно локализована в доисторических, легендарных временах, имеющих мало общего с настоящим.
Продолжает галерею воительниц ода «Афина», написанная почти тогда же, 30 сентября - 9 октября 1908 г. Здесь героиня уже даже не легенда, но - миф. В длинной оде прилежно перечисляется все, что известно об Афине из мифологии. В частности, приводятся и детали, касающиеся ее функций богини войны, причем возникают традиционно связанные с образом воительницы мотивы грозы, огня, бури, молнии, грома, видимо, возникшие как перенос метафоры «бой - гроза»:
Блестящая, разящая предстала
Пред сонм богов она, его смутив;
Как черная над ней клубилась грива!
Как жгло копье - серебряный зигзаг!
[Столица 2013,1, 290-291]
Интересно, однако, что стихотворение строится как экфрасис утраченного, более не существующего творения - статуи Афины работы Фидия, некогда установленной в Парфеноне, на вершине Акрополя:
Ликуй, ликуй, великий Фидий!
Нет статуи, но замысл жив:
Забвенью - вековой обиде -
Должно пройти не победив [Столица 2013,1, 289];
и:
Душа - торжественный Акрополь,
Богиня Мысль белеет в ней,
Пряма и девственна, как тополь,
С щитом наук, с копьем речей. [Столица 2013,1, 292]
Важно, однако, что, будучи своего рода знаком отсутствия, да к тому же - принадлежности мифологическому прошлому, Афина у Столицы оказывается принадлежащей и настоящему - постольку, поскольку принадлежит вечности:
Другие боги на кострах историй
Уж сожжены. Их пепел - в урнах грез.
Лишь Мудрость - как звезда, как риф на море:
Вокруг нее вращается хаос!
Не всё ль равно, Паллада иль София?
[Столица 2013,1, 292]
Это принципиальный момент: «Дева доблестная» Афина здесь предстает. одним из воплощений Софии Премудрости и Девы Марии как «звезды морей» (Stella Maris). Это отождествление глубоко символично и укоренено в истории культуры. Как показала О.И. Тогоева, такая параллель восходит еще к раннесредневековому соотнесению Богородицы и Афины Паллады в их функциях «защитницы города» (подкрепленному также связью между ними через важнейший для обеих мотив ткачества). Исследовательница приводит многочисленные примеры, как текстуальные, так и иконографические, сближающие Деву Марию с фигурой воительницы, например: «Близость этих двух функций [ремесла ткачества и идеи покровительства. В. S.-О.] в случае Богородицы подтверждалась и изображением так называемой Virgo militans (рубеж VIII IX вв.), на котором она была представлена в доспехах римского воина, с крестом-скипетром (отсылавшим к иконографическому типу Christus militans <.. .>), но при этом сжимавшей в левой руке два веретена. <...> интерес <...> представляет <...> образ Девы Марии в центральной части так называемого Алтаря Альбрехта <.. .> около 1439 г. Богоматерь была представлена на нем в доспехах, рядом со столпом Давидовым, “сооруженным для оружий”» [Тогоева 2016, 315-316]; «...еще одна общая составляющая - их настойчиво декларируемая девственность. <.. .> данное отличительное свойство <.. .> оказывалось также связаным с темой защиты города и страны» [Тогоева 2016, 318]. Это отождествление воительницы с Девой Марией и с Софией Премудростью присутствует и у главных гностиков русского символизма - А. Блока и А. Белого. Традиционно оно делалось и в отношении Жанны д’Арк. В литературе русского модернизма оно присутствует, например, в неопубликованной пьесе М.Е. Лёвберг «Жанна д’Арк» (1920).
Есть оно и у Столицы - в стихотворении «Иоанна д’Арк», написанном 31 января -18 февраля 1909 г. Жанна д’Арк прямо сопоставляется здесь с Афиной: «Ты ж, христианская Паллада, / Решила спор, как божество!» [Столица 2013, I, 300]; «Была мудра ты, как Сивилла, / И, как Минерва, холодна. / И той великой женской силой / Смирила брань мужей - одна» [Столица 2013,1,302].
Стихотворение строится примерно так же, как проанализированный выше «Матриархат», т.е. воспевание воительницы давно ушедшей эпохи сочетается с обращением к современности и к «женскому вопросу» в финале. Образ Жанны подается вполне традиционно - как образ святой воительницы, так что обычные атрибуты воинственной девы (доспех, вооружение) сочетаются с христианскими образами:
Одни лишь видят шлем твой ржавый, Другие - ореол волос, Те меч воздетый, меч кровавый, А эти стяг, что крест вознес.
Но пусть проклятья и восторги
Шумят о имени твоем!
С тобою был святой Георгий, Зло побеждающий копьем!
Он на девические плечи Воздвиг два пламенных крыла... [Столица 2013,1, 300]
Отметим в приведенном фрагменте несколько топосов, связанных с воительницей в литературе русского модернизма. Во-первых, рядом с Жанной появляется св. Георгий (хотя, согласно показаниям Жанны д’Арк, в видениях ей являлся архангел Михаил): этот святой воин является частым спутником воительницы в русском модернизме, ее идеальным возлюбленным, равным ей мистическим женихом - см., например, у М. Цветаевой (в цикле «Георгий», особенно в последнем его стихотворении «Странно-приимница высоких душ...», в поэме «На красном коне», где Всаднику приданы черты св. Георгия), у А. Белого, который встраивает историю св. Георгия и царевны в ряд соответствующих мифов о спасении Мировой Души избранным героем (Персей и Андромеда, Зигфрид и Брунгиль-да), т.е. в основной символистский миф, берущий начало в гностицизме. Во-вторых, это мотив крылатоспиг. воительницы, нередко представленные мчащимися на конях или по воздуху (валькирии), часто наделяются крылами - метафорическими и даже реальными, тем более учитывая их сооотнесенность с образами грозы, бури, ветра (ср. устойчивые выражения «на крыльях бури», «на крыльях ветра»), которая присутствует и здесь («зеницы грозных глаз» превратились «в молнью синюю» [Столица 2013, I, 301]). Но «крыла» Жанны - это еще и крылья ангельские или крылья серафима - ср. далее: «Воскреснув, сделалась - крылатый серафим» [Столица 2013,1, 301].
Обратим внимание и на выражение «кровавый меч», канонической истории Жанны не соответствующее, ибо из материалов обвинительного процесса 1431 г. известно, что свое знамя Жанна ценила гораздо выше меча и что лично она никого не убивала, а лишь вела за собой людей. Зато эта неканоническая деталь соответствует истории Жанны, рассказанной Ф. Шиллером в его трагедии «Орлеанская дева» (1801). Более того, о том, что шиллеровская трагедия является одним из источников «Иоанны д’Арк», красноречиво свидетельствуют и такие строки:
То был ли Вельзевул, весь в блеске красных крылий, Иль рыцарь английский в блистающих кудрях, Что содрогнулась ты средь доблестных усилий? [Столица 2013,1, 301]
Никакого английского рыцаря в канонической истории Жанны д’Арк нет, зато присутствует он у Шиллера: Жанна оказывается поколеблена на
своем пути влюбленностью во врага - английского рыцаря Лионеля, которого она побеждает в сражении, но позволяет ему бежать; в конечном итоге, она преодолевает искушение любовью.
Воспев Жанну, лирическая героиня обращается к безрадостному настоящему, где женщина низведена до «целующей всех» плясуньи и еретички, «славящей грех». Заканчивается стихотворение воззванием лирической героини к Жанне с мольбой о даянии ей великого призвания, напоминающего призвание пушкинского Пророка-.
Закуй же дух мой в панцирь гнева И вздохов жалости не числь!
Да грозной доли не нарушу, Вставь меч мне в перси! - Сердце вынь! -Внеси палладиум свой в душу!
Сим побежду я зло. Аминь.
[Столица 2013,1, 303]
В очередной раз воительница связывается с образом Паллады (а через нее - и Софии Премудрости) и с темой поэтического призвания лирической героини.
Список литературы "Племя жен мужепохожих": воительницы и андрогины в творчестве Любови Столицы. Статья первая
- Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.: Наука, 1977.
- Кузмин М.А. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1909. № 3. С. 46-48.
- Столица Л. Голос Незримого: в 2 т. М.: Водолей, 2013.
- Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой: две жизни Жанны д'Арк. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
- Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994-.
- Эконен К. Творец, субъект, женщина: стратегии женского письма в русском символизме. М.: Новое литературное обозрение, 2011.