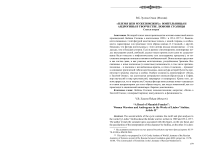"Племя жен мужепохожих": воительницы и андрогины в творчестве Любови Столицы. Статья вторая
Автор: Зусева-Озкан Вероника Борисовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Во второй статье цикла производится мотивно-сюжетный анализ произведений Любови Столицы о воительнице 1909 г. и 1914-1917 гг. Выявляются связанные с этой фигурой константные топосы, с одной стороны, и особенности, характерные для трактовки этого образа именно Л. Столицей, с другой. Показано, что фигура воительницы у этого автора весьма неоднозначна - и чем дальше, тем в большей степени. Если в ранних стихотворениях доминировал модус восхищения силой, свободой, удалью таких героинь (хотя само их существование было отнесено к мифологическому или легендарному прошлому), то постепенно авторская позиция становится амбивалентной. Воительницы предстают и как чистые девы, и как ужасные мстительницы, уподобленные Эриниям. Все связанные с ними жизненные (и сюжетные) возможности, в том числе противоположные - и поединок с возлюбленным врагом, и отказ от насилия, - приводят к одинаково трагической гибели воительницы, сама натура которой будто бы препятствует земному счастью и любви. Особую сложность демонстрирует «Песнь о Золотой Олоне», где достигается контрапункт полюсов (Брунгильда и София, мир языческий и мир христианский, матриархат и патриархат). Кроме того, демонстрируется, что в творчестве Столицы фигура воительницы может освещаться и в таком нехарактерном для этого образа модусе, как модус комический, как это происходит в сценической миниатюре «Зеркало девственниц».
Любовь столица, дева-воительница, андрогин, песнь о золотой олоне, гендерный порядок, маскулинность и фемининность
Короткий адрес: https://sciup.org/149139230
IDR: 149139230 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_179
Текст научной статьи "Племя жен мужепохожих": воительницы и андрогины в творчестве Любови Столицы. Статья вторая
В первой статье этого двухчастного цикла рассматривались произведения Любови Столицы с участием воительницы, написанные в 1908 и в начале 1909 г. Осенью 1909 г, в октябре-ноябре, Столица очень подробно разрабатывает образ воительницы в «Битвах греков с амазонками» - цикле из двух стихотворений, явно ориентированном на «Правду вечную кумиров» В.Я. Брюсова, особенно на стихотворный диалог «Орфей и Эвриди-ка» («статуарность» персонажей, фиксация на темах рока, страсти и смерти, диалогическая форма, схожий ритм 4-ст. хорея «Орфея...» и первого стихотворения «Битв...»). Оба стихотворения весьма близко следуют канве мифа и при этом разворачивают две противоположные истории с одним и тем же исходом - смертью воительницы; если в первом стихотворении героиня не сдается возлюбленному врагу, то во втором, напротив, героиня-амазонка отказывается от своих «сестер» ради любви.
Первая часть цикла, «Геракл и Ипполита», посвящена тому, как герой отнимает у амазонки пояс, подаренный Аресом. Действие разворачивается в соответствии с наиболее частотным типом сюжета о воительнице, состоящим в испытании силы. Иногда, как в данном случае, такой сюжет может быть полностью сведен к поединку, понятому как «ратоборство равных», связанных одновременно любовью и ненавистью-, вне зависимости от исхода поединка - кто бы ни победил - развязка у этого сюжета обычно трагическая и сопровождается гибелью либо одного, либо обоих персонажей. Мы видим здесь все соответствующие топосы. Герои взаимно восхищены красотой и мощью и поначалу хотят дать другому уйти живым. Но - если второй смирится и признает свое поражение: «Кто ты, дивный дерзкий воин, / Ты, кудрявоглавый лев... <...>/ Если можешь быть храбрее, / Вспять беги! Страшись оков!»; «Кто же ты, полунагая / Змей-новласая жена... <...>/ Мне ль блистать в бою неравном? / Жизнь я женщине дарю» [Столица 2013,1, 321].

Однако гордость никогда не позволяет таким персонажам отказаться от боя: «Нет, не лань я, что в ловитве / Ты бескровно победил!» [Столица 2013, I, 322] - говорит Ипполита. Она действует в соответствии со своей природой: дева-воительница не может любить того, кто не осилил ее. Тогда мгновенно вспыхнувшая страсть замещается столь же яростной враждой - или, по крайней мере, совмещается с нею: «Так в жестокой, жаркой битве / Расточу я сердца пыл!» (Геракл); «Пусть же локон этот рыжий / Мне для стрел метой горит!» (Ипполита) [Столица 2013,1, 323].
Тем не менее, Геракл желает не убить Ипполиту, но покорить ее: «Безоружною рукой / В прах царицу совлеку я / Умоляющей рабой!» [Столица 2013, I, 323]. Это тоже типичный топос сюжета о воительницах, когда один из участников поединка (обычно мужчина) несколько раз предлагает прервать бой, но воительница отказывается (см., например, поединки Танкреда и Клоринды у Т. Тассо, «Пентесилею» Г. фон Клейста и др.). Ипполита проигрывает бой - по-видимому именно потому, что страсть к врагу заставляет ее внутренне предать саму себя как «безбрачную амазонку» и «Артемидину подругу»: «О Геракл! Как ты прекрасен... / О Арей! Ты не со мной...» [Столица 2013,1, 323]. Как обычно в случае воительниц, любовь оказывается отождествлена с мукой: «С знойной пылью, с жгучей кровью / Чистый смешиваю вздох, / Гнев свой девственный - с любовью, / Бога - с тем, кто стал мой бог» [Столица 2013,1, 324].
Геракл, как и Ипполита, опален любовью:
О, немыслимое счастье!
Элизей, Олимп, земля?
Наконец, могу припасть я
К чреслам трепетным, моля...
Что все стразы, хризолиты?
Их не зрю я на тебе!
Дай мне пояс, Ипполита,
Дай, покорствуя судьбе! [Столица 2013,1, 324]
Но воительница именно что никогда не «покорствует» судьбе - и «падает», «как жертва гневу» Геракла, зато умирает «царицей» и «шествует в Аид» «девой», по-прежнему гордой и несгибаемой. Это стихотворение очень близко следует всем топосам указанного типа сюжета о воительни це.
Интересно, что здесь появляется не только воительница как главная героиня, но и коллективный субъект - амазонки вообще. Речь о них идет в начале и в конце стихотворения. В монологе Ипполиты описывается царство амазонок:
Я - царица Фемискиры, Той неиденной страны, Где гробницы сильных мира -
Голубые валуны,
Мать безбрачных амазонок,
Артемидиных подруг,
Чей смертельный лук так звонок
В мановеньи смуглых рук. [Столица 2013,1, 321]
Кроме того, амазонки названы «грозными девами» «в царстве огненном Арея / Окровавленных песков», а пояс Ипполиты дан ей Аресом для того, чтобы «презреть любовь и жалость», «жизнь со смертью обручить» [Столица 2013,1, 322]. В финале же амазонки сближены с мстительницами Эриниями:
Кровь с лица и рук стирая,
Мчится с поясом Алкид.
А за ним толпой Эринний
Войско мстительниц степных
В красном мареве пустыни
Гонит коней вороных. [Столица 2013,1, 325]
В приведенных фрагментах есть как элементы, совпадающие со сведениями из сочинений античных авторов, так и весьма своеобразные, из которых главным является девственность амазонок. Она подчеркивается многократно -ив предсмертной реплике Ипполиты, и в начале, когда говорится о «безбрачии» амазонок. Они именуются подругами девственной Артемиды, причем сохраняется даже антагонизм Артемиды и Киприды (Афродиты). Страна амазонок названа «неиденной», непознанной (как не познаны мужчинами и ее обитательницы), а пояс, из-за которого происходит убийство Ипполиты, напоминает о традиционном топосе, согласно которому сорвать пояс - значит лишить девства. Однако в древних мифах не говорится о девственности амазонок - напротив, античные авторы очень любят рассуждать о том, как амазонки пополняли свои ряды, на время сходясь с мужчинами. Зато для Любови Столицы мотив девственности воительницы очень важен - он повторяется в большинстве ее текстов, содержащих этот образ; не зря и в этом стихотворении упоминается Паллада, с которой сравнивается героиня: «Ипполита! Сила жен! / Лишь Палладою великой / Дивный взор твой отражен» [Столица 2013,1, 323].
Отметим также и отождествление амазонок с Эринниями - божествами гнева и ненависти, и постоянные упоминания об их родстве с Аресом -богом жестокой и неправой войны, и особые функции Ипполитиного пояса, о которых сказано выше. С амазонками здесь ассоциируются кровь и зной, а из цветов - красный и черный. Амазонки, таким образом, предстают, с одной стороны, гордыми девами, равными божественной Палладе (как Столица обычно изображала их до этого времени), а с другой - существами мрачными, жестокими вплоть до безумия, что является новой краской в изображении воительниц Любовью Столицей.

Второе стихотворение цикла, «Тезей и Антиопа», посвящено как раз судьбе амазонки, отказавшейся от себя и своего рода. Действие происходит в момент осады Афин войском амазонок, которые явились для того, чтобы спасти от Тезея свою царицу, некогда, по их мнению, им похищенную. Однако Антиопа сражается против амазонок плечом к плечу с Тезеем. Как известно, этот сюжет позднее разрабатывала М. Цветаева в трагедии «Федра» (1927). У Цветаевой, в творчестве которой образ воительницы - не только центральный, но и безусловно положительный, Антиопа (у Цветаевой - Ипполита) борется с амазонками не потому, что полюбила Тезея, но «за сыновнее наследство», причем борется против тех, кому принадлежит душой («Против рода - ради сына»). Слуга Ипполита, сына Антиопы, рассказывает, как «Тезеева / Жена хмурая, мать сирая / Ипполитова»
.. .с отцом твоим бок о бок
Билась! Амазонка - против
Племени, - плоть против плоти
Собственной, тьмы мужевражьей
Дщерь - сама против себя же! [Цветаева 1994- , III, 665]
Образ амазонки, «не любящей мужа и сражающейся за сына, - ценней», по мнению Цветаевой, она «до конца, вся в женском царстве. Тезей до конца - для нее враг» [Цветаева 1994-, III, 806]. Напротив, Столица решает этот сюжет внешне более традиционно - Антиопа у нее Тезея любит. Однако и здесь есть место необычным ходам. Во-первых, оказывается, что Антиопа не была Тезеем осилена и похищена, но добровольно сдалась, т.е. поступила не как амазонка:
Я содрогнулась, сгибая лук:
Блистал мне целью твой синий глаз!
Захвату милых могучих рук -
Непокоренная - я далась... [Столица 2013,1, 327]
И:
Как я хотела, чтоб страшных дев
Ты победил тогда, о Тезей!
Как рабства жаждала, опьянев
От винограда твоих кудрей! [Столица 2013,1, 327]
Во-вторых, поражает та глубокая ненависть, которую питает к своим бывшим сестрам Антиопа - она не просто не хочет вернуться к ним и не просто сражается по необходимости, но испытывает к ним отвращение и гнев:
О девы, сестры мои в былом,
А ныне варварки, - вам привет!
Но я приветствую вас копьем.
Ко мне взываете. Вот - ответ!
О древко старое чащ родных!
Тебя подругам я возвращу -
В их очи, перси и чрева их.
Так девам - мать и жена - я мщу. [Столица 2013,1, 326-328]
В основе этой трактовки лежит второй тип сюжета о воительницах, при котором героиня полагается равной по силе мужскому персонажу, но происходит сознательный отказ персонажей от испытания силы и поединок в качестве основного мотива замещается любовным преследованием. Однако здесь этот сюжет осложняется тем, что в результате своего выбора героиня вступает в бой со своим родом. Получается, что амазонка восстает на собственную природу и оказывается наказана за это - не случайно и здесь убивающие ее «сестры» в перспективе героини предстают как мстительницы Эринии: «Настигла смерть меня... Прерван путь. / Убитых девственниц всех тела - / Восстали, гонятся, топчут грудь...» [Столица 2013, I, 328]. В результате образ воительницы амбивалентен: Антиопа и трогательна в своей любви к Тезею, и страшна в ненависти к бывшим сестрам. Другие амазонки - и чистые девы, и ужасные мстительницы.
Получается, что в этом цикле обе жизненные (и сюжетные) возможности - поединок с возлюбленным врагом или отказ от насилия - приводят к одинаковому исходу судьбы воительницы, сама натура которой препятствует земному счастью и любви и содержит такое качество, как неукротимость, которая обращается и / или на возлюбленного, и / или на род.
Таким образом, в 1908-1909 гг. Любовь Столица создает целый ряд текстов с участием воительницы, причем ее образ оказывается весьма неоднозначным. И если поначалу поэтесса стоит, скорее, на позиции воспевания и восхищения (см. первую статью цикла), то ближе к концу этого периода фигура воительницы становится отчетливо амбивалентной (а ее судьба получает оттенок безысходности).
Вновь Столица обращается к образу воительницы уже с началом Первой мировой войны, что и не удивительно. В этот период ею создаются несколько стихотворений и произведения больших жанров с участием интересующей нас фигуры. Что касается лирики, то здесь надо прежде всего назвать четыре стихотворения, печатавшиеся в 1914-1915 гг. в разных периодических изданиях под заглавием «Из песен девицы-добровольца». Все они варьируют ситуацию выбора лирической героиней военного призвания в современности, хотя и содержат «вневременные» образы, которые могут быть отнесены к некой архетипической, мифологизированной Руси; тем самым мифологизируется и настоящее.
В стихотворении «Я - девичью ногу в стремя...» переживается момент выезда на бой - в модусе радостного предвкушения: «Здравствуй, бой!» 184
[Столица 2013,1, 358]. Здесь содержится целый ряд топосов, традиционно связанных с образом воительницы. Это и ее «мужепохожесть», маскулинизированный внешний облик: «Коротки / По-мужски, / Кудри круты, злато-рыжи, / Грозен облик...» [Столица 2013,1, 358]. Одновременно, как это характерно для Столицы, подчеркнуто и девичество героини: «В сердце нежном нет опаски...», «Я девичью ногу - в стремя...» [Столица 2013, I, 358]. Далее, героиня, как и положено воительнице, представлена на коне, в бешеной скачке, уподобляющей ее птице («Пика тонкая, как птица...») -ср. с мотивом крылатости воительницы. Наконец, с воительницей часто ассоциируются мотивы бури, грозы, огня, молнии - то же и здесь: «Карий конь, / Как огонь...», «А сама я, как зарница...», «Средь полков, / Ездоков, -/ Средь огромной, темной тучи... / Очи сини и блистучи» [Столица 2013, I, 358].
Стихотворение «Стаи дикие лебяжие...» примечательно тем, что речь в нем ведется от лица мертвой героини, убитой в бою, но радующейся победе своих: «И звучат уж, их преследуя, - / Чую! наши стремена... / И алеются победою, - / Знаю! наши знамена...» [Столица 2013,1, 359]. Если в начале стихотворения еще не вполне ясно, мертва ли героиня или находится между жизнью и смертью:
Только я между убитыми,
В сердце - смерть, не страх! не страх!
И кидается копытами
На меня могильный прах [Столица 2013,1, 359], - то в финале эта черта отчетливо перейдена: «Умерла... Лечу... Лежу...» [Столица 2013,1, 359]. Повествование от лица мертвеца активно разрабатывалось в поэзии Серебряного века, но в 1915 г. этот прием еще оставался весьма эффектным.
Крайне интересно, что в стихотворении появляется святой воин Георгий, который представлен как мистический жених героини, соединяющийся с ней в ином мире:
Красоту былую девичью Смерть на лик мой навела И Егорью-Королевичу В жены, храбрую, дала.
Кудри солнечные глажу я,
В синезарный взор гляжу!.. [Столица 2013,1, 359]
Здесь, очевидно, действует древнейший мотив любви равных, столь типичный для сюжетов с участием девы-воительницы. Св. Георгий Победоносец является в «простонародном» облике Егория Храброго, «волчьего пастыря», что соответствует «русскому стилю» Столицы. Примечателен и мотив зари, в данном случае вечерней («уходят на закат», «алеются <...> знамена»), связывающийся в поэтике русского символизма с мистическим откровением.
Стихотворение «Я - доброволец радостный...» разрабатывает общеевропейский сюжет о «девушке-воине», «девушке, переодетой молодцом» [Веселовский 1890, 26], вследствие исторических обстоятельств особенно типичный, как указывал В.М. Жирмунский, для «южнославянской поэзии среднего и нового времени» [Жирмунский 1962, 115]. Эстетический эффект создается за счет того, что, казалось бы, ложные подсказки оказываются совсем не ложными: на протяжении всего стихотворения подчеркиваются «девичьи» черты внешности и поведения лихого добровольца, которого однополчане «девицей зовут», не зная, что он на самом деле девица, а в финале происходит раскрытие лирическим субъектом своей истинной идентичности:
Ах! что б они проведали,
Когда б в час сна, обеда ли,
Прокрались до ручья,
Где тайно моюсь я...
Где в зелени березовой
Яснеет стан мой розовый,
Свой пол уж не тая...
Где впрямь девица - я! [Столица 2013,1, 360]
Интересно, что А.Н. Веселовский, описавший образ «девушки-воина» на материале народных песен, былин и сказок, говорил и о мотиве перемены пола (женское переодевание в мужское платье - его более слабая форма, часто сопутствующая основной), который он подробнее исследовал в другой работе [Веселовский 1881]. В стихотворении Столицы, где поведение молоденького добровольца выглядит убедительно мужским, как бы нащупывается -ив финале отбрасывается - возможность превращения гендерной метаморфозы в половую.
Мотив узнавания девы, переодетой воином, в лесу, у водоема, в момент омовения, типичен и для южнославянских песен, о которых писали Веселовский и Жирмунский, и для сюжетов с участием воительницы вообще - например, именно в такой ситуации Танкред влюбляется в Клоринду в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим». Одновременно, как это характерно для «русских» стихотворений Столицы о воительнице (ср., например, «В простор»), подчеркивается боевая лихость героини, ее опьяненность волей и собственной удалью, игра своей силой:
Сраженье - пир мне сладостный.
Им очи уж пьяны,
Им кудри уж буйны. [Столица 2013,1, 359]
Стихотворение «Ох, ты, жизнь девичья, сонная!..» разрабатывает про- тивопоставление незавидной, скучной, замкнутой в кругу домашних забот «женской» доли и свободного «мужского» мира, в который тянет лирическую героиню, наделенную той же лихой, разбойной натурой, что и героиня предшествующего стихотворения:
Веретёна, чугуны, Сарафаны, шушуны...
Лишь шитье одно да печиво -
Больше мне и делать нечего,
Грудь же белая крепка,
Кровь же алая жарка! [Столица 2013,1, 360]
Героиня предстает спящей царевной, пробуждающейся для борьбы за Русь (мы усматриваем здесь отзвуки символистского «софийного» мифа), причем это пробуждение связывается с апроприацией маскулинной гендерной роли:
Я обрежу косы русые,
Скину прошвы, сброшу бусы я -
По-солдатски уберусь, Поборюсь сама за Русь!
Гой ты, мощь девичья, донная,
Красота непобежденная,
Алый лик да белый клык,
Да лебяжий дикий клик! [Столица 2013,1, 361]
Примечательно это уподобление лебедям, константное для Столицы (а в данном случае еще и волку - типичное для воина отождествление) и сближающее героиню с валькириями - «лебедиными девами»: «В эд-дическом цикле о Сигурде Брюнхильд упоминает лебединое одеяние в связи с тем моментом своей биографии, который позволяет отождествить ее с валькирией Сигрдривой...» [Гвоздецкая 2011, 71]; «Лебединый облик валькирий принято приписывать и первоначальной связи с богом неба Тюром, который некогда возглавлял мифический пантеон, но впоследствии был вытеснен <...> Одином», причем им «наделяются именно те валькирии, которые из мира Вальгаллы перешли в мир людей, обрели земные черты» [Гвоздецкая 2011, 72, 75]. При этом валькирии как таковые в творчестве Столицы, насколько нам известно, не появляются - хотя именно они, в частности Брунгильда, были наиболее частотным вариантом фигуры воительницы в литературе русского модернизма.
Зато образ амазонки возникает в поэзии Столицы еще раз - в экфра-стическом сонете «Амазонка», вошедшем в книгу стихов «Лазоревый остров». Не датированное, оно вряд ли было написано ранее 1914 г. (са- мые ранние отдельные публикации стихов, составивших книгу, относятся к этому году); верхняя граница - 1922 г. Стихотворение написано в классической форме экфрасиса статуи (хотя речь ведется от первого лица, что для этого жанра необычно) - в данном случае статуи раненой амазонки работы Поликлета - и строится на уподоблении стрелы реальной Эрото-вой стреле. Лирическая героиня погибает, влюбленная в убившего ее врага (ср. с «Гераклом и Ипполитой»):
Смертельною, увы! я ранена стрелой...
Я, что искуснее и опытней стратега,
Я - первая в стрельбе, в искусстве скачки, бега, И кем же. Отроком с улыбкой золотой.
О, сестры вольные. О, амазонки. Выньте
Стрелу Эротову, что в сердце мне впилась... [Столица 2013,1, 224-225]
Умирая, героиня, подобно девице-добровольцу из стихотворения «Стаи дикие лебяжие...», мечтает о загробной встрече с женихом, которым здесь является не св. Георгий, но персонаж тоже отчасти мистический. Хотя возлюбленный враг героини, казалось бы, всецело принадлежит этому миру, он описан так, что внимательный читатель Любови Столицы сразу же узнает в нем излюбленный поэтессой тип андрогинного юноши, который у нее неизменно сравнивается с сакральными фигурами Диониса и архангела Гавриила. Сама смерть амазонки изображена здесь наподобие экстаза средневековой святой, раненной копьем или стрелой мистического жениха: «...тело мне томит блаженнейшая нега, / И очи застланы лазурнейшею мглой...» [Столица 2013, I, 225]; душа героини «радостно» «возносится в Элизий».
В годы Первой мировой войны Столица пишет и «Песнь о Золотой Олоне» (1914, публ. 1917), где соединяет миф об амазонках с легендарными представлениями о дивах и с мифологизированной праславянской стариной, создавая крайне своеобразный мир:
...Жили сказочные дивы -
Племя жен мужепохожих,
Что супругов знали многих,
Племя жен могучих, строгих,
Рыжекосых, златокожих.
Управляла же тем царством, Тем огромным королевством -Материнством, женством, девством -С добротою, не с коварством Дочь богини лунной Плены Благосклонная Олона,
Чье священным мнилось лоно... [Столица 2013, II, 23]
Дивье царство как царство специфически девичье, во главе которого стоит воительница (царь-девица), упоминается в сказке из собрания А.Н. Афанасьева № 175 (в дореволюционных изданиях - №104в) типа 551 («Молодильные яблоки») по сравнительному указателю сказочных сюжетов. Более сложные представления о дивах Столица могла почерпнуть из сочинения Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», где, развивая свои взгляды на состав славянского языческого пантеона, ученый отождествляет верховного бога со Сварогом или Дивом, истолковываемыми как божество неба, великий старый прабог, отец прочих богов. В качестве женской ипостаси верховного божества Афанасьев называет парную ему Диву (Дивию), богиню весны, якобы отождествленную позднее с землей. В современных научных представлениях образ дива связывают с демоном из иранского фольклора, который получил в древнерусских памятниках «дополнительный оттенок за счет наслоения славянской семантики» [Белова 1999, 91] и отождествления «дивъ / диво» (те. чудо): «Слово первоначально было связано, с одной стороны, с русским “диво” и родственными славянскими обозначениями чуда, с другой стороны - со славянскими и балтийскими словами в значении “дикий”, происходящими из “божий” <...>» [Иванов, Топоров 1991, 376-377].
Дивы у Столицы также имеют отношение к божественному: их царица - дочь богини Луны. Интересно, что если античные амазонки считались происходящими от бога войны Ареса, то Столица делает своих «мужепохожих» див потомками богини Луны, которая не только традиционно считалась покровительницей девственниц (а дивы, в отличие от ряда других воительниц Столицы, не являются вечными девственницами), но в гностических и символистских представлениях связывалась с образом Софии Премудрости в ее сне, плену; ср. у Андрея Белого, рассуждающего о двоякой интерпретации Вечной Женственности: «Воплощая Христа, она - София, Лучистая Дева; не воплощая Христа - Лунная Дева...» [Блок, Белый 2001, 24]. Это не удивительно, поскольку в античности ощущалась связь Луны с дочерью богини плодородия Деметры, царицей Аида Персе-фоной (отсюда мотивы царства мертвых, сна и плена - Персефона была похищена). Д.М. Магомедова обращает также внимание на созвучие имен Селена (греческая богиня луны) и Елена [Магомедова 1997, 23] - это имя земной женщины, спутницы Симона Мага (Волхва), в тело которой была заключена София Премудрость, согласно представлениям одной из гностических сект (сведения об этом являлись вполне доступными - в главе «Елена Прекрасная» книги Ф. Зелинского «Соперники христианства» [Зелинский 1995], которая впервые была опубликована в 1905 г. как отдельная статья). Кстати, и Олона (Олёна, Алёна) недалеко ушла от Елены, как Плена - от Селены.
Одновременно дивы у Столицы связаны не только с божественным, но и с «диким»; так, среди их обычаев описан похожий на спартанский:
когда у Олоны от ее третьего мужа родился «уродец», его «тотчас убили, / Закопали в чернобыли, / Как всегда у них ведется» [Столица 2013, II, 26]. Царство див далеко не утопично даже в начале повествования (так, Олона грустна, поскольку ее дети умерли, были похищены нечистой силой), а тем более тогда, когда в него окончательно проникает зло и три отставленных мужа Олоны из ревности затевают заговор против нее и ее возлюбленного. При этом и царство, и царица описаны как прекрасные и величавые, а присущие им ало-малиновые, лазоревые, золотистые тона, несомненно, маркируют их как чудесные:
Год царит она десятый
Средь малиновой палаты, Где лазоревые своды.
Девять лет она пред всеми
Шла в поход и из похода,
Чтяся матерью народа,
Проносяся в ясном шлеме. [Столица 2013, II, 24]
И:
Ниже - озеро Лейяла
Золотым венком свивалось,
Алой лентою вязалось, -
Их красою утешало.
Дальше горы Загадули
В пышных купах багрянели,
В желтых клубах пламенели, -
И Олону ввысь тянули. [Столица 2013, II, 53]
Если героиня-воительница принадлежит прекрасному и мощному, но языческому и потому таящему в себе семя зла миру «женского начала», то ее возлюбленный Медун, которого она встречает в лесу, из христианского племени «русинов», где «мужи лишь властны» [Столица 2013, II, 30]. Медун относится к числу излюбленных Столицей андрогинных персонажей, однако первая встреча героев описана так, как - до определенного момента - нередко описывается встреча воительницы и избранного героя. Она происходит в лесной чаще, и герой предстает в облике воина, а именно Стрельца, что немаловажно: мы уже отмечали метафору раны реальной и раны любовной, от стрелы Эрота, в творчестве Столицы (ср. также: «отрок с улыбкой золотой» в «Амазонке» и «Подошел стрелец прекрасный, / Был он юный, златолицый...» в «Песни...» [Столица 2013, II, 29]). Но пускает он стрелу не в Олону, а в рысь, которая собиралась напасть на нее: «И увидела Олона / Смерть лихую недалече, / Но готовилась ко встрече, / Нож сжимая испещренный...» [Столица 2013, II, 29]. Таким образом, Медун спасает Олону, и первая встреча героев совершается согласно тому типу сюжета с участием воительницы, где герои отказываются от ис- пытания силы, и место поединка, насилия занимает эротический поиск, любовное преследование. При этом Медун предстает еще и как проекция бога солнца Зоривы: ему присущ «облик ярый, алый, / Облик божича Зоривы!» [Столица 2013, II, 28]. И сам Зорива - стрелец и своего рода прас-лавянский Эрот: «За любовной скачет данью / Бог Зорива со стрелою» [Столица 2013,11,39].
Сюжет спасения начинается с ситуации первой встречи героев и в финале получает мистическое, даже эсхатологическое завершение, когда Медун спасает Олону духовно - посредством добровольной жертвы и обращения героини в христианство. Дело в том, что завидующие совершенной любви героев бывшие мужья Олоны путем ворожбы насылают несчастья на дивово царство, и народ, убежденный ими и их сообщницами, требует принести в жертву Медуна, чтобы восстановить нарушенное равновесие - тем более, что Олона объявляет Медуна, которого любит и как возлюбленная, и как мать, своим наследником, пренебрегая законами матриархата («Я беру его за сына, / Стол дарю ему наследный!» [Столица 2013, II, 34]). Олоне бросают обвинения: «Ты слюбилася с русином, / Как во тьме живешь волшебной. / Племя ж то для нас враждебно / И грозит уже вблизи нам!»; «Ты в любви ума лишилась / И даришь свой стол мужчине. / Уж мужья смелеют ныне, / Наша воля сокрушилась!» [Столица 2013,11, 50].
Медун, уподобленный агнцу, добровольно соглашается быть принесенным в жертву, но обещает Олоне встречу за гробом; «Не печалься: будем вместе. / Как жених, явлюсь к невесте...» [Столица 2013, II, 52]. Он христианин, и вслед за ним христианство принимает Олона. В финале дивы получают видение: «А теперь живет Олона / Со своим Meдуном милым / Там, где быть нам не по силам - / За зарей орозовленной!» [Столица 2013, II, 60]. Таким образом, Медун спасает Олону, изводя из тленности в мир вечный, из земного плена - в зори, как и положено избранному герою спасти пленную Душу Мира. По нашему мнению, здесь явно реализуется основной символистский миф, имеющий гностическую основу.
Здесь и эсхатологические отзвуки, для него характерные (некогда прекрасное царство див становится «местом пустым»: «Там, где ныне лишь обрывы / Да курган один безвестный, / Прежде жил народ чудесный...» [Столица 2013, II, 23]), и мотив зорь, столь распространенный в русском символизме (например, у А. Блока и А. Белого), и мотив священной весны, маркирующий момент первой встречи героев и тоже восходящий к символистско-гностическому мифу, в частности к стихотворению Вл. Соловьева «У царицы моей есть высокий дворец...» (1875-1876), в свою очередь наследующему стихотворению А.А. Фета «Я ждал. Невестою-царицей...» (1861), где героиня ассоциируется с весной: «...в стихотворении Соловьева мотив “весны”, победившей “мрачную зиму”, почти утрачивает свое прямое значение и становится символом религиозного преображения мира. <...> В соловьевской лирике символика времен года связывается с мисте-риальным сюжетом вечной борьбы хаоса и гармонии» [Магомедова 2001,
Интересно, что, хотя спасающим является здесь герой, а не героиня, ей принадлежит основная сюжетная инициатива, а также своего рода главенство над героем, которое подчеркивается и разницей в летах, заставляющей Олону испытывать к Медуну отчасти материнское чувство. Кроме того, именно Медун уходит с Олоной в страну див, а не она с ним - к племени русинов. Окончательно сдается любовному чувству Олона, прежде уговаривавшая себя, что годится Медуну лишь в матери, на празднике «жен владенья», во время которого дивы захватывают нравящихся им юношей: «Вдруг по смольной, вольной дали / Понеслося ржанье с гиком, - / И к нему в веселье диком / Жены конные помчали», «А на лицах всех - личины, / Чтоб не ведали мужчины, / Кто они - лихие девки!» [Столица 2013, II, 41]. Влюбленный в Олону Медун «отталкивал те руки, - / И взялись они за луки, / Ухватилися за копья» [Столица 2013, II, 42]. Медун готов вступить в борьбу, но сдается, узнав Олону: «Бился юныш разгневленный / В тех кудрях, как в лисьих лапах, / Но узнал знакомый запах, / Тонкий, томный дух Олоны!» [Столица 2013, II, 42]. Таким образом, квазипоединок между героями все же происходит, и именно юноша становится «добычей» женщины-воительницы.
Вообще, созданный Столицей мир довольно-таки противоречив. С одной стороны, дивы, несомненно, многое заимствуют у амазонок; здесь и захват в плен юношей, и свободное с их стороны половое поведение (они легко отставляют своих мужей и берут новых), и постоянное совершенствование в бою:
Посещают непременно
Меднотынный двор военный, Где ученье боевое.
Там, на стрельбище широком,
Черепа торчат, как тиры,
И зияют глаз их дыры
В небе розовом высоком.
В них-то камни, копья, стрелы
Дивки юные бросают, -
Груди девии сияют, Наги, потны, загорелы. Впереди, гневна, как кречет, Русокудрая, литая, Воевода Волотая, Их уча, свой дротик мечет. Иногда и Золотая
Вдруг спускала лук с уменьем, -
И глядела с восхищеньем
Рать девичья молодая. [Столица 2013, II, 35]
С другой стороны, помимо праздника «жен владенья», есть еще и праздник «жен поятья», когда, напротив, юноши с боем добывают себе жен (нечто вроде похищения сабинянок): «А когда на берег вышли, / Взяли юноши их с бою, / Повлекли, обняв, с собою...» [Столица 2013, II, 33].
Столь же неоднозначны и взаимоотношения Олоны со своим царством: принимая христианство, она отказывается от обычаев див, от ма триархата, и при этом в духе максимально патриархатного - и, разумеется, языческого - обычая хочет быть сожжена вместе с телом принесенного в жертву Медуна. Здесь Столица обращается к полулегендарной славянской старине (вспомним знаменитое описание Ибн-Фадланом похорон руса), но всякому культурному читателю эта сцена еще больше напоминает скандинавскую мифологию и образ валькирии Брюнхильд, взошедшей на костер вместе с телом Сигурда. Более того, дивы, как и валькирии, являются «лебяжьими девами»; та же Олона, например, захватив Медуна в праздник «жен владенья», «издала три долгих клика / Заунывней лебединов!» [Столица 2013, II, 42].
Однако, в отличие от Брюнхильд и вопреки своему первоначальному намерению, Олона не сгорает заживо, а умирает прямо у костра, получив видение:
...И кострище запылало...
К птице жгучей, яркокрылой,
Уж приблизилась Олона,
Но вскричала просветленно:
«Ты пришел за мной, о милый!
Радость! - Мы не иноверцы.
Мы вовеки вместе будем!..»
Провела рукой по грудям,
Ухватилася за сердце,
Гибко на землю склонилась
И с улыбкою скончалась. [Столица 2013, II, 58]
На костре сжигают лишь два мертвых тела, тогда как дух Медуна и Олоны возносится в мир вечный. Таким образом, в «Песни о Золотой Олоне» достигается своего рода контрапункт Брунгильды и Софии, мира языческого и мира христианского, матриархата и патриархата. Подчеркивается это своеобразное примирение и поведением Олоны, которое она демонстрирует, когда народ требует от нее принести в жертву Медуна. В отличие от амазонки Антиопы из второго стихотворения цикла «Битвы греков с амазонками», она отнюдь не испытывает ненависти к своим сестрам, хотя имеет к тому куда больше оснований, и не предает свое царство:
Увидала под ногами Город милый свой, любимый, Уж теперь не боронимый
Ни царицей, ни богами.
Тихо молвила: «О, дети!
Рвите сердце мне на части!
Чтоб укрыть вас от несчастий,
Дам я лучшее на свете...» [Столица 2013, II, 51]
Готовясь вступить в костер, она
Громко крикнула: «О други!
Я служила вам довольно.
Дайте ж мне вздохнуть уж вольно...
Отдохну я при супруге.
Ты прости, народ мой женский,
Дорогой народ дивейский!
Береги свой строй житейский!
Покори весь мир вселенский!» [Столица 2013, II, 58]
Таким образом, принявшая христианство героиня желает языческим дивам процветать. Отметим и то, что дивейские боги изображены как существующие, из внешней перспективы повествователя (ср., например: «Бог Зорива скрылся в тучи, / Бог Ратгаст готовил громы» [Столица 2013, II, 51]), так что финал, с одной стороны, говорит о примирении, а с другой - уже тем самым, что Медун и Олона вечно живут «за зарей орозовлен-ной», а от царства див остался лишь поросший травой курган (тот самый, кстати, под которым лежат бренные останки героев), - свидетельствует о победе христианского начала.
«Песнь о Золотой Олоне» - не только самое большое, но и самое патетическое из всех сочинений Любови Столицы о воительнице, при том что трактовка этой фигуры здесь весьма неоднозначна (как это вообще свойственно Столице). Самую же комическую - и при этом намеренно упрощенную - интерпретацию образа воительницы в ее творчестве находим в миниатюре для театра «Летучая Мышь» «Зеркало девственниц» (1917).
Юный калиф, по завету умирающего отца, хочет жениться на достойнейшей. В этом ему помогает джинн, убежденный, что сыскать девственницу почти невозможно (патриархатно-мизогинный топос, встречающийся, например, у М.А. Кузмина - см. «Подвиги Великого Александра», где в эпизоде об испытании Александром воды и «два часа не продержалась крепость единственной чистой девушки» [Кузмин 1989, 197], которая, оставшись на минуту без надзора, отдалась первому попавшемуся солдату). После того, как он приводит к калифу «прекрасную персиянку» и «прекрасную венецианку», которые, как показывает волшебное зеркало, уже не девственны, он, наконец, может похвастаться удачей: «прекрасная нубийка» сумела сберечь свою «чистоту». Нубийка Губуб, «дочь предводителя племен монбутту» [Столица 2013, II, 513], представлена как воительница (вновь отметим связь девственности и воинственности, харак-
терную для произведений Столицы). Замахиваясь на калифа ножом, она провозглашает, что ее «не взять ни волей, ни насильно»:
Ой-ла-хэ! Губуб совсем не лгунья.
Да, она из дев, каких немного:
Милого не ждет и в полнолунье, А насильника накажет строго.
Ой-ла-хэ! Похвалят все нубийцы,
Видя скальп вблизи ее порога:
Хороша Губуб - мужей убийца.
Да, то девушка, каких немного! [Столица 2013, II, 514]
И действительно, зеркало впервые показывает, что девушка говорит правду: «...озираясь и крадучись, воин подползает к девушке и готов уже овладеть ею. Но Губуб мгновенно раскрывает глаза и одним прыжком ускользает от него. Начинается борьба, сопровождаемая угрожающими жестами и неистовым вращением глаз. Наконец девушка хищным движением хватает своего противника за горло и вонзает в него нож. Когда же тот мертвым простирается у ее ног, она носится вокруг в дикой воинственной пляске, окончив ее, с торжествующим видом ставит ногу на грудь побежденного...» [Столица 2013, II, 514].
Здесь, разумеется, присутствуют стилизация и комические преувеличения (ср. «неистовое вращение глаз»), но при этом различимы вполне серьезные топосы, часто связываемые с образом воительницы. Героиня -чернокожая африканка; в ней постоянно подчеркиваются своего рода дикость, свирепость и близость к природе. Все это - чрезвычайно характерные моменты. Воительница часто бывает репрезентирована как представительница «чужого», «иного» мира, стихийного и нецивилизованного, каким-то образом более низкого, нежели мужской и цивилизованный мир. Достаточно вспомнить, например, великанш и богатырок русского и скандинавского эпоса, связанных с миром хтонических чудовищ, и даже такую «модную тему чисто литературного характера» [Жирмунский 1962, 115], как воительницы-сарацинки в рыцарских романах и поэмах.
Калиф, ищущий конвенциональной женственности, оказывается в ужасе от перспективы женитьбы на нубийке, причем его равно отвращают и воинственность, и внешность героини: «Не в силах и смотреть я... <.. .> Ух! Даже страх всего меня потряс» [Столица 2013, II, 512]. Но это не священный страх избранного героя перед красотой и силой воительницы, каким, например, проникся вагнеровский Зигфрид перед Брунгильдой («Но то не муж! - / Пламенем чары / Льются мне в грудь, / Пламенный страх / Очи сжигает, - / Почти лишаюсь я чувств»; «Твой сын был ведь смел; - / Но встретил деву он здесь / И страх он пред спящей узнал» [Вагнер 1905, 39, 40]), или герой стихотворения Блока «Мой остров чудесный...» («Можешь, Дева, прочесть / Про душу мою. // Можешь Ты увидать, / Что Тебя лишь страшусь...» [Блок 1999, 177]), или Атилла перед Ильдегондой в трагедии Е. Замятина («Не знал я слова такого: страх, / но так хороша ты, что даже страшно» [Замятин 2004, 369]). В данном случае это комический страх слабого героя перед сильной женщиной, которая к тому же не кажется ему красивой: «Я близ нее бесстрастнее, чем евнух!» [Столица 2013, II, 515]. В конце концов, калиф принимает практически Соломоново решение:
Вот что решил я в помыслах моих!
Во-первых: предназначено судьбою,
Как видно, в брак пока мне не вступать.
А во-вторых: нет ничего труднее,
Как Девственность Прекрасную сыскать!
А в-третьих: надо юностью своею
Всемерно пользоваться... [Столица 2013, II, 515-516]
Он приказывает джинну, который в восторге от «чистой Губуб», взять ее в жены, оставляет себе «подругою ночей» «в любви искуснейшую Ла-уретту», а персиянку велит... бросить в море: «что лишь шалость для венецианки, / В веселье легком проводящей дни, / То - грех для правоверной персиянки!» [Столица 2013, II, 516]. Лауретта же, обнимая калифа, подытоживает: «Красавиц, правда, сладостно любить... / А девственниц? Одно предубежденье!» [Столица 2013, II, 516]. Таким образом, в этой прелестной миниатюре, где воительница, как часто бывает у Столицы, является еще и убежденной девственницей, ценность и добродетель женской «чистоты» и силы ставятся под сомнение. Дева-воин предстает в образе комической дикарки, однако и мужской полюс оказывается представлен комическим образом изнеженного сластолюбца, и полюса эти, разумеется, никак не могут сойтись. (При том, что эти персонажи, будто в кривом зеркале, отражают основную любовную пару в творчестве Столицы - мужественной женщины и женственного юноши.)
Итак, подытоживая, скажем, что образ воительницы у Л. Столицы появляется настолько часто, что в интересующий нас период она может в этом соперничать лишь с М. Цветаевой, на ряд произведений которой оказала, по-видимому, серьезное влияние, как мы постарались показать в первой статье цикла. Но если у Цветаевой воительница - фигура, неизменно достойная восхищения, то у Столицы она гораздо менее однозначна. С этим связано и то, что у Столицы она может стать персонажем комическим, тогда как для Цветаевой это немыслимо. Хотя, как и у Цветаевой, героиня-воительница нередко появляется в связи с темой творчества и женского поэтического голоса, т.е. в автометарефлексивном контексте, еще чаще она бывает связана с т.н. «женским вопросом» (не случайно два «всплеска» интереса Столицы к фигуре воительницы относятся к 1908-1909 гг., т.е. к времени наиболее активного обсуждения в российском обществе «женского вопроса», и к 1914-1917 гг, т.е. к годам Первой мировой войны), чего Цветаева, в общем, избегает, и темой матриархата, в частности. Как обычно бывает, воительница у Столицы - существо андрогинное, но в пару ей придан и андрогинный герой, тогда как Цветаеву больше интересует тема борьбы «сильного» с «сильной» и, соответственно, воительница оказывается, как правило, в паре с вполне маскулинным героем (разумеется, за исключением «Царь-Девицы»), Наконец, у Столицы, в отличие от Цветаевой, воительница нередко участвует в сюжете символистско-гностического мифа, представая одной из ипостасей Софии Премудрости, что выдает существенно большую заинтересованность Столицы в мистико-эсхатологическом дискурсе эпохи.
Список литературы "Племя жен мужепохожих": воительницы и андрогины в творчестве Любови Столицы. Статья вторая
- Белова О.В. Див // Славянские древности: этнолингвистический словарь / под общ. ред. Н.И. Толстого. Т. 2. М.: Международные отношения, 1999. С. 91-92.
- Блок А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 4. М.: Наука, 1999. 639 с.
- Блок А., Белый А. Переписка. 1903-1919. М.: Прогресс-Плеяда, 2001. 610 с.
- Вагнер Р. Зигфрид / пер. И. Тюменева. Изд. 3-е. М.: Электропечатня нот П. Юргенсона, 1905. 44 с.
- Веселовский А.Н. Croissans-Crescens и средневековые легенды о половой метаморфозе. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1881. 33 с.
- Веселовский А.Н. Мелкие заметки о былинах // Журнал Министерства народного просвещения. 1890. Ч. CCLXVIII. C. 1-67.
- Гвоздецкая Н.Ю. Девы-лебеди и валькирии в древнеисландской мифоэпи-ческой традиции // Атлантика: записки по исторической поэтике. Вып. IX. М.: Изд-во Московского университета, 2011. С. 71-88.
- Жирмунский В.М. Народный героический эпос. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. 435 с.
- Замятин Е.И. Атилла // Замятин Е.И. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. М.: Русская книга, 2004. С. 358-419.
- Зелинский Ф.Ф. Соперники христианства // Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей: в 2 т. [Репринт с изд. 1907, 1922 гг.] М.: Ладомир, 1995. Т. 2. С. 153-185.
- Иванов В.В., Топоров В.Н. Див // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1991. С. 376-377.
- Кузмин М.А. Стихи и проза. М.: Современник, 1989. 432 с.
- Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М.: Мартин, 1997. 224 с.
- Магомедова Д.М. Владимир Соловьев // Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов). М.: Наследие, 2001. Т. 1. С. 732-778.
- Столица Л. Голос Незримого: в 2 т. М.: Водолей, 2013.
- Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994- .