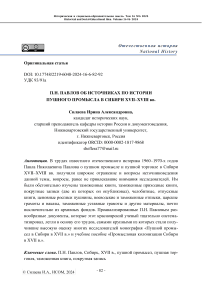П.Н. Павлов об источниках по истории пушного промысла в Сибири XVII-XVIII вв
Автор: Силаева И.А.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 6 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
В трудах известного отечественного историка 1960-1970-х годов Павла Николаевича Павлова о пушном промысле и пушной торговле в Сибири XVII-XVIII вв. получили широкое отражение и вопросы источниковедения данной темы, вопросы, ранее не привлекавшие внимания исследователей. Им были обстоятельно изучены таможенные книги, таможенные приходные книги, покрутные записи (две из которых он опубликовал), челобитные, отпускные книги, ценовные росписи пушнины, воеводские и таможенные отписки, царские грамоты и наказы, таможенные уставные грамоты и другие материалы, почти исключительно из архивных фондов. Проанализированные П.Н. Павловым разнообразные документы, которые этот красноярский ученый тщательно систематизировал, легли в основу его трудов, самыми крупными из которых стали получившие высокую оценку многих исследователей монография «Пушной промысел в Сибири в XVII в.» и учебное пособие «Промысловая колонизация Сибири в XVII в.».
П.н. павлов, сибирь, xvii в, пушной промысел, пушная торговля, таможенная книга, покрутная запись
Короткий адрес: https://sciup.org/149147155
IDR: 149147155 | УДК: 93/91а | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-6-82-92
Текст научной статьи П.Н. Павлов об источниках по истории пушного промысла в Сибири XVII-XVIII вв
Павел Николаевич Павлов входит в число видных отечественных истори-ков-сибиреведов 1960–1970-х годов.
Две его книги о пушном промысле в Сибири XVII в. основаны на широком круге документов, многие из которых ученый тщательно проанализировал, а два – опубликовал.
Как неоднократно отмечал красноярский исследователь, в Сибири конца XVI – начала XVIII вв. пушнина (ее называли скора, «мягкая рухлядь») постоянно играла важную роль. Пушниной, которая считалась валютным товаром, платили дань, выдавали жалованье, одаривали иностранных государей; в обмен на нее получали из-за границы разные товары, в том числе серебро для чеканки отечественной монеты (собственное сырье было открыто в России только при Петре I). Существенное значение сибирская пушнина имела и для доходной части государственного бюджета [4, с. 126–129, 136, 141, 238–240].
П.Н. Павлов обстоятельно описал покруту как издревле и до начала ХХ в. применявшийся в нашей стране инструмент взаимоотношений. По данным П.Н. Павлова, в частности, в 1642 г. из Якутска был привлечен к соболиному промыслу 581 покрученник из 1648.
В трудах П.Н. Павлова различаются несколько вариантов покруты. Так, согласно сведениям историка, в XII в. покрута представляла собой имущество, полагающееся по указу. В XIV–XV вв. она имела значение ссуды, которую помещик оказывал крестьянину как помощь, причем в Псковском крае покрута могла выражаться в виде хлеба и денег, в орудиях труда или оружии.
П.Н. Павлов показал, что предоставление покрученнику средств приводило к его закреплению за промысловиком, под руководством которого покручен-ник отныне находился. Расчет предоставления части добычи на пушном промысле мог быть и сложнее, однако сохранялось условие получения доли промыслового улова покрученниками. П.Н. Павлову были известны случаи предоставления оружия, одежды и других предметов для охоты на постоянной основе, что закрепляло промысловика в зависимости надолго. Такие отношения, как констатировал П.Н. Павлов, оформлялись покрутными записями.
Они стали для известного красноярского историка важными источниками для изучения социальных отношений и развития промыслов в Сибири в XVII в. По замечанию П.Н. Павлова, названные документы охватывали и более ранний период, но до сих пор не нашли отражения в трудах историков, за исключением С.В. Бахрушина, изучавшего якутские слюдяной и пушной промыслы [1, с. 55].
П.Н. Павлов опубликовал покрутные записи 1641 и 1703 гг. (относящееся к соболиному и слюдяному промыслам) с сообщениями о том, что покрученники обязались принимать участие в постройке судов [4, с. 204].
Он привел сведения из покрутной записи, составленной в Усть-Киренском острожке якутским откупщиком Ф.И. Лялиным 20 марта 1703 г., о закабалении людей на слюдяной промысел вдоль рек Лена и Олекма и того же откупщика, а также людей устюжских промышленников В. Иванова и В.Г. Толстоухова на срок до 9 мая 1704 г.
Сохранилась покрутная запись от 11 декабря 1641 г. жителя села Яренск Архангельского уезда Н. Федорова, отражающая применение покруты на соболином промысле и свидетельствующая об отсутствии срока окончания у покру-ты в определенных случаях.
По наблюдениям П.Н. Павлова, названные покрутные записи, сходные в изымании промышленником у покрученников одной трети добычи, предусматривали обеспечение промышленного человека одеждой, питанием, инструментами и другими сопутствующими предметами. Данные покрутные записи содержали и пункты об участии покрученника в постройке судна, о неустойке двух сторон в случае невыполнения обязательств, праве сыска покрученника в случае пропажи и праве передачи его другому промышленнику в наем. П.Н. Павловым отмечены и незначительные отличия в покрутных записях 1641 и 1703 гг. [1, с. 56].
В опубликованном историком первом из этих документов помимо соболя упомянуты бобры и выдры, как добываемый улов [1, с. 57].
По указанию П.Н. Павлова в XVIII в. на основании покрутных записей, относящихся к морскому промыслу мезенских промышленников, создавался морской устав [1, с. 56].
П.Н. Павловым выяснено, что основной источниковый материал, посвященный социально-экономическим отношениям в Сибири XVII в., преимущественно относится ко второй четверти этого столетия. Одной из причин утраты документов явился пожар 1626 г. в здании Казанского дворца, хранившего документы многих уездов Поволжья [4, с. 34]. Тем не менее часть необходимых историку данных, как писал П.Н. Павлов, сохранилась в таможенных книгах.
В частности, им были проанализированы соболиные книги, называвшиеся также приходными книгами натурального сбора десятинной пошлины с промышленной и перекупной пушнины. По определению ученого, эти документы содержали многочисленные сведения о плательщиках пошлины, раскрывали их социальное положение и места жительства, включали указания на количество уплаченной пошлины с пушнины с зафиксированной оценкой ее таможенным служащим, да и на виды добытой пушнины.
Эти данные, по мнению П.Н. Павлова, позволяют судить о постоянных торговых связях промышленников, их происхождении относительно регионов (земледельческого или промыслового), об уровне добычи соболей в определенный период, степени перемещения охотников из района в район, об отношении к социальному слою, финансовом положении промышленников, развитии самого пушного промысла.
В оценке П.Н. Павлова таможенные книги, являвшиеся отчетными документами, сохранили конкретные данные по шкуркам (их размерам, оттенкам, качеству, количеству, видам – шкурка или изделие из меха – и даже возрасту зверей) [4, с. 35]. П.Н. Павловым указано, что в таможенных книгах фиксировалась степень обработки шкурок. Оценка «мягкой рухляди» с отметкой – возможно ли «взятие» десятинной пошлины – также входила в описание товара.
Записи в таможенных книгах распределялись по абзацам, и каждой единице посвящалось отдельное выделенное абзацем описание. П.Н. Павлов констатировал, что все фиксации были датированы, а каждая книга занимала около 500 листов. С его точки зрения, более удобным способом записи такой информации могли бы стать ведомости, в которых подводились бы итоги по каждому пункту, в то время как абзацные записи в таможенных книгах соответствующие итоги не подводили.
Таможенные приходные книги, согласно П.Н. Павлову, представляли собой черновые рабочие записи, которые чаще всего переписывались начисто и подписывались таможенным головой. Они также дошли до нас в копиях, однако историки чаще использовали переписанные набело таможенные книги, скрепленные подписями [4, с. 36].
В XVII в. считалось, что вся добытая русскими пушнина зафиксирована в таможенных книгах [4, с. 216].
Данные этих книг, на взгляд П.Н. Павлова, все-таки не отражали реальный объем пушного промысла, так как ряд промышленников избегал фиксации части добычи в таможенной службе. П.Н. Павлов, однако, находил небольшим скрытый объем «мягкой рухляди» в силу организации промысла по системе артелей, где добытый объем уравнивался и сведения об охоте, даже покрученников, были общеизвестны.
П.Н. Павловым отмечены зафиксированные отказы служащих от должности таможенного головы, так как эта должность не приносила больших доходов.
Обработку данных таможенных книг П.Н. Павлов считал трудоемким процессом. Им также подчеркнуто, что не сохранились таможенные документы за все годы, либо не имелись таможенные документы по всем районам [4, с. 36].
Наиболее полные сведения о расцвете пушного промысла П.Н. Павлову удалось почерпнуть из таможенных книг по Илимскому, Енисейскому, Манга-зейскому и Якутскому уездам, относительно которых за десятилетие сохранилось в среднем 4-5 таможенных книг с систематическими данными [4, с. 37].
П.Н. Павлов сослался и на таможенные книги с неполными данными, например, жиганскую таможенную книгу за 1644 г., по которой не удается определить процент купленных у охотников соболиных шкур [4, с. 329].
Ученым рассмотрены как источники и отпускные книги. Красноярский историк пояснил, что такие документы раскрывали имущественное и социальное положение промышленников, но не были вполне информативными, ибо оставались неучтенными сведения об укомплектовании ужинами на местах промысла, обзаведении покрученниками на месте промысла или самим закабалявшимся в покруту [4, с. 37].
Как полагал П.Н. Павлов, отпускные книги нельзя признать источником, который показал бы действительное число промышленников. Так, в пример им приведены отпускные книги за 1644 и 1657 гг. по центральной Якутии. Известно, что промышленники переходили из уезда в уезд, и это нарушало численность зафиксированных в таможне охотников, отпущенных на промысел. Так, в Якутском уезде количество вернувшихся с охоты не совпадает с предыдущим числом [4, с. 219].
Рассмотренные П.Н. Павловым явчие таможенные книги по определению показывали количество действительных промысловиков в партиях и фиксировали место промыслов, их длительность с указанием времени начала и окончания, среднего объема добычи на каждого человека.
Таможенные книги поголовного сбора, по свидетельству П.Н. Павлова, сохранили сведения о количестве артелей и самих промышленников в определенных местах промысла относительно того или иного периода.
Таможенные приходные денежные книги наряду с соболиными содержали данные о мехе соболя, а также о купле-продаже с указанием стоимости мехов. Данные книги являлись приложением к приходным книгам, однако сохранились неполностью [4, с. 37].
С точки зрения П.Н. Павлова, таможенные приходные книги регистрировали уплату промышленниками десятинного налога и показывали численность охотников. В них также фиксировалась продажа покрученниками своим промышленникам пушнины до момента уплаты последними десятинной пошлины. Существовал перекуп пушнины у местного населения, и П.Н. Павлов отметил, что некоторые предприимчивые промышленники выдавали такую покупку за свою добычу, при этом избегая необходимости уплаты двойной пошлины [4, с. 217].
Как видно по таможенным приходным книгам, относившимся к Якутску, до XVIII в., – писал историк, – росомахи не встречались охотникам, кроме 1643 г., когда была зафиксирована продажа одной из них. В 1639–1640 гг. в илимской таможенной книге зарегистрирована одна росомаха, зато в 1670 г., согласно илимским таможенным приходным книгам, продано 70 росомах [4, с. 285].
Современный историк А.И. Раздорский, признававший П.Н. Павлова знатоком таможенных книг, уделил особое внимание методике их обработки красноярским исследователем. А.И. Раздорский отметил и наличие в работе П.Н. Павлова множества статистических материалов по Березовскому, Мангазейско-му, Илимскому и центральной Якутии уездам [5, с. 67].
Так, внимание П.Н. Павлова привлекли ценовные росписи пушнины, воеводские и таможенные отчеты-отписки, а также челобитные [4, с. 37]. Ценовные росписи содержали сведения с указанием регионов о качестве любого количе- ства сданной пушнины (сорока, десятка, сотни либо тысячи шкурок, данные о цене любого экземпляра). Такие «разборные» цены отличались от цен, зафиксированных на таможне, и действительных рыночных или приемных цен ясака. С помощью «разборных» цен П.Н. Павлов определял принадлежность пушного ассортимента к различным районам и предполагал естественное нахождение зверя по районам [4, с. 38, 39]. «Разборные» цены, на взгляд ученого, показывали точную стоимость соболей, но не отражали рентабельность работы промышленников [4, с. 225].
По мнению П.Н. Павлова, ясачные книги зафиксировали приемку песца в Якутске в 1646 и 1654 гг. в порядке редкого исключения [4, с. 275].
Ученому представлялось, что по воеводским и таможенным отпискам можно раскрыть политику московского правительства относительно пушного промысла [4, с. 38, 39].
В книгах П.Н. Павлова использовались и «сказки» промышленников. Так, в «сказке» за 1646 г. казака Н. Колобова говорится о большом количестве соболей, обитавших вдоль рек Охоты и Ульи. К тому же году относятся данные знаменитого морехода М. Стадухина, сообщившего, что вдоль рек Колымы и Чухчи водится много лисиц, соболей и песцов [4, с. 194].
П.Н. Павлов рассмотрел и челобитные торговых и промышленных людей. Так, в одной из них речь шла о разрешении им взять «из Руси» покрученникам на соболиный промысел пресного меду, чтобы питаться не только хлебом и защититься от цинги [4, с. 196].
Сохранилась челобитная 1641 г., написанная гулящим человеком С. Ефремовым. Как позволяет судить этот документ, судовая работа ценилась дорого, если нанимали свободного человека. (Ефремов сообщал, что по пути из Енисейска до Подлесного волока нанялся на постройку судов у торгового человека Л. Степанова) [4, с. 204].
Челобитные ясачных людей об освобождении от уплаты десятинной пошлины тоже попали в поле зрения П.Н. Павлова. Так, в 1606 г. сылвинские и иренские ясачные люди просили за себя и связанных с ними торговыми отношениями русских не взимать десятинную пошлину, которую требовали верхотурские стрельцы. П.Н. Павлов указал на царскую грамоту по данному челобитью, предписывающую по-прежнему сопровождать торговлю десятинной пошлиной [2, с. 19].
Челобитные якутов также рассматривались П.Н. Павловым. С получением одной из них якутские воеводы в 1648 г. сообщили в отписке, что в результате торговли накопилось много бисера [2, с. 26].
П.Н. Павлов ссылался и на жалобы из челобитных. Так, в 1610 г. сургутские ясачные люди уверяли, что масштабный промысел промышленников ограничивал охоту местного населения в целях уплаты ясака [2, с. 35].
По Якутскому краю сохранились челобитные, свидетельствующие о противодействии пришлым промышленникам. Так, о гибели промышленников в артелях за 1628, 1631, 1637, 1638 гг. говорилось в челобитных и отписке служилого человека В. Шахова (1638 г.) [2, с. 38]. Об убийстве и ограблении у реки Соби речь шла в челобитной пинежанина Е. Иванова (1635 г.) [2, с. 40].
П.Н. Павлов рассмотрел челобитную промышленников (1652 г.) Н. Корноуха и И. Салдата, просивших разрешения «ратным боем» усмирять тунгусов, объяснив это намерением взимать с них десятинную пошлину [2, с. 41].
Царские грамоты также привлекались П.Н. Павловым как источники о пушном промысле. Так, в одной из них, адресованной якутскому воеводе Д.М. Францбекову (1649 г.), говорилось о хорошем промысле соболиного меха, приводились сведения тунгусских аманатов о появлении в 1647 г. русских промышленников и добыче ими соболей [4, с. 208].
Как писал П.Н. Павлов, в XVII в. участились столкновения между местным населением и промышленниками. Например, в царской грамоте за 1649 г. якутскому воеводе сообщалось о том, что промышленный человек Ф. Абакумов обворовал и убил тунгусского князца Ковырю. П.Н. Павлов пояснил, что обычно такие случаи не имели прямой связи с охотой за пушным зверем [2, с. 40].
П.Н. Павлов рассмотрел и адресованный якутскому воеводе царский наказ 1697 г., в котором говорилось о материальной ответственности за завышение цены на мех.
Ученому была известна и грамота за 1667 г., с предписанием «доправить» цены якутским властям, поскольку якутская, московская и нерчинская оценки меха разнятся [4, с. 234].
Отписки со сведениями о промысле охотников также интересовали П.Н. Павлова. К примеру, сохранились данные о промышленниках и их явках в ман-газейскую таможенную службу (Нижняя и Подкаменная Тунгуска, Туруханское зимовье, Хетское зимовье, вблизи рек Хатанги и Енисея) [4, с. 218, 219].
Таможенная уставная грамота (1608 г.) Вымского уезда зафиксировала распоряжение царя Василия Шуйского таможенному голове о взятии десятой пошлины натурой. Данная грамота, по определению П.Н. Павлова, была выдана на основе сольвычегодской таможенной грамоты того же года, согласно которой с вогулов взимается пошлина.
При рассмотрении документов, относящихся к пушному промыслу, П.Н. Павлов обращал внимание и на наличие льгот у служилых людей. Иногда это касалось неполных десятков шкур, иногда не взималась пошлина с торговых людей. Так, грамота, присланная в Березов в 1613 г., указывала взимать пошлины с местных казаков с суммы не меньше чем пять рублей [2, с. 18, 19].
По замечанию П.Н. Павлова, памяти также фиксировали взимание десятинного налога. Так, одна из них, составленная в 1647 г. якутским таможенным головой П. Усачевым, требовала взимать со служилых людей две десятых собо- линым мехом при торговле, предусматривала перекуп и не предполагала льготы [2, с. 20].
П.Н. Павлов считал ошибочным вывод Н.Н. Оглоблина о том, что десятая часть пушнины не бралась с той части стоимости «мягкой рухляди» служилых людей, которую они добывали собственным промыслом, и утверждение того же видного историка рубежа XIX–XX вв., будто при скупке пушнины у торговых и промышленных людей служилыми людьми десятая часть взималась и с последних. По мнению П.Н. Павлова, служилые люди пользовались при этом небольшими льготами [2, с. 18]. Он обращал внимание на выявленную Н.Н. Оглоблиным челобитную 1640 г. крупного купца Н. Светешникова о продаже ему казенной «мягкой рухляди» на сумму в 10 тысяч рублей (ранее за Светешниковым числился долг за пушнину) [4, с. 103]. Выводы П.Н. Павлова, специально изучавшего данную проблему, думается, являются более оправданными, чем выводы Н.Н. Оглоблина, очевидно, недостаточно глубоко вникнувшего в содержание выявленных им документов.
Взаимодействие между сословными группами раскрыто П.Н. Павловым на основе расспросных речей и судных дел.
В качестве источников П.Н. Павлову иногда приходилось использовать, помимо указанных, этнографические и фольклорные сведения [4, с. 38, 39].
Многие исследователи (В.И. Шунков, З.Я. Бояршинова, Ф.Г. Сафронов, В.Н. Шерстобоев), как отметил П.Н. Павлов, пользовались при освещении проблем пушного промысла XVII в. исключительно архивными фондами [3, с. 5].
П.Н. Павлов констатировал, что не стремился к поиску неизвестных ранее историкам документов по истории пушного промысла, а старался использовать типичные для раскрытия темы источники, освещая ее хронологические и географические аспекты, а также известный материал, отражающий социальное положение населения Сибири, к примеру крупных промышленников.
Как отметил П.Н. Павлов, таможенные книги он обнаружил в Центральном государственном архиве древних актов, а остальные документы – в Архиве Академии наук СССР (в Ленинграде) [3, с. 8].
Итак, П.Н. Павлов, изучив громадный массив материалов, почти исключительно архивных, предложил их аргументированную классификацию, определил происхождение и степень полноты этих источников, некоторые из которых опубликовал. Тем самым видный красноярский ученый внес существенный, порой основополагающий, вклад в решение многих проблем источниковедения социальной и экономической истории Сибири XVII–XVIII вв.
Список литературы П.Н. Павлов об источниках по истории пушного промысла в Сибири XVII-XVIII вв
- Павлов П.Н. Покрутная запись на соболиный промысел в XVII веке // Советские архивы. - 1968. - № 5. - С. 55-58.
- Павлов П.Н. Промысловая колонизация Сибири в XVII в.: Учеб. пособ. - Красноярск: Изд-во Красноярского гос. пед. ин-та, 1974. - 238 с.
- Павлов П.Н. Пушной промысел в народном хозяйстве Сибири XVII в.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. - Новосибирск, 1973. - 38 с.
- Павлов П.Н. Пушной промысел в Сибири в XVII в. - Красноярск: Изд-во Красноярского гос. пед. ин-та, 1972. - 400 с.
- Раздорский А.И. Пушная торговля и промыслы в трудах П.Н. Павлова // Гуманитарные науки в Сибири. - 2014. - № 1. - С. 65-70. EDN: SMXBMN