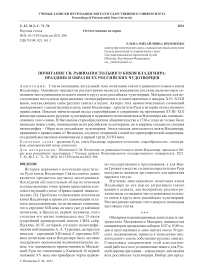Почитание св. равноапостольного князя Владимира: праздник и образ всех российских чудотворцев
Автор: Юхименко Елена Михайловна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной теме почитания святого равноапостольного князя Владимира. Основным предметом рассмотрения является восприятие русским религиозным сознанием места равноапостольного князя в кругу всех российских чудотворцев. Материалом для исследования послужили произведения гимнографического и панегирического жанров XVI-XVIII веков, восхваляющие сонм русских святых в целом. Авторы этих немногочисленных сочинений подчеркивают главенствующую роль князя Владимира - крестителя Руси в истории отечественного православия. Показан значительный вклад старообрядцев в сохранение на протяжении XVIII-XIX веков праздника всем русским чудотворцам и церковного почитания князя Владимира как основоположника этого сонма. В Выговском старообрядческом общежительстве в 1730-е годы не только было написано новое слово, посвященное всем российским чудотворцам, но и впервые создана их сводная иконография - Образ всех российских чудотворцев. Апостольская деятельность князя Владимира, принявшего православие от Византии, служила отправной точкой историографической концепции, созданной выговскими книжниками в первой трети XVIII века.
Крещение руси, князь владимир, церковное почитание, старообрядчество, гимнография, панегирический жанр, иконопись
Короткий адрес: https://sciup.org/147227333
IDR: 147227333 | УДК: 93/94, | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.586
Текст научной статьи Почитание св. равноапостольного князя Владимира: праздник и образ всех российских чудотворцев
История церковного почитания крестителя Руси князя Владимира Святославича давно является предметом научного исследования. Последний обстоятельный обзор источников и существующих точек зрения представлен в соответствующей статье «Православной энциклопедии» [8]. Проблема становления почитания князя Владимира и время его канонизации остаются дискуссионными, но не вызывает сомнения, что к середине XIII века он имел уже устойчивое почитание, в Прологах первой половины этого столетия его житие помещалось под 15 июля (старейший древнерусский список: ГИМ, собр. Щукина, № 97, который, согласно палеографическим наблюдениям А. А. Турилова, датируется началом – серединой XIII века). С середины XIV века почитание князя Владимира было активно поддержано московским великокняжеским домом, что знаменовало преемственность Московской Руси по отношению к Киевской. В первой половине XV века оно приобрело черты церков-
но-государственного празднования, а для Ивана Грозного родство со святым крестителем Руси послужило важным аргументом для принятия царского титула.
Изучение многовекового почитания князя Владимира до сих пор не затрагивало такого важного аспекта, как восприятие русским религиозным сознанием места равноапостольного князя в кругу всех российских чудотворцев. Рассмотрению именно этого вопроса посвящена настоящая статья.
***
Обширная канонизационная деятельность митрополита Московского Макария, явившегося инициатором проведения соборов 1547 и 1549 годов и прославления в лике святых около 39 русских подвижников, привела к появлению внушительного сонма собственно русских святых. Смысловым завершением этой агиологиче-ской работы стало установление нового для Русской церкви праздника – совокупного дня памяти всех российских чудотворцев. Выбор дня празд- ника – 17 июля, через день после памяти князя Владимира, – безусловно, не был случайным, напротив, он указывал на глубокую внутреннюю связь двух событий – крещения Руси и взлета отечественного благочестия. Эта идея получила разработку в двух сочинениях, написанных специально для нового праздника, – в Слове и Службе, созданных около 1550 года иноком суздальского Спасо-Евфимиева монастыря аги-ографом и гимнографом Григорием [2], [3], [7], [12].
Основой для «Слова на память всех святых новых чюдотворцев Росийских» Григория послужило читавшееся в Сырную субботу «Слово о преподобных отцах» митрополита Григория Цамблака; отсюда русский автор заимствовал даже некоторые текстовые фрагменты, но в то же время он наполнил конкретным содержанием абстрактные панегирики болгарского писателя [2: 171], [3: 131–132]. В Слове середины XVI века упомянут 61 русский святой. Здесь нет четкого разделения по чинам святости. Начальную и самую обширную группу составляют преподобные, затем перечислены с краткими характеристиками 3 юродивых, 2 князя-мученика, 3 благоверных князя, 3 св. жены, мученик Меркурий Смоленский и более развернуто святители.
Панегирик князю Владимиру открывает основную часть Слова:
«Что в Росии чюднейши благовернаго князя Вла-димера, иже познавшаго веру истинну? Понеже бо акы великии Павел Апостол свыше зван есть, тако и сий пра-видный Владимир, от слепоты просветився, просвети-ся банею Святаго Духа и потреби идолы и приведе архи-ереа от грек и всю землю Росийскую просвети Святым Крещением. Той бысть первый ходатай нашего спасениа, аки вторый Констянтин делом и словом. Кто же любимицы не дивится слыша или зря прежде бесплодную землю Росийскую, ныне же ради Владимира – многочадну и доброчадну, толики инок полки, ими же просвещся земля Росийская насади, и воздела и плод приносити устрои Евангелию достойны» [3: 136].
В этом отрывке автор, подчеркивая особую заслугу св. Владимира перед Русской землей и русским народом, уподобляет князя апостолу Павлу (по признаку духовного переворота и обращения в христианскую веру) и равноапостольному царю Константину (по эпохальной роли в распространении истинной веры). За панегириком Владимиру следуют похвальные тексты русским преподобным, начиная с основоположников русского монашества – Антония и Феодосия Печерских. В первом случае уже сам святой Владимир становится объектом сравнения: «Якоже Владимир победи вся кумиры и потреби богы и божница», так и преподобный Антоний победил «лукавые полки» (бесов).
Главенствующая роль князя Владимира в истории отечественного православия была подчеркнута в первых же строках «Службы на память всех святых новых чудотворцев российских», на малой вечерни:
«О, дивное чюдо, величавыи разум погубляется днесь и рыдают всяческая лукавая воинства, видяще ветвь сущую всесилною божественною благодатию пре-саждаему и светло венчаема от Бога великаго Василия, нашего началника крещению, и тем светло просвети люби своя во всех странах царствия Твоего, Боже»1.
Используя образ богонасажденной лозы, гим-нограф Григорий указывает, что князь Владимир есть корень русской святости: с одной стороны, он насадил
«нам ветви богонасажденныя и цвети благоухан-ныя нам источающи – Бориса чюднаго и Глеба ревнителя благочестию, кипящи всем верным обилно чюдесы, с ними же предстоя, Христу молися, царю нашему, победы подати на неверныя и умирити всего мира», а с другой, Владимир
«дарова нам наставники и укрепители вере преподобных отец, <…> Антония верх Российской земли, мнихом первоначалника, Феодосия, общему житию началника, и Дионисия добродетелем наставника, их же молитвами от тмы к свету приближаемся»2.
Упоминание о равноапостольном подвиге Владимира – крестителя Руси проходит красной нитью через весь текст службы середины XVI века, в ряде случаев вместе с ним называется и княгиня Ольга: «Вы бо есте прежнии ко Влады-це всех наши ходатаи и началницы православию и наставницы по истинней вере»3.
В службе на 17 июля поименно названы 68 русских святых. Князь Владимир трактуется как первоначальник этого сонма. На великой вечерни поется:
«Вси помолимся Христу, иже творящии память днесь отцу нашему Владимиру, начальнику просвещения рус-ския земли нашея, и с ним вкупе воспоим согласно боже-ственныя отцы наши, иже постом просиявшия»4.
До недавней находки О. В. Панченко слово Григория Суздальского считалось единственным древнерусским сочинением, посвященным собору отечественных святых. Петербургский ученый обнаружил в рукописях, исследовал и опубликовал два неизвестных ранее произведения выдающегося соловецкого книжника Сергия Шелонина: «Похвальное слово русским преподобным» и «Канон всем святым, иже в Ве-лицеи Росии в посте просиявшим» [4], [5], [7]. Эти сочинения возникли на волне духовного и культурного подъема 40-х годов XVII века и в определенной мере отразили инициированную патриархом Иосифом программу канонизации русских святых.
Однако к этому времени церковное сознание давно и прочно освоило основные вехи истории русской святости, шло лишь постепенное приращение числа отечественных святых к тому сонму, который сформировался в результате Ма-карьевских соборов, и основополагающая роль князя Владимира уже не нуждалась в дополнительном подтверждении (заметим, что официальное почитание крестителя Руси в XVII–XIX веках имело преимущественно государственнополитический характер). Эту ситуацию наглядно отражают названные произведения Сергия Шелонина. Они разрабатывают идею равного достоинства святых «своея Русския земли» с великими подвижниками древности и были созданы для того, чтобы дополнить одно из уставных чтений триодного цикла (обычно читаемых в церкви в субботу «сырную» и посвященных древним преподобным отцам) новыми текстами, написанными в честь русских преподобных [4: 564–565]. Перечисление благоверных князей русских появилось лишь во второй редакции Слова Сергия Шелонина, после того как соловецкий книжник сочинил «Канон всем святым, иже в Велицеи Ро-сии в посте просиявшим». В 7-й песне Канона прославляется лик благоверных князей, поживших «преподобне» и «равноангельно» (то есть этот лик как бы сближается с ликом преподобных). Первыми названы князь Владимир и княгиня Ольга:
«Радуйся, крестоносный княже и царьское свяще-ние Василие преславне, вторым Коньстантине, про-светивыи Рускую землю святым крещением, с прама-терию твоею Еленою Спасителю Христу предстояще, в веселии вопиете: Благословен еси, Господи Боже во веки» [5: 477].
Праздник всех святых российских чудотворцев, вошедший в русский церковный обиход в середине XVI века как следствие прославления большого числа подвижников на соборах 1547 и 1549 годов, первоначально отмечался 17 июля. Однако спустя какое-то время, видимо, еще до середины XVII века, он переместился на первое воскресенье после Ильина дня, то есть после 20 июля по старому стилю5. Именно в этот день он отмечался в Выго-Лек-синском старообрядческом монастыре. В церковном уставе поморской киновии, составленном в конце XVIII века, записано: «В неделю по Ильине дни празд[ник] всем святым российским чюдот[ворцам]»6. Даны подробные указа- ния о службе этого дня; в заключение отмечено: «Аще есть, икону святых в столовую носят, и чтение за столом святым»7.
В связи с данным праздником мы имеет наглядный пример творческого развития старообрядцами древнерусских традиций. В Выговской пустыни не только было написано новое слово, посвященное всем российским чудотворцам, но и впервые создана их сводная иконография – Образ всех российских чудотворцев.
«Слово воспоминателное о святых чюдотвор-цех в России во<с>сиявших, яко о святости жития, тако и о преславных чюдесех их» принадлежит перу выговского киновиарха и писателя Семена Денисова.
Повторю основные выводы, сделанные нами при изучении данного памятника [11]. Он был написан в 30-е годы XVIII века. Композиция сложилась под влиянием Слова и Канона Григория Суздальского, однако текстуально сочинение Семена Денисова абсолютно самостоятельно. В этом произведении был значительно расширен круг упоминаемых святых – 167 по сравнению с 61 в Слове Григория Суздальского и 76 у Сергия Шелонина. Таким образом, старообрядческий автор представил самый пространный перечень русских святых (что вполне соотносится с другими агиологическими трудами выговских книжников, прежде всего с Выгов-скими Четьями Минеями). Основной принцип организации материала – по чинам святости: сначала идут преподобные (93), затем юродивые (8), святые жены (9), святители (25), благоверные князья (15) и мученики (16). Особняком стоит похвала св. равноапостольному князю Владимиру: как и у Григория Суздальского, с нее начинается основная часть Слова. Содержание текста указывает на совершенную независимость работы старообрядческого автора, его хорошее знакомство с житийными источниками, а также на то, что Слово воспоминательное создавалось как общерусское, а не сугубо старообрядческое или поморское.
В Слове Семена Денисова князь Владимир стоит первым в ряду русских святых:
«Принеси убо первѣе, – пишет старообрядческий автор, – да воспомянем отца всероссийскаго, корень благочестия, вину богопознания, равноапостоль-наго мужа, великаго, глаголю, князя ВЛАДИМИРА, иже яко сам от нечестия во благочестие преложився, тако и всю российскую землю богопознанием одарив, честный и многоцѣнный дар Владыцѣ всѣхъ принесе»8.
Далее упоминается чудо с внезапной слепотой и прозрением князя Владимира. Таких подробностей, как мы помним, не было у Григория
Суздальского. Семен Денисов предлагает и собственную библейскую аналогию-антитезу: если восхваляется Моисей, выведший евреев из египетского плена в землю обетованную – но всего лишь в «землю чувственну», то «колико сей святый муж (то есть Владимир. – Е. Ю. ) похвалится», который «толикия тмы многочислены народов <…> в самый небесный Иерусалим к самому престолу Божию представи»9. Предваряя последующие панегирики святым, автор Слова подчеркивает святость «корня» русского православия:
«Колици от сего чресл святии князи, колици правед-нии местоначалници и властодержци изыдоша! Колици велиции мученици и чюдотворци возсияша, по гласу сосуда избраннаго: “Аще корень свят, то и ветвие свято”»10.
Особенное внимание Семена Денисова к церковному значению деятельности князя Владимира не может быть объяснено лишь влиянием композиции Слова Григория Суздальского. Восхваление крестителя Руси и непрерывности восходящей к нему церковной традиции, а также прославление обширного сонма русских подвижников, своим житием и подвигом освятивших Российскую землю, имело скрытый полемический подтекст, поскольку указывало на истинность сохраненного старообрядцами древлеправославия и глубокую укорененность именно старообрядческой традиции.
Апостольская деятельность князя Владимира, принявшего православие от Византии, служила отправной точкой историографической концепции, созданной выговскими книжниками в первой трети XVIII века. В частности, в предисловии к «Винограду Российскому» Семен Денисов особо подчеркивал, что князь Владимир «своим доброподвижным тщанием взыска светлость пресветлаго благочестия Сионскаго на вос-тоце, и, взыскав от восточных стран в Россию, всю Россию, привед во благочестие, просвети»11.
Помимо «Слова воспоминательного» Семена Денисова в Выговском общежительстве в 30-е годы XVIII века была создана новая иконография – Образ всех российских чудотворцев, включавшая 186 изображений русских святых [9: 152–167], [10]. Таким образом, впервые в отечественной традиции праздник всех российских чудотворцев получил полное церковное оформление.
На основе изучения документального, литературного и изобразительного материала, а также сохранившихся списков иконы мы установили время создания Образа, его автора – выговского иконописца, представителя династии каргопольских иконописцев Даниила Матвеева, выявили иконографические источники, связь с агиологи-ческими разысканиями выговских книжников, характер использования в богослужебной практике, местонахождение в храмовом пространстве, особенности дальнейшего бытования.
Относительно интересующего нас аспекта – почитания князя Владимира – заметим, что его изображение было помещено первым (ближайшим к центру) в шестом правом ряду, в чине благоверных князей. Роль Владимира как крестителя Руси была подчеркнута тем, что за ним располагалось изображение княгини Ольги, которая должна была бы быть гораздо выше, в чине благоверных жен.
Праздник всех российских чудотворцев, смысловым центром которого являлось почитание князя Владимира, сохранялся в старообрядческой среде на протяжении XVIII–XIX веков. Слово Семена Денисова являлось структурообразующим ядром рукописных житийно-богослужебных сборников, посвященных русским святым. В частности, оно открывало знаменитый Поморский сборник, которым широко пользовался В. О. Ключевский при написании своего классического труда «Жития святых как исторический источник». В состав подобных сборников иногда входила и Служба новым российским чудотворцам Григория Суздальского. Служба Григория Суздальского и Слово Семена Денисова в 1786 году дважды были изданы в старообрядческих типографиях в Гродно (сборник в 8о) и Су-прасле (сборник в 4о).
Именно к этим старообрядческим изданиям обратились в начале XX века инициаторы восстановления в Синодальной церкви празднования Всем российским чудотворцам – профессор Петроградского университета Б. А. Тураев и иеромонах, будущий священноисповедник Афанасий (Сахаров). Одобренный Отделом о богослужении, проповедничестве и храме доклад Б. А. Тураева «О восстановлении празднования в первое воскресенье Петровского поста всех святых новых чудотворцев Российских» был зачитан на пленарном заседании Поместного собора 20 августа 1918 года. 26 августа было принято постановление: «1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех святых русских. 2. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста» (в современном месяцеслове – 2-я неделя по Пятидесятнице). В конце 1918 года была опубликована составленная Б. А. Тураевым служба, текст которой в дальнейшем был существенно переработан епископом Афанасием (Сахаровым) (опубликован в 1946 году) [1], [7: 50]. Князь Владимир как просветитель русского народа упоминается в 1-й песне канона в хронологической последовательности; ему предшествуют седмочисленные херсонские святители, первые варяги-мученики, княгиня Ольга. Еще раз его имя называется в стихирах на хвалитех 5-го гласа после 9-й песни, заимствованных из службы Григория Суздальского.
До сих пор не осуществлена мечта святителя Афанасия, высказанная им в 1955 году, о составлении особого Похвального слова на память Всех святых, в земле Русской просиявших. В 1934 году по его же благословению монахиней Иулианией (Соколовой) был написана икона «Все святые, в земле Российской просиявшие» (князь Влади- мир изображен в центре нижней части иконы, в группе святых, упоминаемых в 1-й песне Канона Афанасия (Сахарова)).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ письменных и изобразительных памятников, связанных с праздником всех российских чудотворцев, убеждает нас в том, что в средневековой и старообрядческой традициях князю Владимиру как крестителю Руси, сделавшему выбор в пользу Византии и заложившему основы отечественного древ-леправославия, отводилось центральное место при осмыслении исторического пути Русской церкви.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва)
ЖМП – Журнал Московской патриархии
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Список литературы Почитание св. равноапостольного князя Владимира: праздник и образ всех российских чудотворцев
- Афанасий (Сахаров), еп. О празднике всех святых, в земле Российской просиявших, и о службе на сей праздник // Российский православный университет ап. Иоанна Богослова. Ученые записки. М., 1995. Вып. 1. С. 91-101.
- Дмитриева Р. П. Григорий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Ч. 1. Вып. 2: Вторая половина Х1У - ХУ1 в. С. 169-172.
- Макарий (Веретенников), архим. Эпоха новых чудотворцев (Похвальное слово новым русским святым инока Григория Суздальского) // Альфа и Омега: Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. М., 1997. № 2 (13). С. 128-144.
- Панченко О. В. Из археографических разысканий в области соловецкой книжности. I. «Похвальное слово русским преподобным» - сочинение Сергия Шелонина (вопросы атрибуции, датировка, характеристика авторских редакций) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 547-592.
- Панченко О. В. Из археографических разысканий в области соловецкой книжности. II. «Канон всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим» - сочинение Сергия Шелонина // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 453-480.
- Панченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 491-534.
- Спасский И. Первая служба всем русским святым и ее автор // ЖМП. 1949. № 8. С. 50-55.
- Э. П. Р. Владимир (Василий) Святославич // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8. С. 690-718.
- Юхименко Е . М . Агиологические разыскания выговских старообрядцев и Образ всех святых российских чудотворцев // Х1У научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944-1995). Ярославль, 2010. С. 152-167.
- Юхименко Е. М. Выговская икона «Образ всех российских чудотворцев» // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 62. С. 167-174.
- Юхименко Е. М. «Слово воспоминательное о святых чудотворцах, в России воссиявших» Семена Денисова как отражение культурно-агиологических начинаний Выга // ТОДРЛ. СПб., 2010. Т. 61. С. 329-344.
- [Без автора] Григорий // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 12. С. 559-560.