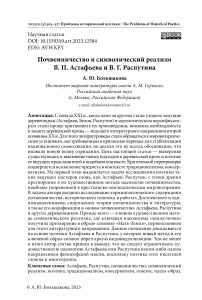Почвенничество и символический реализм В. П. Астафьева и В. Г. Распутина
Автор: Большакова А.Ю.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
С начала ХХI в., когда один за другим стали уходить ведущие деревенщики (Астафьев, Белов, Распутин) и идеологическим версификаторам стало проще критиковать их произведения, возникла необходимость в защите деревенской прозы - ведущего литературного направления второй половины ХХ в. Для этого литературоведы стали обращаться к мировоззренческим установкам, востребованным в кризисные периоды для стабилизации национального самосознания, но делали это не всегда обоснованно, что вызвало новую волну отрицания. Цель настоящей статьи - выверение существующих и выявление новых подходов к деревенской прозе и поэтике ее ведущих представителей в подобном контексте. Критической перепроверке подвергается осмысление предмета в контексте традиционализма, консерватизма. На первый план выдвигается задача исследования поэтики таких ведущих мастеров слова, как Астафьев, Распутин, с точки зрения претворения в их художественном методе идеологии почвенничества, наиболее укорененной в крестьянско-земледельческом мировоззрении. В задачи автора входило исследование терминологического содержания почвенничества, исторического генезиса в работах Достоевского и единомышленников, сопряжения теории почвенничества и литературы, а также его модификации в «новом почвенничестве» Астафьева, Распутина и других деревенщиков. Прежде всего - в новом художественном методе символического реализма, где ключевая идеологема «земля-почва» получила претворение в образе-символе «Мать-Земля», первоосновном для этого литературного направления. Данное положение доказывается на основе поэтики Астафьева и Распутина, у которых новый метод и его ключевой образ-символ обрел яркую индивидуализацию. Тем не менее в итоге автор статьи приходит к выводу, что не следует ограничивать художественную идеологию Астафьева или Распутина каким-либо одним направлением философской мысли, поскольку поэтика этих писателей сложна и многогранна.
Астафьев, распутин, почвенничество, символический реализм, поэтика, традиционализм, консерватизм, генезис, идеал-образ, достоевский, идеологема, антипочвенничество, символ, художественный метод
Короткий адрес: https://sciup.org/147241104
IDR: 147241104 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12584
Текст научной статьи Почвенничество и символический реализм В. П. Астафьева и В. Г. Распутина
Традиционализм
Обращение к «традиционализму» позволило некоторым литературоведам, порой подменявшим православные основания русской литературы исламом и индуизмом1, сделать из него философические подпорки для преобразования деревенской прозы2 в «традиционалистскую» : со всеми последствиями применения архаичного понятия с сомнительным терминологическим содержанием. По определению, это не осознанная идеология или философская концепция, но — стихийная установка коллективного бессознательного.
Роль традиции в становлении поэтики таких ведущих представителей этого литературного направления, как Астафьев или Распутин, трудно переоценить. Однако традиционализм ли это ? Или свойственное литературе как таковой обращение к традиции с последующим ее переосмыслением и художественным претворением, а в случае с Астафьевым — еще и с явной модернизацией (о чем свидетельствует его переосмысление традиционных жанров)? В целом, тут много путаницы и уязвимости, используемой оппонентами. Так, в интерпретации «нового» термина критиками деревенщиков как «архаистов» признак традиционализма усматривается в их «приверженности реа листическому письму» [Разувалова: 74].
Символический реализм
Однако о каком реализме следует вести речь? Скорее всего, не о «традиционалистском», а новаторском: о возникновении в полемике с соцреализмом нового художественного метода — символического реализма , в системе которого (в отличие, к примеру, от символизма Серебряного века) доминирует образ-символ , основанный на совершенно земных реалиях и соотнесенный с реальной действительностью, куда включены автор и герой со своими духовностью, интеллектом, мировоззренческими установками и идеалами. Симптоматично в этом плане признание ведущего деревенщика, что в своей прозе он «стремился совместить символику и самый ни на есть грубый реализм »3.
Тяготение к максимальному сжатию художественной материи для выражения сущности ХХ в. — стремление дать « знак , символ, образ , что в буквальном переводе с греческого означает идею»4, — убедительно свидетельствует о состоявшемся в деревенской прозе «синтезе "истории" и "поэзии" в процессе создания <…> "символического реализма"» . Формирующийся в такой системе мышления образ-символ проявляет себя как « предельная единица художественного произведения, которая… несет в себе структурные свойства целого » [Виноградов: 203, 297].
Консерватизм
В интерпретациях критиков деревенской прозы, не учитывающих ее художественные особенности, сказывается тенденция перекраивать «старые» идеологические мехи и занижать тем самым ее достижения: распространено причисление к консерватизму и неопочвенничеству со знаком минус, как, например, в недавней книге о писателях-деревенщиках [Разувалова]. Изъян таких начинаний — вульгаризация консерватизма и почвенничества, позволяющая голословно причислить деревенщиков к ретроградам и реакционерам: не на основе художественных текстов, а на уровне жонглирования абстрактными категориями, когда «консерватор» идет через запятую с «ретроградом» [Разувалова: 75]5.
На самом деле суть подлинного консерватизма — меняться, оставаясь собой . В основе его — не ретроградство, а сохранение культурной национальной идентичности, базовых ценностей народа. Стратегия — эволюция вместо революции, традиция вместо разрушительной ломки устоев. В этом есть близость художественной идеологии деревенской прозы. Однако лишь близость , поскольку консерватизм как мировая идеология направлен на сохранение скорее внешней охранной системы общества, государства, а, к примеру, почвенничество как феномен сугубо русский, — глубинного самосознания «нутряной России», говоря словами А. И. Солженицына6.
Почвенничество
Наиболее соответствует сути деревенской прозы — именно почвенничество , обращенное к ценностным ориентациям русского народа в его православно-земледельческих подосновах. Философско-культурологическая мысль выделяет 1960–1980-е гг. как период, когда возникла «"новая форма почвенничества", или "вторичное почвенничество", в котором базовая идеологема "почвы" и ее социальная направленность были переосмыслены сообразно изменившимся историческим обстоятельствам» [Микитюк: 18]. Отмечая, что «"неопочвенничество" не создало серьезных философских концепций, но при этом <…> отразилось в литературе, кино, театре, литературно-художественной критике и публицистике», исследователи выделяют именно деревенскую прозу как основной источник возрождения этого мировоззрения [Ми-китюк: 18].
Современная наука о литературе справедливо утверждает, что традиции почвенничества были возрождены Д. С. Лихачевым, А. И. Солженицыным, В. П. Астафьевым, В. Г. Распутиным, В. И. Беловым, В. М. Шукшиным: «В ХХ в. почвенничество стало разрешением векового спора западников и славянофилов. Почвенниками назвали тех писателей, кто сохранил верность крестьянству и традиционным ценностям народной жизни, традициям русской словесности » [Захаров: 22]. В основном литература с ее своеобычной системой художественных средств, а не рациональные построения аналитиков во второй половине прошлого столетия явилась сферой возрождения «забытой» идеологии нутряной России.
Генезис и определения
В контексте этой установки следует рассмотреть генезис понятия и терминологическое содержание, а также то, какие метаморфозы испытала концепция почвенничества во второй половине ХХ в., обретя неповторимое воплощение в строе поэтики у таких мастеров слова, как В. П. Астафьев или В. Г. Распутин.
Согласно определениям, «основополагающей идеей почвенничества стала мысль о важности "народной почвы", национального духа, о необходимости слияния русской духовной элиты с народом, "принятия" в себя "народного элемента"»7. Целеполагание почвенничества — разворот образованной верхушки общества к народной «почве» через просветительскую деятельность, суть — народность 8 .
Во второй половине ХХ в., в условиях советского общества, русские писатели (выходцы из крестьян) продолжили эти начинания.
Как известно, возникло почвенничество в результате поисков Ф. М. Достоевс ким «нового слова» для журнала «Время» (1861).
Таким словом стала «почва» в значении «народные начала», «опора», «основание»9:
«Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность в высшей степени самобытная и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал »10.
По определению современных исследователей, исходно у Ф. М. Достоевского, А. А. Григорьева, Н. Н. Страхова «почва» не строгое понятие, но смыслообраз, идеологема 11:
«Под именем почвы разумеются те коренные и своеобразные силы народа , в которых заключаются зародыши всех его органических проявлений» [Страхов: 113].
О значительности народившейся идеологии, несмотря на расплывчатость понятийно-терминологических очертаний, свидетельствовало ее развитие в трудах Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, В. В. Розанова, В. С. Соловьева и других мыслителей, внесших свои коррективы, но не изменивших сущность. В 1930–1950-х гг., в связи со сменой идеологической системы, основатель почвенничества Достоевский оказался под цензурным запретом. Возродилось почвенничество в обновленном виде уже в художественном мире русских деревенщиков12. В этом есть, впрочем, своя закономерность. Ведь, согласно органическим установкам почвенников, их учение изначально предполагало познание действительности не столько научной, сколько художественной мыслью. Не состоявшись в полной мере в ХIХ в., эти установки были востребованы литературным сознанием 1960–1990-х гг., что позволяет определить
Точки схождений идеологии и литературы13.
-
1. Изначальное возникновение именования и собственно концепции почвенничества в сфере писательского мышления.
-
2. «Нестрогое понятие» . Очевидно, именно обусловленная самой жизнью «неопределенность» и «нестрогость» концепции почвенничества вызвала дальнейшее смещение ее ключевого смыслообраза в сферу литературного мышления, художественной образности.
-
3. Символика изначального именования и его удвоение: «почва» и «земля» . Культ Земли как «овеществленной сущности» у Достоевского и у деревенщиков: претворение архетипа Матери-Земли.
-
4. Органическая концепция почвенничества и категория Жизнь (а не теория) как доминанта: мир представляет собой целостный организм, и его витальность выводит на первый план категорию Жизнь. Так же, например, в поэтике Астафьева и Распутина: начало, всепобеждающее трагизм социоисторической реальности, — это сама Жизнь. Потому в авторском пафосе доминирует идея Жизневоскресения, а в типологии героя — жизненность, проявляющаяся в умении прорастать сквозь обстоятельства. Важен и приоритет Природы в художественном мире деревенщиков. В таких умонастроениях сказывается органичность их мироощущения, которая выше и сильнее рациональных построений. Мы можем обозначить эту направленность,
запечатленную в строе символической образности (зооморфном коде, введении природных символов, к примеру, орнитонимов), как «органический» компонент поэтики.
Символика и метаморфозы идеологемы
Подобно предшественникам-почвенникам, деревенщики — в своей обращенности к крестьянским корням нации — уповали на национальное самопознание, поиск утраченной самоидентичности. Но есть и кардинальное различие: если у почвенников XIX в. идеи и взгляды формулировались в публицистике и философии, то у деревенщиков — во всем строе художественных средств. Даже Достоевский высказывал свои взгляды в «Дневнике писателя», статьях и записках. В художественных же произведениях запечатлено диалогическое отношение к 3емле, обретающей сакральный статус в переживаемом мире автора и героя (Алеши в «Братьях Карамазовых», Раскольникова в «Преступлении и наказании») как смыслобраз и объект религиозных прозрений и экстатических вдохновений. В поэтике Достоевского это отношение к Земле как к объекту авторской сакрализации и духовного возрождения героя воплощено в мотивном комплексе: мотивах припадания к земле, целования ее ради проникновения ее чистотой и святостью.
Преодолевая границы славянофильства и западничества14, но не отвергая их, почвенничество стремилось занять самостоятельную позицию, сопрягая национальное и общечеловеческое15. Эта устремленность сказалась затем в поэтике Астафьева и Распутина: жанровой системе, насыщенной интертекстуальности, обращающих читателя к мировой классике. Однако было бы упрощением переносить установки XIX в. на творчество деревенщиков, при всей их близости идеям прошлого: пройдя сквозь русло материализма, почвенничество как течение претерпело изменения. Особенно это проявилось в литературе второй половины ХХ в. на уровне метода символического реализма и эстетического идеала как предмета художественного претворения: у Астафьева, Распутина и других деревенщиков — земледельческого по сути, с категориальной доминантой возвышенного.
Роль символики в претворении идей почвенничества проявилась и в лирике близкого деревенщикам поэта — Н. М. Рубцова. Однако символизация как средство поэтического самовыражения не сформировала, по мнению исследователей, художественный метод в лирике 1960–1980-х гг.16 Еще менее идеи почвенничества проявились в символизме Серебряного века, несмотря, скажем, на интерес А. Блока к фигуре А. Григорьева, отразившийся в биографической статье17. Даже в небольшой элегии З. Гиппиус с «почвенным» названием «Земля» (1902) речь идет о могильной земле, и в тексте заглавное именование не повторяется, заменяясь «могилой» как предметом авторской рефлексии. Сходным образом Мать-Земля входит скорее в сферу авторского отрицания, нежели поклонения, в десак-рализованной «Земле» Вяч. Иванова:
«Ах! не Земля, — дети, вам мать — Голгофа С оного дня, как умер Он!
С ним умерла, дети, Земля! О, дети!
Жив ли мой Бог?.. Кто жив — живит!» 18.
Хотя возникают и гимнографические посвящения, воспевающие культ Земли, как в стихотворении Вяч. Иванова «Тихая воля» (1905). Но, в силу оторванности символистов от крестьянских корней, культовый образ здесь весьма условен, а земледельческие работы обретают декоративно-орнаментальное воплощение к ак некое красивое «убранство»:
«О, как тебе к лицу, земля моя, убранства
Свободы хоровой! —
И всенародный серп, и вольные пространства Запашки трудовой!..» 19.
Концепции почвенничества в ХХ в. нашли отражение в творчестве русской эмиграции первой волны: особенно в рассказе М. Осоргина «Земля» (1929), запечатлевшего в нем свое сакральное переживание:
« Любовь к земле , страстная к ней тяга, я бы даже сказал, мистическое ей поклонение, — не к земле-собственности, а к земле-матери — к ее дыханию, к прорастающему в ней зерну, к великим тайнам в ней зачатия и к ней возврата, к власти ее над нашими душами, к сладости с ней соприкосновения, — это действительно осталось во мне на всю жизнь»20.
Таковы образцы и тенденции, в которых сказалось, в традициях Достоевского, диалогическое отношение к Земле как объекту авторского переживания, культового восхищения (или отрицания). Однако на уровне художественного метода (с доминантностью символики) почвенничество не получало воплощения — вплоть до новаторских начинаний деревенской прозы.
* * *
Во всем этом коренится сложность проведения параллелей между почвенничеством в его первичном варианте и его претворением в литературе второй половины ХХ в., где выявление аналогичных взглядов требует углубления в систему художественных средств их воплощения, что не учитывается тенденциозными критиками. И не только ими.
Так, автор статьи о почвенничестве в ХХ в. опирается лишь на публицистические высказывания Абрамова, Белова, Носова, Распутина: «Писатель (Абрамов. — А. Б.) говорил о деревне как об основе русской культуры в целом: "Деревня — это глубины России, почва, на которой выросла и расцвела вся наша культура. <…> На деревенской ниве всколосилась вся русская культура, этика, эстетика, язык <…>. Тут наши истоки, наши корни"» [Кузина: 17]. Астафьев, у которого критик не нашла прямых свидетельств принадлежности к почвенничеству, вообще не упоминается. Однако параллели возможны — на уровне поэтики.
Новое почвенничество сохранило прежнюю оппозиционность, но если ранее оно было оппозиционно славянофильству и западничеству, нигилизму и революционному демократизму, то во второй половине ХХ в. — ортодоксальному интернациона-лизму21 в его ориентации на нивелированность национального начала, идеи русскости.
«"Почва" — распространенная языковая метафора, которая представлена в критическом тезаурусе 1840–1860-х гг. В прямом значении — это земля, в переносном — основа, основание, опора » [Захаров: 17]. Во второй половине ХХ в. сохранились переносные значения: «опора, основа, основание» — в художественном осмыслении идеи национальной почвы как духовного оплота русского народа. Однако в художественном мире деревенской прозы проявилось и прямое значение слова «почва» как сущностное, восходящее к архетипу Земля и крестьянскому, земледельческому мироощущению, в котором данный архетип является центральным, опорным. Недаром в одном из последних интервью В. Г. Распутин провел прямые аналогии между прямым и переносным значениями идеологемы: «Роль крестьянской среды заключается <…> в сохранении тех ценностей, которые были прежде. Имеется в виду почва — нравственная и духовная . И черпается она из самой земли , в ней сила-то»22. Отсюда именование этого мировоззрения: земле дельческое.
Почва и Земля — символы почвенничества. Несмотря на очерченные сложности в проведении возможных параллелей между теорией почвенничества и ее художественным претворением, они возможны (как и было оговорено мною ранее). Если в древнерусской системе ценностей «Русская Земля» — синоним и символ Руси-государства, то в почвенничестве Достоевского «Земля» — «овеществленная сущность», происходит сопряжение «земли» и «почвы»:
«Мы замечаем "культ Земли" , религиозное отношение к ней в творениях Достоевского, относящихся к периоду после каторги. Само "почвенничество" как "новое слово" родилось в основе там же, и стоит разобраться в том, как оно связано с учением о "земле" — овеществленной сущности . Психологическая близость обоих понятий известным образом это допускает» [Плетнев: 175].
Действительно, в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (в главе IV, подглавке «Земля и дети») Достоевский связывал обновление человечества и нации с идеей Земли как духовной почвы, из которой должно произрастать все лучшее, опираясь при этом на вековую земледельческую традицию русской цивилизации:
«…родиться и всходить 23 нация, в огромном большинстве своем, должна на земле , на почве , на которой хлеб и деревья растут. <…> А между тем если я вижу где зерно или идею будущего — так это у нас, в России. Почему так? А потому, что у нас есть и по сих пор уцелел в народе один принцип и именно тот, что земля для него всё 24, и что он всё выводит из земли и от земли, и это даже в огромном еще большинстве. Но главное в том, что это-то и есть нормальный закон человеческий. В земле, в почве есть нечто сакраментальное »25.
Концептуальная преемственность очевидна. Различие же в том, что Мать-Земля в художественном мире Астафьева, Распутина и других деревенщиков — субъект, а не объект жизнедеятельности. Главное здесь не отношение к «овеществленной сущности», но сама сущность как таковая. В поэтике таких мыслителей, как Астафьев, Распутин, Земля — художественный образ-символ, который принимает, в духе органической теории почвенничества, на себя важнейшие функции: обеспечивает жизнедеятельность человечества, постоянное возрождение Жизни, проходящей через циклы умирания-жизневоскресения.
Этот лейтмотив присущ всему творчеству Астафьева, он соединяет его первые лирико-философские миниатюры из «Затесей» с лирическими отступлениями о власти Земли в «Проклятых и убитых». Еще в 1960-х гг. новелла «Ясным ли днем» о талантливом певце, жертве войны, завершается финальной доминантой — образом Земли, принимающей на себя высокую миссию спасения человека, залечивания ран войны и сохранения мира. Земля здесь — активно действующая сила, не просто дополняющая типологический ряд героев и персонажей рассказа, но венчающая его вечным символом мира и добра. Отметим особенности финала новеллы, где в ночном безмолвии этот ряд отходит в фоновый план: люди спят, все спят — живые и мертвые. А на первый план выдвигается обобщающий образ Земли, охраняющей их покой.
«Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с яркими, игластыми звездами. Такие звезды бывают лишь осенями, вызревшие, еще не остывшие от лета. Покой был на земле. Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Из тлеющих солдатских тел выпадывали осколки и, звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли .
Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила отзвуки битв собою »26.
Антипочвенничество
Согласно энциклопедическим статьям, с конца XIX в. термин «почвенничество» обретает противоположные смыслы и «начинает использоваться радикально-революционным крылом интеллигенции в качестве синонима консерватизма и архаичности воззрений того или иного политического движения. В этом значении существует в политической публицистике и поныне»27. И не только в политической публицистике, но и, как мы уже не раз убедили сь, в цеховой литературной критике.
С одной стороны, почвенничество становится в борьбе с такой критикой весомым оружием и провозглашается «будущим России» [Тимофеев]. С другой, в «лучших» традициях революционных радикалов, объявляется реакционным ретроградством, как в главе «"Неопочвеннический" традиционализм — революция и реакция» из книги о деревенщиках [Разувалова]. Не разобравшись в почвенничестве как таковом и его претворении в поэтике этих писателей, критик делает его синонимом «плохого» консерватизма и традиционализма, которые сообща подверстываются под ретроградство. Неслучайно имя того же Астафьева практически выпадает из этой главы, поскольку никаких доказательств тому в художественном мире его прозы, да и в прямых высказываниях, найти невозможно28. Получается, литературность отделена от идеологии, потому критику можно жонглировать любыми абстрактными понятиями.
Художественная материализация «почвы-земли»
Итак, в ХХ в. на уровне литературного письма состоялась «материализация» предшествующей идеологемы: возник пластически зримый, художественный о браз-символ Земли-«почвы» как средоточия всего сущего. Не здесь ли состоялось искомое еще героями Достоевского сопряжение земли и неба?
Думается, именно художественная «материализация» мысле-образа почвенничества стала одним из импульсов к рождению метода символического реализма в деревенской прозе, где символ обрел воплощение сугубо на земных основаниях. Первообраз Земли (Матери) преобразуется в символ как производную (в системе литературной поэтики) величину. Яркий пример — образ-символ Матёры (земли-острова и деревушки на нем) в знаменитом «Прощании с Матёрой» Распутина.
Очевидно, «виной» художественных преобразований было и смещение к материализму: переворот в умах, произведенный марксизмом-ленинизмом. Чтобы противопоставить ему иную идеологию через опубликованное слово в подцензурной ситуации 1960–1980-х гг., надо было мыслить в той же системе координат, даже с однокорневыми именованиями: Земля- Матёра как символ Ру-си-России православно-земледельческой и Матер иализм разрушающей ее индустриализации и урбанизации.
В строе поэтики, на уровне образной доминанты, произошла актуализация прямого значения слова-идеологемы «почва» в «волнующие минуты полного слияния с родной землей »29. Образ Земли-«почвы» обрел значение высокого символа, уже на художественном, а не умозрительном уровне вмещая в себя все остальные переносные смыслы: опора, основание, народные начала, русская идея.
Идеологема и художественный метод
Наиболее наглядно в художественной системе Астафьева это видно на примере «Оды русскому огороду», где малая пядь Русской Земли вмещает в себя взращенную веками земледельческой практики систему ценностных ориентаций в ее возвышенно-созидательной сущности: « …все сущее вместилось в темный квадрат огорода »30. Идеологема «почва»-земля визуализируется в самой художественной материи этого уникального произведения, где на наших глазах начинается возвращение автора, героя и читателя — силой памяти — к родной земле и своему подлинному «я», утраченному в разломах войны и исторических катаклизмов.
« Память моя, память , что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги , все морочней обрез земли , и каждая дальняя вершина чуд ится часовенкой, сулящей успокоение»31.
Почва здесь и метафора, и «реальный» пластический образ, по закону исторической инверсии (М. М. Бахтин) отодвигающийся на эстетическую дистанцию:
«Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди , умевшие любить тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату — ответную любовь»32.
«Почва» обращается в идеал-образ родной «истинной земли».
Отметим тут и точки схождения с великими предшественниками: «Для Достоевского "почва" — все, что родит и роднит: народ, родина, родная речь, родная земля. Их объединяет тайна России» [Захаров: 23]. Для сравнения, образ России-«поля-почвы», в ореоле почвеннического мировосприятия, возникает в публицистике Распутина. Говоря о путях духовного выживания русского народа (особенно крестьянства) в «катастройку», он уповает:
«Тут сама земля помогала, она внушала, что может быть с общественным полем России , если засеять его сорняками»33.
У Астафьева в «Оде русскому огороду » внутренняя масштабность сходного образа-символа вызывает идейно-художественное расширение: от малого квадрата обихоженной землицы — до всей Руси Великой, Земли Русской. Такое расширение заложено в композиционной организации этой лирико-философской повести и захватывает всю образную, жанровую структуру «Оды»: от образа автора-повествователя, воскрешающего память о родной земле и себе, крестьянском ребенке, до эстетического идеала, материализованного на эстетической дистанции.
«Если бы огород был памятен только тем, что вскормил и вспоил мальчика, дал ему силу и радость жизни, первые навыки в труде, он бы и тогда помнил его свято, и так же трепетно билось бы его сердце, как бьется ныне, когда по всей Великой Руси обнажаются из-под снега, вытаивают вспоротые квадраты земли на задах дворов, по-за селом, в опольях, на загородных пустырях, на склонах гор и подле железнодорожных путей, в болотинах и песках, возле озер и рек — повс юду, где обитают живые люди»34.
Рождение идеал-образа
Важно отметить, что материализация почвенной идеологемы происходит в деревенской прозе не в сугубо реалистических образах: процесс гораздо тоньше, и не только ведет нас к потаенным пластам культурной памяти нации, но и словно заново рождает их с участием все новых и новых читателей. В этом магия поэтики Астафьева и других деревенщиков, воссоздающих образы утраченного.
Именно в претворении идеологемы через образ Руси-Деревни проявляется закон эстетизации явления на пороге его исчезновения , определяющий поэтику авторов «Последнего поклона», «Последнего срока», «Прощания с Матёрой» и, посредством эстетической дистанции, возводящий символ «почвы»-земли до высокого идеала .
Мотив подобного преображения заложен в жанровой системе Астафьева и Распутина, обратившихся к средневековому жанру видения. У Астафьева «Видением» назван целый раздел в книге «Затеси» и, соответственно, миниатюра 1972 г., посвященная восстановлению разрушенных, утраченных было православных святынь. Совсем иная по содержанию и стилю, однако сходная по жанру лирико-философская миниатюра, также названная «Видение» (1997), присутствует и в литературном наследии другого классика — Распутина, что позволяет судить о востребованности этого жанра деревенской прозой. Сутью распутинского «Видения» становится идея неразрывной, органической взаимосвязи человека и его «почвы» как всего сущего на земле:
«Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл — и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево!
Рядом с речкой, затихшей настолько, что не шевелится течение, я иду среди берез к мостику, ступая радостно по твердой земле …»35.
В художественном мире этого писателя, склонного к идее метаморфоз, прозрениям на грани (не)бытия, возможно и совсем иное прочтение финала его канонической повести-прощания, ранее соотносимое, кажется, лишь с мотивом неизбывного окончания земных сроков и форм. В «Прощании с Матёрой» Распутина (1976)36 заложенная в реалистическом сюжете неизбежность исчезновения земли–«почвы» перекрывается неопределенностью открытой концовки и катарсически разрешается (возможным) сохранением образа Матёры (земли-острова-деревни) в эстетической памяти читателя — возвышением до символа Русской Земли как духовно-нравственной основы русского народа. Этому способствует островная символика в контексте традиций литературы русского Средневековья и православия, образы крестьянок-праведниц.
Повесть построена по принципу композиции с обратной перспективой, чему способствует открытая концовка, словно переносящая персонажей повести в некое инфернальное измерение, введение фольклорно-мистического персонажа (Хозяина) и сюжетная возможность спасения оставшихся на Матёре жителей. По закону инверсии, реализации которого способствует атмосфера условности изображаемого мира, уже скрытого в кромешной тьме тумана, насыщенного сверхчеловеческими силами, открываются возможности изменения художественной реальности — восстановления, силой культурной памяти читателя, рая неутраченного, воскрешенного.
Прочтение повести в ее финальной незавершенности, неокончательности возможно в амбивалетном темпоральном поле, соотносимом с неопределенным, эфемерным будущим земли-почвы и ее обитателей и — сакрализованным прошлым, баснословными временами Матёры. Настоящее настолько ирреально, что его как бы не существует: все внимание автора, персонажей и читателя сосредоточено в силовом поле между прекрасным прошлым, где локализованы их идеалы процветания родной Матери-Земли, и — зияющей пустотой Nihil, где скоро исчезнет земля-почва и мир погрузится во мрак небытия. С философской точки зрения в ее отношении к будущему, это колебание между исторической инверсией, которой «соответствует провозглашение "начал" как незамутненных, чистых истоков всего бытия и провозглашение вечных ценностей, идеально-вневременных форм бытия», и — эсхатологизмом, где «будущее мыслится как конец всего существующего, как конец бытия (в его бывших и настоящих формах)» [Бахтин: 298].
Подобно «Оде русскому огороду», «Пастуху и пастушке» Астафьева, здесь проявляются потенциальные возможности художественного образа — в его реконструкции силой памяти. Как в «Пастухе и пастушке», пролог и эпилог которой содержат установки на воссоздание образа погибшего воина-защитника, лежащего в живородящей земле-почве посреди России, «Прощание с Матёрой» начинается с соединительного союза « и », символическое значение которого в утверждении идеи вечного Жизнесотворения не раз отмечал и Астафьев:
« И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду…»37.
Включение жизни острова-деревни, «почвы»-земли в этот нескончаемый ряд дано как вербальная доминанта. Построение первой фразы, по определению несущей начальную рецептивную установку для читателя, антиномично, как и именование повести, в котором заложены два идейно-смысловых полюса: идея прощания и идея Матери-Земли — неизбежного конца и вечного возрождения. Вторая часть фразы напрямую соотносится с первой, противореча ей мотивом неизбежного умирания, исчезновения:
«…Но последняя для Матёры , для острова и деревни, носящих одно название»38.
Проявляющиеся через сюжетно-мотивный комплекс скорбные смыслы повести возвышают образ земли-«почвы» до « гранди-оз ного символа уничтожения народной жизни», как сказано было Солженицыным в слове при вручении премии Распутину39.
Повторяющееся затем в начале фраз слово «опять» подкрепляет первую, позитивную часть зачина, неся в себе идею вечного движения жизни, но дальнейшее развитие повести о гибели земли-«почвы», вступая с этой идеей в противоборство, создает крайнюю напряженность внутренней коллизии. Противочувствие (термин В. Выготского) разрешается в финале через идеальную проекцию на спасение Земли в культурной памяти читателя, обращая его к исходной картине «рая утраченного-возвращенного»:
«Пышно, богато было на матёринской земле — в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест глядючи, душу, прикидывать урожай. Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до страдованья, не надсажаясь, подступающую день ото дня работу, — так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь»40.
(Анти)Почвенничество в поэтике «позднего» Астафьева
Однако в метаморфозах идеи земли-«почвы» у деревенщиков есть и противоречия: особенно в поздней прозе В. Астафьева. Антипочвеннические мотивы звучат в повествовательной речи автора в «Веселом солдате», где почва-поле, земля появляются не только как возрождающие, но и смертоносные силы, перерабатывающие для живых человеческие жизни, в ней похороненные. Виной тому война, однако, по Астафьеву, истоки таятся не только в ней как во внешней силе, но и в самой природе человека, эту силу пробуждающего:
«Нечего сказать, мудро устроена жизнь на нашей прекрасной планете, и, кажется, "мудрость" эта необратима, неотмолима и неизменна: кто-то кого-то все время убивает, ест, топчет, и самое главное — вырастил и утвердил человек убеждение: только так, убивая, поедая, топча друг друга, могут сосуществовать ин дивидуумы земли на земле »41.
Однако лейтмотив, звучащий на протяжении всего творчества Астафьева, един: идея Жизневоскресения утверждается в образе
Земли как возрождающей почвы. Такова мировоззренческая аксиома автора: «… Война временна, поле вечно …»42. Даже в самом трагическом произведении Астафьева о войне, романе «Прокляты и убиты» (откуда взята эта цитата), наряду со смертоносными хронотопами «ямы» и «плацдарма», появляется символический образ живородящего хлебного поля — в преодоление разрушительной силы Войны. На сопротивлении этой силе построено отдельное пространное лирико-философское отступление, где противоборство Войны и Мира разрешается торжеством вечно возрождающейся Земли-почвы как бесконечного хлебного поля:
«Хлебное поле едино в своем бедствии и величии, оно земной бороздой соединено со всеми полями Земли, и воспрянет, воспрянет, засияет хлебное поле на западе и на востоке, и в искитимской стороне, на сибирском приволье воспрянет. Земле-страдалице не привыкать закрывать зеленями и деревьями гари, раны, воронки — война временна, поле вечно , и во вражьем стане, на чужой стороне оно отпразднует весну нежными всходами хлебов, после огня и разрухи озарится земля солнечным светом спелого поля, зазвучит музыкой зрелого колоса, зазвенит золотым зерном. И пока есть хлебное поле, пока зреют на нем колосья — жив человек и да воскреснет человеческая душа, распаханная Богом для посевов добра, для созревания зерен созидательного разума »43.
Укрепление такой идейно-художественной доминанты в поэтике писателя происходит через модификации лирикофилософского жанра: от соответствующих «затесей» как жанра быстрого реагирования (эссе, миниатюр, заметок, наблюдений) до излюбленных астафьевских отступлений, зарницами прорезающих сумрачную материю романа о войне. Так лирикофилософское отступление в «Проклятых и убитых» напоминает картины и идеи книги «Затеси», где в миниатюрах разных лет утверждается идея: все на свете идет от Земли и Землею рождается.
За пределы идеологем
Думается, не следует ограничивать художественную идеологию Астафьева или Распутина каким-либо одним направлением философской мысли. И хотя у них присутствуют элементы консерватизма (в частности, отказ от революционности в пользу эволюционного развития общества) или либерализма (открытость Астафьева европейской культуре на уровне жанра, интертекстуальности и ориентация на общечеловеческое в искусстве), поэтика этих художников куда сложнее и многограннее. Однако определенные схождения существуют, и они существенны.
Земля-Почва не только в переносном, но и в прямом значении слова-идеологемы обретает в поэтике Астафьева, Распутина (и деревенской прозе в целом) высокое символическое звучание, вырастая до статуса эстетического идеала, который должно сохранить в памяти нации. Это и высокий символ «О, Русская Земля» в контексте войны и мира, это и «вертоград многоцветный» в духе средневековой поэтики, это и плодоносящее «общественное поле» в вечном природном Жизневоскресении. «Уже не кажется больше растительным философствованием, — признается автор одного из дивных "Видений" деревенской прозы, — будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл — и люди, и деревья, и птицы»44.
Такова претворенная в русской литературе второй половины ХХ в. идеология почвенничества как органического мировосприятия, которое получило художественную материализацию в образной структуре символического реализма, предоставившего писателям широкие возможности для выражения своих взглядов в подцензурной ситуации.
Список литературы Почвенничество и символический реализм В. П. Астафьева и В. Г. Распутина
- Бараков В. Н. "Почвенное" направление в русской поэзии второй половины XX века: типология и эволюция: дис.. д-ра филол. наук. М.: МПГУ, 1998. 408 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.dissercat.com/content/pochvennoenapravlenie-v-russkoi-poezii-vtoroi-poloviny-xx-veka-tipologiya-i-evolyutsiya (10.03.2023). EDN: NLLJRD
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 502 c.
- Виноградов В. В. О языке художественной прозы: избр. тр. М.: Наука, 1980. 360 с.
- Захаров В. Н. Почвенничество в русской литературе: метафора как идеологема // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. Вып. 10. С. 14-24 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429867257.pdf (10.03.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2012.335 EDN: PIXFFX
- Кузина А. Н. Традиции почвенничества в русской литературе второй половины ХХ века // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2011. № 8. С. 16-22. EDN: ORCLYB
- Микитюк Ю. М. Концепты христианского и национального в культурно-исторической теории почвенничества: дис.. канд. культурологии. СПб., 2011. 23 с. EDN: UPMSHG
- Плетнев Р. Земля (из работы "Природа в творчестве Достоевского") // О Достоевском: сб. ст. / под ред. А. М. Бема. Paris: Amga editions, 1986. С. 175-184.
- Разувалова А. И. Писатели-"деревенщики": литература и консервативная идеология 1970-х годов. М.: НЛО, 2015. 616 с. EDN: XVKRWX
- Страхов Н. Н. Мир как целое: черты из науки о природе. М.: Айрис-пресс: Айрис-Дидактика, 2007. 569 c.
- Тимофеев А. Почвенничество как будущее России. Ответ на статью С. Морозова "В тени Распутина" в "Литературной России" // День литературы. 2016. 11 апреля [Электронный ресурс]. URL: https://denliteraturi.ru/article/1648 (10.03.2023).