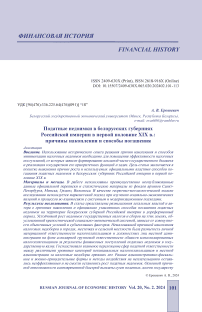Податные недоимки в белорусских губерниях Российской империи в первой половине XIX в.: причины накопления и способы погашения
Автор: Ерошевич А.В.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Финансовая история
Статья в выпуске: 2 (65) т.20, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Использование исторического опыта решения причин накопления и способов минимизации налоговых недоимок необходимо для повышения эффективности налоговых поступлений, от которых зависят формирование доходной части государственного бюджета и реализация государством его приоритетных функций и задач. Цель статьи заключается в попытке выяснения причин роста и используемых официальными властями способов погашения податных недоимок в белорусских губерниях Российской империи в первой половине XIX в.
Прямые налоги, окладные подати, подушное налогообложение, белорусские губернии, российская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/147243595
IDR: 147243595 | УДК: [94(476):336.225.64(476)(091)] | DOI: 10.15507/2409-630X.065.020.202402.101-113
Текст научной статьи Податные недоимки в белорусских губерниях Российской империи в первой половине XIX в.: причины накопления и способы погашения
От эффективности налоговых поступлений зависят формирование доходной части государственного бюджета и реализация государством его приоритетных функций и задач. Поэтому изучение и использование положительных и отрицательных аспектов исторического опыта решения причин накопления и способов минимизации налоговых недоимок представляет научный интерес.
В то же время по сформулированной автором теме исследования в указанный период времени и территориальных рамках отсутствуют сколько-нибудь значительные научные статьи. Разумеется, при анализе особенностей налогообложения различных групп населения и сфер торгово-промышленной деятельности в Российской империи в первой половине XIX в. [1] историки отмечали факт роста податных недоимок, но специально не пытались выяснить истинные причины их увеличения, формы и средства борьбы с этим явлением. Среди работ, в которых упоминается о процессе формирования налоговой задолженности крестьян Российской империи в дореформенный период, следует отметить исторические труды В. И. Неупокоева [3; 4]. При изучении уровня материального благосостояния населения имперской России Б. Н. Миронов обратил внимание на доходы, налоги и повинности основных сословий российского общества в 1801–1860 гг. [2, c. 241–260]. Историк поставил вопрос: почему люди не спешили платить недоимки? Он отметил, что наличие податных и земских недоборов выступало доказательством напряжения средств налогоплательщиков, подчеркнул, что суммы денежных задолженностей государству регулярно прощались верховными властями. В результате корреляционного анализа зависимости между величиной текущих платежей и уровнем недоимочности крестьян и мещан исследователь пришел к выводу, что недоимки были меньше в губерниях, где государственные налоги и повинности были выше.
Целью данной статьи является попытка выяснения причин накопления и используемых официальными властями способов погашения податных недоимок в белорусских губерниях Российской империи в первой половине XIX в.
В работе использованы преимущественно неопубликованные данные официальной переписки и статистические материалы из фондов Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге, Национальных исторических архивов Беларуси в Минске и Гродно, Государственного исторического архива Литвы в Вильнюсе.
Статья основана на применении общенаучных и традиционных специально-исторических (историко-сравнительный, историко-системный) методов исследования на базе марксистской научной парадигмы изучения социально-экономических явлений и процессов во взаимосвязи с системным и модернизационным подходами.
Результаты исследования
Состояние недоимок государственных податей в 1828–1848 гг. в белорусско-литовском регионе Российской империи
Согласно действующему законодательству Российской империи недоимкой считался казенный налог, не внесенный в установленный срок в государственную казну за половину года, но чаще всего за минувшие годы.
Недоборы окладных податей начались уже при учреждении подушной системы налогообложения в XVIII в. и продолжались позднее. По нашим подсчетам, в белорусско-литовском регионе Российской империи: Виленской, Гродненской, Минской, Витебской, Могилевской, Ковенской губерниях (с
1844 г.), Белостокской области (до 1843 г.) – с 1828 до 1840 г. общая сумма податных недоимок выросла в 2,9 раза, с 4 950 323 до 14 357 830 руб. ассигнациями (их удельный вес в Российской империи поднялся с 6,43 до 14,14 %, в среднем составил 10,67 %), а с 1841 до 1848 г. – в 2,28 раза, с 4 681 613 до 10 690 251 руб. серебром (их относительная доля в императорской России повысилась с 13,83 до 19,66 % и в среднем достигла 14,8 %).
Податные задолженности неравномерно распределялись по отдельным губерниям белорусско-литовского региона. За период с 1828 до 1840 г. и с 1841 до 1848 г. их удельный вес в Виленской губернии упал с 23,01 до 15,34 %, в Минской – с 11,7 до 6,87 %. В Витебской губернии относительная доля податных недоимок повысилась с 24,89 до 29,95 %, осталась без значительных изменений в Гродненской (несколько снизилась – с 8,75 до 8,23 %) и в Могилевской губерниях (незначительно выросла – с 30,11 до 31,52 %). Ковенская губерния давала 8,1 % всей суммы податных недоимок белорусско-литовского края. Таким образом, в 1840-е гг. на долю Витебской и Могилевской губерний приходилось 61,47 % размера податных недоимок белорусско-литовского региона1. В структуре податных сборов шести белорусско-литовских губерний к 1848 г. недоимки государственных податей составляли 74,12 %, винокуренной пошлины – 22,06, пени – 3,81 %.
По степени ежегодных недоборов государственных податей и земских повинностей на ревизскую душу мужчин к 1847 г. Витебская и Могилевская губернии занимали первые места в Российской империи: в помещичьей деревне недоимки составляли соответственно 26,5 и 24,0 % к окладу, в государственной деревне – 39,75 и 26,0, среди горожан – 43,5 и 44,5 %. Это обстоятельство объясняется последствиями неурожайных лет.
По официальным данным, среди 47 губерний императорской России в поме- щичьей деревне денежная задолженность государству отсутствовала в 12 губерниях, в государственной деревне – в 14, среди городских сословий – в 8 губерниях. Недо-боры менее 5 % от оклада были зафиксированы в помещичьей деревне в 24 губерниях, в государственной деревне – в 15, среди горожан – в 21 губернии. Недоимки, которые составляли от 6,75 до 26,5 % суммы к окладу, были отмечены в 11 губерниях в помещичьей деревне; от 6,75 до 39,75 % от оклада – в 18 губерниях в государственной деревне; от 6,75 до 44,5 % от оклада – в городах 18 губерний [3, табл. 4–6]. Податные недоимки в городе и деревне не были упомянуты только в Олонецкой, Вологодской, Вятской губерниях.
Причины роста недоимок государственных налогов и сборов
Представители администрации центральных и местных органов государственной власти и управления ссылались на недостатки налогового администрирования: отмечали «недеятельность» и «нерадение» подчиненных им учреждений и должностных лиц, «небрежность» в исполнении обязанностей служебного долга со стороны членов городской и земской полиции, обращали внимание на их послабления, бездействие, «слабость настояний», «потворство». Одним словом, легальные власти считали, что накопление значительных сумм недоимок государственных налогов и сборов зависело не от величины налоговых окладов, а порождалось несовершенствами в способах и средствах их взыскания, следовало из-за слабого надзора помещиков за крестьянами и обусловливалось бездействием местной администрации.
Так, в каждом уезде Витебской губернии в 1854 г. только 1/8 часть (12,5 %) преимущественно мелкопоместных помещиков бездоимочно выплачивали государственные налоги. Основаниями для накопления податных недоимок местный губернатор назвал недостатки в деятельности полиции, сводил к уклонению от платежей еврейских общин, которые несколько лет выплачивали только часть коробочной суммы, объяснял несоблюдением правил канцелярской отчетности при раскладке и сборе государственных налогов общинами и должностными лицами, обосновывал злоупотреблениями помещиков по поводу налоговых сборов2. Из-за небольших темпов пополнения денежными средствами государственной казны некоторым чинам земской полиции за медлительность действий и бездействие были объявлены выговоры с угрозами снятия с должностей. Члены городских дум и кагалов при взыскании налоговых недоимок несли ответственность собственным «имением» (собственностью. – А. Е.). Для очищения сумм государственных денежных задолженностей губернатор командировал в уезды чиновников, которые для устранения податных недоимок организовали продажу продовольственных продуктов в описанных за казенные долги имениях, и вырученные доходы обращали в счет возмещения недоборов. Богатые помещики не выплачивали недоимки с надеждой на получение монарших «милостей». Помещики считали, что правительство в будущем дарует им выплату налоговых недоимок, и в их среде укоренилась надежда на императорские налоговые уступки. Главными причинами малого поступления сумм податных недоимок губернатор считал слабые средства «понуждения». Однако значительные податные недоборы были обусловлены неурожаем хлеба, падежом скота, увеличением денежных и натуральных земских повинностей, необходимостью обустройства помещиками церквей и домов для священно- и церковнослужителей. Если в великороссийских губерниях крестьяне повсеместно сами за себя уплачивали государственные налоги, то в Витебской губернии помещики большей частью сами вносили недоимки за своих подданных. Для быстрого получения сумм денег землевладельцы продавали хлеб сразу и дешево. Городские общества большую часть налоговых недоимок раскладывали на отсутствующих лиц, особенно евреев3.
В Гродненской губернии в качестве причины увеличения податных недоимок губернатор назвал несостоятельность большинства помещичьих имений: «Хозяйство их доставляет им ничтожный прибыток, едва достающий на удовлетворение необходимых нужд без остатка». Препятствием к улучшению хозяйства «служит любовь (помещиков. – А. Е. ) к старинному порядку», и недостаток денежных оборотных средств4. В 1858 г., когда в Гродненской губернии принимались строгие и решительные меры к очищению недоимок, одной из причин их увеличения было уменьшение численности ревизского населения на 50 388 душ мужского пола между 9-й и 10-й народными переписями5.
Одну из характерных черт дореформенной налоговой системы – хронический рост недоимок государственных налогов и сборов – возможно расценивать по-разному. Налогоплательщики или реально не могли и не имели материальной возможности, или просто не желали выплачивать текущие обязательные государственные платежи налогового характера и погашать недоимки прошлых лет? Свидетельствовало ли увеличение налоговых недоимок о непосильности налогового ярма и выступало убедительным показателем тяжести налогообложения для крестьян и мещан – основных категорий налогоплательщиков? Являлись ли податные недоимки следствием временных бедствий (неурожаев, эпизоотий, пандемий и др.) или были существенным недостатком дореформенной подушной системы налогообложения?
Советские историки-аграрники (В. И. Не-упокоев, Н. М. Дружинин и др.) считали недоимки хроническим явлением, неотъемлемым атрибутом дореформенной налоговой системы, которые были обусловлены крепостническо-фискальной системой хозяйствования и свидетельствовали о ее кризисе. Государственная фискальная эксплуатация крестьян обостряла классовую борьбу в деревне, углубляла кризис крепостнических производственных отношений [4, с. 88].
На наш взгляд, накопление податных недоимок в белорусских губерниях Российской империи обусловливалось рядом факторов.
Отсутствовал механизм надлежащего административного надзора и контроля за своевременной и полной уплатой текущих окладных налогов и поступлением налоговых недоимок прошлых лет, отмечены несовершенства в порядке их взыскания. Формальный принцип составления недоимочных регистров (ведомостей) расширил канцелярскую переписку между различными учреждениями, вызвал рост документооборота официальных бумаг. Перемещение между властными инстанциями и должностными лицами различных сообщений и предписаний насчет неотложного сбора текущих окладных налогов и взыскания податных недоимок прошлых лет «размывало» личную ответственность должностных лиц на фоне солидарной, тем более что ни регулярных внутренних финансовых проверок, ни ревизий не проводилось.
Уездные казначеи, которые принимали деньги и выдавали квитанции, только подсчитывали суммы податных недоимок. Казенные палаты обобщали сведения уездных казначейств и составляли общие ведомости о недоборах государственных податей, которые отсылали для уведомления и выполнения разным учреждениям. Губернское правление поручало взыскание недоимок в уездах земским уездным судам (земским исправникам, становым приставам), в городах – городничим, полицмейстерам, членам городских дум, магистратов, ратуш. Но по- лицейские чины должны были только подстрекать и склонять неплательщиков к сдаче денег в государственные кассы без права собственного сбора финансовых средств. Другими словами, процветал внешний формализм. Земские исправники с низкими окладами государственного жалованья считали, что им было выгоднее не взимать денежные задолженности со злостных неплательщиков-помещиков, чтобы заручиться их поддержкой, и иметь возможность получения «подарков» в локальном сообществе господства родственных связей и отношений. Полицейские чины в городах и местечках с невысоким государственным жалованьем, руководители городских дум, магистратов, ратуш, вовсе не имевшие государственного денежного содержания или получавшие его в мизерном размере, также потворствовали накоплению податных недоимок.
Заметим также, что сроки взыскания окладных государственных налогов и погашения податных недоимок были не совсем подходящими для плательщиков. Налоговые платежи вносились дважды в год равными частями с учетом льготного времени: за первую половину года – с 1 января до 15 марта (2,5 месяца) и за вторую – с 1 октября до 15 января (3,5 месяца). Свободным от государственных платежей был шестимесячный период с середины марта до октября, или время активных сельскохозяйственных работ. Цены на сельскохозяйственные продукты были ниже осенью после уборки урожая и росли зимой, весной и в начале лета. Продажа излишков сельскохозяйственных товаров по низким ценам осенью не позволяла крестьянам иметь достаточные денежные средства для выплат и текущих окладных налогов и тем более погашения податных недоимок прошлых лет. Противоречиво сложным был период выплат государственных налогов зимой за первую половину года: с одной стороны, сезонные цены на сельскохозяйственные изделия увеличивались, с другой – до этого времени крестьяне уже не имели значительных излишков товарной продукции. К тому же период с ноября до февраля предо- ставлял малоземельным крестьянам возможность пойти по паспортам в отходные промыслы с целью поиска дополнительных заработков для получения финансовых средств.
Местные дворянские общества сигнализировали вышестоящим властям о необходимости пересмотра сроков для выплат текущих налогов и взноса недоимок прошлых лет. Так, витебский губернский маршал 9 марта 1830 г. обратился с представлением к витебскому генерал-губернатору с предложением разрешить продавать сельскохозяйственные продукты весной без взыскания пени за недоимки до 1 июля. Он советовал продолжить срок платежа государственных податей за первую половину года вместо 15 марта до 1 июля. Причины трудностей взноса в определенный срок государственных налогов и сборов земской повинности он объяснял малым оборотом наличных денег. Для выплаты государственных налогов и оплаты различных казенных повинностей помещики сбывали свои продукты за наличные деньги значительными партиями, однако малыми частями, оптом под кредитные обязательства с назначением сроков для платежа. Продажа товаров в губернии начиналась со времени открытия зимней дороги, по которой вывозили лен в Ригу, а муку и крупы по контрактам сдавали во внутренние пункты Витебской губернии. Вырученные за продажу продуктов деньги служили источником для платежа государственных податей и сборов за вторую половину года, обычно с 15 сентября по 1 января. Однако возникали трудности взноса государственных податей за первую половину года – с 1 января до 15 марта, поскольку необходимые для платежей деньги поступали или от розничной продажи ярового хлеба, который покупался для обсева полей, или за счет запасов ржи, которые использовались для пропитания людей весной и летом до нового урожая. В целом продажа излишков сельскохозяйственных товаров в основном осуществлялась землевладельцами с апреля до июня или июля. Поэтому помещики не имели денежных средств для уплаты государственных налогов за первую половину года, а принудительные средства воздействия на неплательщиков (военные экзекуции, платежи пени, продажа движимого имущества с публичного торга, взятие имений в опеку и т. д.) не приносили особой пользы. Однако министр финансов Е. Ф. Канкрин распорядился не делать местные исключения из общего закона6.
Коллективная ответственность обществ за накопление и погашение податных недоимок
Систему мер «понуждения» неплательщиков к безотлагательному взносу податных недоимок реализовывал ряд официальных должностных лиц. Старосты или сборщики налогов, их помощники, члены городских дум и ратуш должны были напоминать о необходимости своевременного и полного исполнения взносов государственных обязательных денежных платежей мещанам, а землевладельцы – помещичьим крестьянам. «Понуждения» городским обществам налогоплательщиков мещан и граждан делали городничие, полицмейстеры, члены дум, магистратов, ратуш, а помещикам – представители земской полиции (земские исправники, становые приставы).
В то же время устанавливалась коллективная ответственность консолидированных обществ налогоплательщиков относительно увеличения, уменьшения и ликвидации сумм государственных денежных недоборов.
В городах и местечках купеческие недоимки предписывалось погашать за счет имущества членов магистратов, ратуш, городских дум, а мещанские – взимать из средств мещанских обществ. Податные недоимки мещанских обществ разрешалось компенсировать «из следующих городам из казны платежей»7.
Податные старосты и их помощники отвечали за накопление недоборов своим имуществом и подвергались за недоимку «строгому исправительному взысканию при городской думе или ратуше»8. Поэтому им важнее было не столько равномерно распределить податное бремя между плательщиками, сколько обеспечить бездоимочность денежных сборов. В городах было невозможно переложение недоимок с неспособных плательщиков на землю как основной актив получения финансовых средств. Другие же потенциальные предметы недвижимости (жилые и хозяйственные постройки, торговые и промышленные заведения) запрещалось использовать в счет погашения недоимок. В городах, расположенных по берегам судноходных рек, для налогоплательщиков было больше возможностей для заработков и получения денежной платы, нежели в деревне, но было и больше количественных и качественных издержек по поддержанию необходимого уровня жизни.
В сельской местности арендаторы, посессоры и администраторы казенных имений должны были выплачивать податные недоборы государству после продажи залогов и предоставлять финансовые ресурсы от опеки собственных поместий. Отметим, что согласно законному порядку ответственность за накопление податных недоимок, особенно винокуренной пошлины, в помещичьих населенных имениях падала на их землевладельцев, а не на крестьян. С одной стороны, в помещичьей деревне землевладельцы фактически отвечали за бездоимочный взнос государственных податей и сборов поземельным имуществом: в случае накопления значительной суммы податных недоборов предусматривалось наложение запрещений и опеки на их имения, доходы которых должны были обращаться на пополнение податных недоимок. Хотя формально главным податноответственным лицом в имении был помещик или уполномоченные им лица, на них не распространялась личная имущественная или материальная ответственность за не- уплату текущих податей и в случае накопления податных недоимок на принадлежащих им крестьянах, при сохранении права строгого контроля за способом их сбора и внутренней уравнительной раскладкой. При разделе и передачи части имения податная недоимка считалась на всем имении. В случае накопления на помещичьих имениях налоговых недоборов на их пополнение не удерживались денежные капиталы, которые выдавались землевладельцу из государственной казны. Погашение денежных государственных долгов осуществлялось за счет продажи наличного хлеба и других припасов имения, т. е. ценности, полученной в результате труда крестьян. Даже в случае наложения на имение опеки податная недоимка все равно взыскивалась с крестьян. Помещики были обязаны взыскивать накопленную крестьянами податную задолженность. Землевладельцы стремились восполнить доходы имений путем усиления эксплуатации крестьян, разоряя последних. Для крестьян же законодательно были закреплены меры наказания за неплатежеспособность по личным мотивам, однако помещики не подвергались имущественным взысканиям за хозяйственную нераспорядительность в управлении имением и «мотовство».
Меры воздействия на неплательщиков и местную администрацию
В отношении неплательщиков государственных налогов и сборов официальные власти использовали различные формы, способы, средства, меры воздействия: 1) административно-фискальные принудительные методы, среди которых взимание пени, продажа движимого имущества с публичных торгов, взятие имений в опеку с целью погашения недоимок; 2) военно-принудительные приемы (военные экзекуции), исправительные наказания (сдача злостных неплательщиков в рекруты, крестьян и мещан на принудительные работы подрядчикам). Также принимались дисциплинарные меры для усиления личной ответственно- сти представителей губернских, уездных, городских властей за результаты налоговых поступлений, когда на их имения и другую собственность могли налагаться выплаты казенных взысканий, делались задержки в выдаче жалованья, а сами они лишались должностей, привлекались судами к административной ответственности.
В государственной деревне при недоборе текущих податных платежей и недоимок вследствие «лености и мотовства» плательщиков, в случае недействия мер полицейского побуждения и общественного исправления использовались те же средства воздействия, как и в мещанских и цеховых обществах. За неплатежи «по лености и распутству» сельский сход мог применять в отношении неплательщиков такой вид исправительной телесной экзекуции, как наказание розгами. По приговору сельского схода крестьянина, допустившего накопление денежной задолженности «по нерадению или распутству», могли сдать в рекруты за общество или без зачета на поселение. Общественный приговор через палату государственных имуществ поступал для окончательного разрешения гражданскому губернатору. Если недоимка государственных крестьян была менее величины годового оклада, то палата госимуществ после положительной резолюции министра госимуществ в великороссийских губерниях могла принимать сельское общество в непосредственное хозяйственное управление до выручки всей суммы недобора. В западных губерниях сельский сход с разрешения окружного начальника госимуществ мог переводить неисправного плательщика из высшего в низший разряд (тяглых в полутяглые, полутяглых в огородники, а последних в бобыли) с предоставлением земельного участка другому благонадежному лицу. При неэффективности мер обыкновенного полицейского побуждения начальник губернии мог отправлять в уезды для выколачивания неплатежей доверенных чиновников с воинской командой, которым предоставлялась полная свобода действий во взыскании податных недоимок по личному усмотрению. Относительно недоимок, накопившихся из-за несчастных случаев, палата госимуществ могла делать представления губернатору о рассрочке, которые поступали на рассмотрение министра госимуществ, имевшего право рассрочивать на десять лет выплаты податных недоимок государственных крестьян на сумму до 6 000 руб. серебром.
В помещичьей деревне податные недо-боры в установленные законные сроки с добавлением пяти льготных дней карались взысканиями с наложением пени в размере 1 % от суммы в месяц. Далее предусматривался сбыт наличного помещичьего хлеба и других припасов, однако продажа движимого крестьянского имущества запрещалась. При наличии недоимки в размере более чем 86 коп. с души мужского пола имение поступало в опеку к дворянам той же губернии или к особым выборным чиновникам дворянского происхождения под надзор уездного предводителя дворянства и наблюдение уездного стряпчего. До погашения казенной задолженности помещику запрещались въезд в собственное имение и пребывание в нем. Текущие окладные подати, оброчные деньги и прочие хозяйственные доходы использовались для ликвидации податной недоимки, однако с требованием избегания их уменьшения. После выплаты податной недоимки имение возвращалось помещику9.
Хотя при накоплении налоговой недоимки в размере более полугодового оклада на поместья помещиков накладывалась опека, из-за неурожая хлеба государственные недо-боры часто рассрочивались, и тогда опекунское управление снималось до умножения новой задолженности государству. Опекуны, особенно мелких поместий, чаще всего расписывали доходы для прокормления крестьян, покупки лошадей, фуража, инструментов и отчисляли малую часть прыбыли для взноса налоговых недоимок. Кроме того, они неограниченно пользовались доходами с помещичьих имений, которые находились в опекунском управлении, поскольку землевладельцам не разрешалось жить в собственных опекаемых имениях. Становые приставы несколько раз в год обязывали опекунов подписками о сдаче денег для покрытия налоговых недоимок, но последние, даже после выплат, не спешили выезжать из имений, продолжали влиять на их управление, распоряжались доходами. Хотя попечителям было разрешено продавать в счет погашения налоговых недоимок только продовольственные запасы, они легко передали их в другие руки и вследствие их недействительного отсутствия сбывали продукты, даже в полях во время уборки хлеба. Процветало взаимное покрывательство опеку-нов10. В 1855 г. могилевский губернатор предложил Комитету для сокращения делопроизводства при Министерстве внутренних дел, который составил проект положения «О новом порядке действий при взыскании недоимок», имения помещиков-недоимщиков продавать согласно действующему закону о долгах кредитным учреждениям, а землевладельцев лишать права участия в дворянских выборах11, однако обсуждение законопроекта затянулось.
Одним из средств воздействия по погашению податных недоимок было военное принуждение. Неоднократно подтверждалось право губернаторов выколачивать государственные налоги и недоимки с помощью военной экзекуции (команд) (указ от 11 октября 1821 г.)12. В 1819 г. для взыскания налоговых недоимок военная команда была командирована в Кобринский уезд. В 1832 г. для сбора государственных денежных недоплат была назначена военная экзекуция в имениях Лидского уезда13. Однако выбивание податных недоимок с помощью солдат все же не достигало желаемой цели. Например, командир Невельской уездной инвалидной команды подпоручик Пылинский с нижними чинами в 1825 г. был снабжен регистром неплательщиков и направлен для «понуждения» их к взносу государственных податей и выполнения других повинностей путем военной экзекуции. Военнослужащие должны были находиться у каждого неплательщика до момента выплаты всей суммы недоимки, которая подтверждалась предъявлением квитанций. В скором времени нижний земский суд предписал, чтобы через три недели, если не появятся квитанции об уплате недоимки, они снова пришли в имения должников и воспользовались угрозой военной экзекуции. Действия нижнего земского суда доказывали, что эта мера наказания неплательщиков организовывалась для «одной проформы» или «к лучшему соблюдению выгод самых чиновников». Эти распоряжения нижнего земского суда не ускоряли процесс выплат недоимок. Нижние чины только изнурялись после беспрестанных переходов от одного помещика к другому, тщетно отвлекались понапрасну от исполнения обязанностей настоящей своей службы, изнашивали казенную амуницию14. Использование военных экзекуций при сборе недоимок было запрещено в 1855 г.15
Еще одним из путей влияния на поведение неплательщиков-евреев была практика их принудительной сдачи в рекруты. Согласно сенатскому указу от 7 октября 1830 г. и предложению цесаревича Константина Павловича, евреи за неплатеж недоимок государственных налогов сдавались на военную службу без зачета обществам за рекрут по оценке в 1 000 руб. за каждого новобранца более 20 лет (за малолетних платили 500 руб.)16. Согласно опубликованному 11 января 1851 г. сенатскому указу, с 1851 г., если в течение года еврейские общества не выплачивали сумму налоговой недоимки, они были обязаны в виде пени поставить по одному взрослому рекруту за каждые 2 000 руб. задолженности, но со времени накопления налоговой недоимки после об- народования нового закона, без учета старых долговых недоборов, рассроченных платежей до конца срока и без зачета и исключения из счетов за взятых штрафных рекрутов суммы недоимки17. Но только в Минской губернии считалось 391 тыс. руб. еврейских казенных долгов, что требовало поставки более 195 рекрутов. Практика сдачи еврейскими обществами штрафных рекрутов в счет погашения налоговых недоимок продолжалась недолго. Императорский манифест от 27 марта 1855 г. гласил, что с евреев, за оставлением сбора не более годового оклада, списывались суммы недоимок. Поставка штрафных рекрутов за государственные недоборы отпала и больше не была нужной18. Сенатский указ от 16 апреля 1857 г. окончательно освободил еврейские общества от необходимости сдачи штрафных рекрутов как меры наказания за несвоевременный взнос налоговых недоимок19.
Одним из методов борьбы с недоимками была массовая отдача крестьян и мещан на дополнительные работы подрядчикам по контрактам. Для покрытия казенных денежных долгов городские думы и магистраты отсылали мещан и граждан городов на принудительные отработки по строительству путей сообщения – шоссе и железных дорог. Так, в 1858 г. за неплатеж государственных налогов мещане-христиане Минска поступили для строительства Петербургско-Варшавской железной дороги. В 1860 г. на строительство железной дороги в Луцк из Минска отправили 120 мещан-христиан, которые получили на руки за вычетами в счет погашения государственных платежей около 15 руб. на человека20.
Как свидетельствуют архивные документы, меры дисциплинарной ответственности в отношении государственных служащих за накопление податных недоимок принимались, но не приобрели последовательный системный характер. В недеятельности, беспечно- сти, «нерадении» в исполнении служебных обязанностей чаще всего обвиняли членов земских судов, становых приставов. Например, вследствие неактивности во взыскании государственных налогов в 1844 г. были уволены с должностей два становых пристава в Лепельском и по одному – в Динабургском и Велижском уездах21. Из-за слабого поступления недоимок большей части полицмейстеров, городничих, земских исправников под угрозой увольнения с должностей в 1820–1830-е гг. была задержана выдача жалованья. Помещиков предупреждали, что они лишатся должностей и права выбирать и быть избранными в органы местного управления и самоуправления22.
Законными основаниями при взыскании податных недоимок была не только конфискация части имущества должников, но и наказание неплательщиков как преступников. Строгость законов и жесткие меры принуждения к взысканию подушных недоимок содействовали не столько пополнению государственной казны финансовыми средствами, сколько незаконному обогащению чинов полиции.
Обсуждение и заключение
Таким образом, сбор подушных податей на белорусских землях в первой половине XIX в. сопровождался устойчивым ростом недоимок государственных налогов и сборов. Значительные недоборы подушной подати в белорусско-литовском регионе Российской империи в дореформенный период, удельный вес которых постоянно повышался и к 1848 г. доходил до 20 % в общеимперском масштабе, несмотря на личный контроль императоров, уменьшали денежные поступления в доходную часть бюджетов белорусских губерний и в целом затрудняли оборот государственных финансов, углубляли хронический финансовый кризис в государстве.
В опасные годы подготовки и ведения Российской империей вооруженных конфликтов для удовлетворения военных расходов на налоговые сословия переводилось взыскание денежных недоимок в натуральной форме (продовольствие, фураж), которые имели характер реквизиций.
Очередность в системе зачетов государственных денежных платежей подтверджала, что сначала нужно было собирать текущие оклады податей, а уже потом взыскивать недоимки по ним. Наложенные на наличных работников в городе и деревне налоги и не взысканные с них податные недоимки переходили по наследству их семейным преемникам, из-за чего сумма долговых денежных налоговых обязательств государству ежегодно возрастала и нередко становилась неоплатной из-за невозможности ее компенсации за счет реализации имущества субъектов налогообложения.
Количество податных недоимок на определенных территориях разнилось при формально одинаковых окладах и мерах взыскания с представителей определенного податного состояния. Жесткие административно-фискальные и военно-принудительные меры воздействия на неплательщиков, угрозы исправительных наказаний в отношении последних оставались неэффективными и не смогли остановить рост податных недоимок. Практика взыскания и система выколачивания податных недоимок порождала фискальное своеволие.
В целом рост и слабое поступление сумм податных недоимок в белорусских губерниях Росийской империи в дореформенный период объясняется совокупностью объективных условий и субъективных факторов, среди которых последствия неурожаев и иных стихийных явлений, рост совокупных государственных денежных сборов, невозможность получения ответственными налогоплательщиками значительных сумм денег в результате сезонной продажи сельскохозяйственной продукции по невысоким ценам, недостаток у помещиков оборотных капиталов, просчеты в механизме налогового администрирования и процветающий канцелярский формализм (наблюдались недостатки в оперативно-бухгалтерском учете начисления текущих государственных пода- тей, сборов, пошлин и других обязательных платежей, регистрации сумм податных недоимок и др.), не совсем удобные и приемлемые для плательщиков сроки взноса текущих податей и погашения недоимок и др.
С одной стороны, одной из причин увеличения податных недоимок в белорусских губерниях была значимость, в первую очередь из-за невозможности «добычи» денег, совокупных налоговых окладов основной подушной подати в сочетании с другими дополнительными земскими, общественными, мирскими, продовольственными и другими сборами, темпы роста которых опережали платежеспособные возможности основной массы крестьян. Крестьянское хозяйство страдало из-за малоземелья, низкой производительности сельскохозяйственного труда, имело небольшой уровень товарности. На степень состоятельности сельских хозяев влияли хронические неурожаи хлеба, недостаточные возможности для получения финансовых средств от дополнительных неземледельческих заработков.
Немаловажными причинами накопления налоговых недоборов в городах, местечках и сельской местности, на наш взгляд, были минимизация и размытость индивидуальной материальной ответственности налогоплательщиков и должностных лиц местной администрации на фоне солидарной групповой ответственности обществ консолидированных налогоплательщиков за результаты финансовых поступлений податных недоимок в государственную казну. Господствовало взаимное переложение сфер податной ответственности между различными уровнями категорий потенциальных налогоплательщиков и местной администрации за налоговые недоборы прежних лет. Товарищества субъектов окладного налогообложения, особенно мещан-евреев, стремились разложить суммы податных недоимок, вопреки законному порядку, на отсутствующих членов корпорации. Крестьяне и мещане уклонялись от выплат податных недоимок прошлых лет, поскольку в первую очередь и довольно исправно стремились внести текущие оклады налоговых платежей и не считали необходимым погашать денежные долги государству, особенно предыдущих поколений налогоплательщиков в отдаленных годах. Помещики не спешили погашать податные недоимки из-за возможных даруемых правительством налоговых льгот. Значительные податные недоимки еврейских мещан в городах и местечках обусловливались их психологическими установками и стереотипами.
Основной причиной накопления податных недоимок и невозможности их единовременной или рассроченной быстрой выплаты был недостаток материально-финансовых ресурсов у основных по численности категорий налогоплательшиков – кре- стьян и мещан, а не средства принуждения и не строгие меры взыскания с неплательщиков. В то же время возможности быстрого погашения податных недоимок зависели от традиционных стереотипов поведения и образа действия, социально-психологических установок ответственных субъектов налогообложения. Недоимки государственных налогов и сборов обусловливались крепостнической социально-экономической системой, на основе которой формировались принципы государственной налоговой политики царизма с ее ярко выраженным сословным характером.
Список литературы Податные недоимки в белорусских губерниях Российской империи в первой половине XIX в.: причины накопления и способы погашения
- Марискин О. И. Налоговое регулирование пивоваренной промышленности в России в первой половине XIX в. // Экономическая история. 2022. Т. 18, № 2. С. 113-118. EDN: LDAAYB
- Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII - начало XX века. 2-е изд., испр. и доп. М.: Весь мир, 2012. 848 с.
- Неупокоев В. И. Государственные повинности крестьян в России в середине XIX в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1966 г. Таллин, 1971. С. 348-360.
- Неупокоев В. И. Государственные повинности крестьян Европейской России в конце XVIII - начале XIX века. М.: Наука, 1987. 288 с.