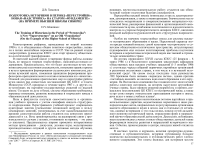Подготовка историков в период «перестройки»: новая «надстройка» на старом «фундаменте» (на примере высшей школы Сибири)
Автор: Хаминов Дмитрий Викторович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 62, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе впервые использованных архивных документов реконструируются процессы, протекавшие в советском высшем историческом образовании в период «перестройки» второй половины 1980-х гг. Географически статья охватывает университеты и институты Сибири. Актуальность темы исследования вытекает из исключительной важности системы исторического знания в несущих идеологических конструктах Советского государства и современной России. В сложных и противоречивых условиях «перестройки» историки высшей школы оказалась на переднем краю фронта идейных, политических, организационных и духовных перемен, навсегда изменивших и само общество, и его историческое сознание. Региональная специфика происходивших в данный период изменений, во многом носивших судьбоносный характер, рассматривается в контексте уникальной научно-образовательной и социально-культурной среды Сибири. Отличительные черты сибирского научно-педагогического сообщества определяли характер и многообразие форм проявления его ответа на вызовы времени. В силу этого магистральные тренды эпохи своеобразно преломлялись через сибирские реалии, в чем-то разрушая старые устои, в чем-то - открывая принципиально новые возможности и перспективы. Важнейшие изменения, привнесенные «перестройкой», произошли прежде всего методологических и историографических границах преподавания истории в сибирских университетах и институтах. Методологические границы были существенно раздвинуты, а историографические - во многом открыты заново. Это способствовало быстрой и относительно безболезненной реинтеграции постсоветского научно-исторического пространства в мировое. Наиболее ярко и существенно изменения в высшем историческом образовании отразились на организации и содержании подготовки историков. Произошли изменения в содержание и методике подготовки историков, в структуре профессорско-преподавательского состава и в студенческом контингенте.
Перестройка, высшая школа, высшее образование, историческое образование, историческая наука, историк, университет, педагогический институт, профессура, аспирантура, бюрократизм, идеология, сибирь, профессор израиль м. разгон
Короткий адрес: https://sciup.org/149127048
IDR: 149127048 | DOI: 10.24411/2072-9286-2019-00027
Текст научной статьи Подготовка историков в период «перестройки»: новая «надстройка» на старом «фундаменте» (на примере высшей школы Сибири)
Разносторонние реформы, проведенные во второй половине 1980-х гг. и объединенные общим понятием «перестройка», вызвали к жизни масштабные перемены в СССР. Уже на ранней стадии «перестройки» руководство КПСС дало старт процессу общественно-политической трансформации.
В советской высшей школе устаревшие формы работы должны были, по замыслу творцов «перестройки», наполняться новым содержанием. Предполагалось, что это будет достигаться путем поднятия качества подготовки специалистов, изменения правил приема в вузы и принципов формирования студенческого контингента, развития вузовской науки, изменения принципов формирования профессорско-преподавательского состава и повышения его «качества». Основой для реализации практических мер по перестройке работы вузов явился ряд совместных постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятых в течение марта 1987 г, и других сопутствующих им партийно-государственных решений по высшей школе. Согласно их духу и букве, системе образования требовались коренные изменения, развитие инициативы и творческого начала в образовательной деятельности.
Вузы и факультеты получали самостоятельность в организации учебного процесса с учетом специфики каждого структурного подразделения. Перестраивался учебный процесс: сокращались аудиторные занятия (уменьшение лекционной нагрузки в пользу семинарских занятий), увеличивалась за счет высвобождающегося времени самостоятельная работа студентов под контролем преподавателей и т.п. Вузы ориентировались на расширение связи с производством (в случаях с вузами, готовивших историков, - это связь со школами). Предписывалось широко применять интерактивные методы преподавания - дискуссии, деловые игры, моделирование производственных ситуаций и другие активные методы обучения, развивать научно-исследовательскую работу студентов как обязательный элемент подготовки будущих специалистов.
Перестройка высшей школы понималась и как ее децентрализация, демократизация, а также гуманитаризация. Значительное место отводилось модернизации и совершенствованию материально-технической базы, расширению финансовой и организационной самостоятельности вузов, ослаблению политического и идеологического контроля со стороны бюрократического аппарата КПСС, введению реальной выборности руководителей всех структурных подразделений.
Особое же значение «перестройка» имела для системы высшего исторического образования и науки. Переломный характер эпохи придал мощный импульс самой категории «историческое» в советском общественно-политическом пространстве, актуализировал (одновременно еще сильнее политизировав) проблемы подготовки историков и перспективы исторической науки как таковой в стремительно меняющейся стране.
По итогам прошедшего XXVII съезда КПСС (25 февраля - 6 марта 1986 г.) и Всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных наук высших учебных заведений (1-3 октября 1986 г.) состоялась череда собраний первичных партийных организаций в различных коллективах страны, в том числе и в вузовской исторической среде1. На самом съезде последние годы руководства Л.И. Брежнева были названы «периодом застоя», однако критика «застойных явлений» не касалась пока самого Брежнева и его окружения. На Всесоюзном совещании был подведен итог многолетней работы советских историков, на котором выступили крупнейшие ученые страны. Было принято решение разработать и принять специальное постановление ЦК КПСС по исторической науке, а также остро стоял вопрос относительно преподавания истории в школе, речь шла и о новых учебных планах2.
Помимо издававшихся нескончаемым потоком партийных и правительственных директив, ведомственных нормативов и иных распорядительных актов, направленных на регулирование организации высшего образования и науки в целом, как и отдельных ее сегментов, самими историками в эти годы велись поиски путей дальнейшего развития исторической науки, определения форм и направлений научно-образовательной деятельности. Дискуссии, публикации, выступления видных ученых и иных общественных деятелей также формировали повестку развития и направлений исторического знания. События, происходившие в центре, находили живой отклик на местах.
В местных газетах и журналах, включая литературно-художественные и публицистические, историки публиковали большое количество исследовательских и публицистических работ злободневного содержания. Эти газеты являлись для историков местом
«апробации» их меняющихся взглядов, полигоном отработки нового источникового материала. Годы «перестройки» были очень динамичным периодом, поэтому материалы должны были оперативно доводиться до широкой публики, до массового читателя, а академические и вузовские издания не давали такой возможности.
В годы «перестройки» определяется круг новых историографических проблем и вопросов для отечественных историков. Вместе с переосмыслением прошлого страны, в том числе с учетом работ западных историков, вместе с поиском новых форм и методов исследований, новых тем и направлений, исследованием «белых пятен», появлялись и новые историографические сюжеты, связанные с проблемами истории и перспективами развития исторического образования и науки в СССР3.
* * *
К моменту начала «перестройки» исторический сегмент советской высшей школы пребывал в весьма неоднозначном состоянии. Структурное расширение высшего исторического образования, продолжавшееся в период 1960-х - 1970-х гг., придавало известный динамизм развитию данной отрасли, обеспечивая до поры до времени как, прежде всего, ее количественный, так и по ряду внутренних направлений качественный рост. В то же самое время консервация общественно-политической атмосферы с конца 1960-х гг. вкупе с уже имевшейся идеологической заданностью основных параметров советского исторического дискурса приводили ко все большим деформациям в развитии системы высшего исторического образования и науки. Одной из главных проблем вузовского исторического сектора, важность которого вскрылась уже по ходу самой «перестройки», являлся углублявшийся разрыв между образовательно-педагогической деятельностью его кадрового состава как основной и научной как второстепенной. В объективных же условиях исчерпания потенциала принятой модели регионализации вузовской науки все эти факторы способствовали осознанию частью научно-педагогического сообщества текущей ситуации как тупиковой, что в дальнейшем и проявилось в качестве своеобразной внутренней готовности к грядущим переменам.
Реакция местных научных сообществ на новшества перестроечной эпохи, как правило, носила инерционный характер, не всегда поспевая за столь высокой частотой колебаний «линии партии», а потом и вовсе дезориентировавшись ввиду стремительного демонтажа несущих конструкций, на которых зиждились как советский исторический, так и педагогический дискурсы. Непосредственно же конкретные формы восприятия новой образовательной политики (и политики вообще) и ответы региональных коллективов историков и педагогов высшей школы зависели от путей их формирования на предыдущих этапах, особенностей эволюции научных школ, характера и степени развитости внутренних горизонтальных связей, взаимоотношений между лидерами различных направлений, сложившимися традициями отношений с властями.
В результате политических, социально-экономических, идеологических и иных преобразований в период «перестройки», в вузах шел процесс пересмотра и фундаментальных основ высшего образования, прежде всего, базовых, обществоведческих дисциплин. На примере Исторического факультета Кемеровского государственного университета (КемГУ) на рубеже 1980-х - 1990-х гг. видны эти сложные и противоречивые процессы пересмотра преподавания (форм, содержания, методов и т.п.) дисциплин общественно-политического цикла. Сначала был разрешен вопрос с преподаванием истории КПСС, который содержательно был заменен «Политической историей СССР», а организационно сам курс был передан от общеуниверситетской кафедры политической истории (бывшая кафедра истории КПСС) вместе с нагрузкой на Исторический факультет.
Позже, на совете Исторического факультета КемГУ, состоявшемся в мае 1991 г, был остро поставлен вопрос о преподавании политэкономии для историков. Вопрос с этой дисциплиной был связан со сложностью ее преподавания в связи с общей ситуацией кризиса (общественно-политического и экономического) в стране, особенно в сфере хозяйствования. На многих факультетах КемГУ на протяжении нескольких предшествующих лет шел отказ от теории политэкономии, поскольку в ходе этого курса занимались преимущественно «чисто теоретическими проблемами», без привязки к реальной практике, без соотнесения того, что происходило реально в стране, с содержанием курса. Истфак КемГУ в лице декана Ю.Л. Говорова настаивал на том, что на историческом факультете для подготовки историков должна быть именно экономическая теория, а не политэкономия, что нужно «отрекаться от прежних принципов натаскивания». По мнению историков, важно было обращать внимание на историю политэкономической мысли, расширять исследование по-литэкономической мысли и политэкономического знания. В итоге со следующего учебного года был введен курс «Основы экономической науки» и утверждена новая программа курса на совещании заведующих кафедрами и методической комиссии истфака с усилением теории экономической мысли4.
В историческом сегменте образования и подготовки историков существенное место занимала содержательная перестройка учебных курсов и традиционных форм и методов работы со студентами. Например, во второй половине 1980-х гг. на кафедре всеобщей истории Новосибирского государственного университета (НГУ) в курсе по истории древнего Востока (М.И. Рижский) большое внимание уделялось проблемам культуры и религии, но при этом здесь уже не ставилась проблема атеистического воспитания на первый план, в нем преподавалась история и теория религии и культуры без идеологических окрасок и оценок. В курс по истории древней Греции и Рима (Н.К. Тимофеева) вводились существенные элементы проблемности и дискуссионности, появлялись краткие исторические обзоры с указанием проблематики исследований, проблемы перехода от античности к средневековью, развития феодальных отношений у народов Европы и т.п. В курсе по истории средних веков (Г.Г. Пиков) стали появляться сюжеты, связанные с историей средневекового города. В лекциях и семинарских занятиях по истории нового времени (Л.Ф. Лисс) усиливались методы сравнительного анализа, выход на истоки многих современных явлений и представлений и т.д.5
Активно и качественно в ином русле развивались отношения вузов, прежде всего пединститутов, со школами. Видоизменилась работа в базовой школе, которая представляла собой работу со специализированным классом непосредственно в вузе. В частности, к работе в нем привлекались ведущие преподаватели истфаков. Так, с октября 1988 г. на базе Исторического факультета Тюменского государственного университета (ТюмГУ) был создан «малый истфак», который объединял учеников 8-10 классов Тюмени и пригородных населенных пунктов6.
Совет Исторического факультета Новосибирского государственного педагогического института (НГПИ) в октябре 1988 г. обсуждал проект концепции среднего образования по материалам «Учительской газеты»7. Концепция предлагала пути выхода из потенциального кризиса через соединение традиции и практики 1920-х и 1980-х гг. При обсуждении стало понятным, что разговор о приоритетности образования исторического и педагогического - это старый подход. Ведь если в основе был деятельностный подход, то вопрос о приоритетности образования отпадал сам собой. Речь шла о педагогическом образовании. При том что в историческом образовании, как утверждали собравшиеся, не было идеи гуманистического, гуманитарного образования8.
Эксперименты и новшества в области подготовки историков и организации самого исторического образования, в том числе для средней школы, нашли в НГПИ большой отклик. Новаторская идея новосибирцев заключалась в обучении студентов без учебников. Итог - написанный «как будто» студентами учебник, в котором было собрано большое количество документального материала, который может быть использован в школе. По поводу связи со школами главная задача заключалась в формировании собственной педагогической позиции, что осуществлялось через педагогическую практику, поскольку «студенты должны знать, зачем они идут в школу». Реальные задачи определялись четко: разрушить монополию учебника (школьного, вузовского) на знания9.
В самом конце советского периода (июнь 1991 г.) на совете
Исторического факультета Барнаульского государственного педагогического института (БарГПИ), в период первых альтернативных выборов декана факультета, в своем предвыборном слове кандидат М.А. Демин обозначил основные проблемные точки в развитии как самого факультета, так и исторического образования и науки, которые можно назвать характерными для всего исторического образования советских пединститутов. В частности, при определении дальнейших перспектив развития факультета он предлагал ориентироваться на потребность школы и органов народного образования, на соответствие имевшихся специальностей школьным курсам, на усиление методической и психолого-педагогической подготовки выпускников. Он предлагал готовить студентов не по одной, а по нескольким специальностям, что давало бы возможность, с одной стороны, серьезного творческого роста факультета, а с другой стороны, позволяло бы без ущерба для преподавателей комбинировать свою деятельность в условиях постоянно менявшихся школьных учебных планов10.
В начале 1990-х гг. в рамках реформ высшей школы традицией стало проведение самоаттестаций факультетов, на основе которых, в том числе, проводилась и аттестация пединститутов в целом центральными органами управления образованием. Целью аттестации пединститутов в РСФСР в тот период было установление категории и статуса вуза. Это делалось для того, чтобы один из пединститутов крупной экономической зоны (макро-региона) мог стать педагогическим университетом11. Однако эта инициатива так и не получила развития в ходе распада СССР.
С началом реформирования учебно-методической и научно-организационной работы на исторических факультетах, отделениях и кафедрах, разрешения ряда злободневных проблем, историки сибирских вузов принялись на волне «перестройки» искать новые подходы к организации исторического образования, новые направления подготовки, вытраивать перспективы развития факультетов и кафедр, а также открывать и учреждать новые научно-образовательные и вспомогательные структурные подразделения.
Факультеты принялись составлять собственные программы перспективного развития. Интересным оказалось видение своего развития Историческим факультетом Иркутского государственного университета (ИГУ). В перспективе развития факультета была поставлена задача выйти с предложением в Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР и Госкомитет по науке и технике СССР об открытии проблемной лаборатории на базе уже существовавших трех лабораторий при кафедрах с их тематикой. В этом же ключе предлагалось выйти на совет университета с инициативой о разделении кафедры всеобщей истории на кафедру новой и новейшей истории, кафедру археологии и древнего мира, кафедру стран зарубежной Центральной и Восточной Азии, а ка- федру истории СССР - на кафедру досоветского периода и кафедру советского периода. У коллектива имелись план и программы организации единой межкафедральной специализации «Историческое краеведение», которые требовали согласования с министерством. Предполагалось создание комплексной научной межфакультетской программы «Проблемы взаимодействия человека и природной среды в плейстоцене», которая должна была объединить усилия Исторического, Биолого-почвенного, Географического, Геологического и Математического факультетов12.
Перспективы своего развития Гуманитарный факультет НГУ связывал с расширением факультетской специализации по языкам народов Сибири, а также по истории и филологии Китая и Японии. Сложные национальные отношения в стране, отсутствие специалистов по многим сибирским языкам, возросшая потребность у малочисленных народов Сибири знать свою культуру и историю, их стремление сохранить себя как этнос - все это заставляло коллектив факультета обратиться к проблеме подготовки специалистов со знанием местных языков. Научной опорой при решении этой проблемы должен был стать Институт филологии Сибирского отделения АН СССР. Во второй половине 1980-х гг. активизировавшиеся научные, культурные, экономические связи с Китаем и Японией актуализировали потребность в подготовке специалистов-востоковедов13. НГУ до начала 1990-х гг. был практически единственным вузом из находившихся за Уралом (не считая ИГУ), взявшим на себя по своей инициативе осуществление такой подготовки.
Одной из важнейших составляющих реформирования высшей школы в СССР должна была стать, согласно ряду постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР второй половины 1980-х гг, информатизация и компьютеризация учебного процесса. Поэтому на рубеже 1980-х - 1990-х гг. активно шел процесс компьютеризации учебного и научного процессов при подготовке историков и проведении научно-исследовательских работ.
Так, в 1989 г. на Историческом факультете Алтайского государственного университета (АлтГУ) появился первый компьютер. Точкой отсчета развития исторической информатики на факультете стал 1985 г, когда началась «кампания информатизации» высшего образования. В том же году там был впервые прочитан учебный курс «Количественные методы в исторических исследованиях», но в то время учебный процесс не был обеспечен даже микрокалькуляторами. В декабре 1990 г. на заседании кафедры всеобщей истории истфака АлтГУ обсуждался вопрос «Об участии кафедры в компьютеризации исторического факультета». Решением совещания заведующих кафедрами на 1991 г. было намечено создание компьютерного класса, который должен был заметно расширить возможности факультета в его работе. На факультете такой класс открывался на базе кафедры археологии, этнографии и источниковедения, что по-42
зволяло внедрять в учебный процесс машины для создания учебных программ, а к этому времени уже были созданы пакеты подобных программ. Внедрение компьютерных технологий в научно-исследовательскую работу сотрудников факультета позволяло создавать информационно-поисковые системы, учебно-научные системы, по системе ключевых слов получать список литературы и т.п. Предполагалось создание базы данных не только по литературе, но и по статистическим данным, источникам и т.п.
Возможностей это открывало очень много. Например, зачинателем внедрения информационных и компьютерных технологий в исторические исследования и исторической информатики в АлтГУ доцентом В.Н. Владимировым на протяжении второй половины 1980-х гг. была создана база данных по истории Алтая, собраны и компьютерным способом обработаны статистические данные. Для этого специальные программы для ЭВМ закупались в МГУ, которые к концу 1980-х гг. уже создали значительный банк данных14 и со временем адаптировались под региональные условия. В.Н. Владимиров специально командировался в МГУ и Институт научной информации по общественным наукам АН СССР для ознакомления с опытом по созданию и внедрению контролирующих программ, после чего выступил с докладом на собрании перед коллективом ИФ АлтГУ: «Сейчас создается рынок чисто исторической науки, будем в курсе новинок, будем совершать обмен. Мы будем создавать информационные данные на основе созданных в ИНИОН и МГУ и дополнять со временем»15.
Важное место на волне перестроечных настроений занимали вопросы взаимоотношений между студенческим контингентом и профессорско-преподавательскими корпорациями университетов и пединститутов, проблемы самоорганизации студентов, участия их в общественной жизни и иных значимых процессах.
Например, совет истфака НГПИ состоял из двух палат: студенческая палата и научный совет. В совет факультета входили - администрация факультета, преподаватели, представители профсоюза и партийной организации, студенты-общественники, студенческие группы по интересам (как, например, студенческое научное общество «Скиф»), В студенческую палату проходили выборы на общем собрании факультета16. Студенты вносили конкретные предложения по улучшению качества преподавания, организации учебного процесса и научно-исследовательской работы студентов. Правда, не со всеми из них соглашалось руководство факультетов и вузов, но это был уже «конструктивный диалог», позволявший преподавателям взглянуть на проблемы глазами студентов, а студентам попробовать услышать не только собственное мнение, но и мнение педагогического коллектива.
«Перестройка» для сибирских вузов и их исторических факультетов открывала новые возможности не только в вопросах органи-43
зации образовательного, научного и воспитательного процессов, но и давала возможность коллективам историков формировать новые, междисциплинарные, смежные с историческим, направления подготовки специалистов на базе собственных (или при их участии) структурных подразделений. В это время шел поиск новых направлений подготовки, что являлось ответом на вызовы времени. Необходимо было искать свое место на рынке труда, на формирующемся еще «рынке» образовательных услуг, который набирал обороты в системе хозрасчетной экономики, создавать дополнительные образовательные услуги.
В силу универсальности и фундаментальности самого исторического образования, разностороннему развитию и высокому уровню качества профессорско-преподавательского состава исторических факультетов, появлялись возможности открытия новых специальностей и специализаций подготовки, сначала как внутри самих исторических факультетов и отделений, так и позднее уже отдельных и самостоятельных структурных подразделений на их базе. Особенно в этом отношении отличались университеты.
В Томском государственном университете (ТГУ) в конце 1980-х - начале 1990-х гг. сам Исторический факультет, а также его специалисты и выпускники стали основой для образования трех новых структурных подразделений: Философского факультета (выделился в 1987 г. из состава истфака на базе философской специализации), Культурологического факультета (был открыт как Центр культурологии ТГУ в 1994 г, а в 1995 г. реорганизован в факультет) и Психологического факультета (в 1992 г. на базе ТГУ открылся Психологический центр, а в 1996 г. - факультет). Преподаватели и выпускники истфака ТГУ стали основой для формирования профессорско-преподавательского состава этих новых факультетов.
Кризис власти второй половины 1980-х гг. неизбежно повлек за собою и переосмысление фундаментальных целей и ценностей самого политизированного сегмента высшего образования - исторического. Это, в свою очередь, столь же неотвратимо приводило к обострению взаимоотношений внутри научно-педагогического сообщества.
Речь идет, прежде всего, об отмене в марте 1990 г. статьи 6 Конституции СССР, закреплявшей «руководящую и направляющую силу» в СССР, определявшей КПСС как «ядро его политической системы, государственных и общественных организаций». И уже с нового учебного года произошло переименование по всей стране общеуниверситетских и общеинститутских кафедр истории КПСС в кафедры политической истории. В связи с изменением учебных планов подготовки специалистов в университетах вместо «Истории КПСС» ввели новую дисциплину - «Политическая история СССР». В ряде университетов такое переименование состоялось ранее, еще до 1990 г. Так, в ТГУ еще в 1989/90 учебном году кафедра истории 44
КПСС была переименована в кафедру политической истории в связи с переименованием курса «История КПСС» в соответствующий курс «Политическая история СССР».
Надо отметить, что и ранее, в первой половине 1980-х гг., в ТГУ между истфаком и общеуниверситетскими кафедрами общественных наук возникал вопрос о месте и административно-структурном соотношении кафедр общественных наук и руководства истфака в процессе подготовки студентов, специализировавшихся на факультете по специализациям «История КПСС» и «Марксистско-ленинская философия». Обществоведческие кафедры стремились встать выше факультета в вопросах организации и проведения специализации, что отрицательно сказывалось на воспитании студентов и организации учебного процесса, так как они чувствовали свою «привилегированность» по отношению к историкам. В свою очередь, кафедра истории КПСС стремилась вывести свою специализацию с истфака, а руководство факультета было против того, чтобы отрывать от общей истории специализацию по истории КПСС.
На протяжении второй половины 1980-х гг. специальности находились в подвешенном состоянии. Не было единого мнения даже среди самих этих кафедр об их дальнейшей судьбе17. По мнению заведующего кафедрой философии гуманитарных факультетов профессора А.К. Сухотина кафедре было бы легче в организационном плане, если бы она слилась с факультетом. По мнению же профессора М.С. Кузнецов (заведующего кафедрой истории КПСС), сливать кафедру истории КПСС с факультетом было нецелесообразно, при том что партком ТГУ (в лице его члена профессора М.П. Кортусова) считал, что кафедра истории КПСС должна войти в состав факультета. Во многом схожая ситуация во взаимоотношениях наблюдалась и между Экономическим факультетом ТГУ и кафедрой политэкономии (которая реализовывала свою специализацию на факультете): они тоже были сложными в организационных и административных вопросах.
После этих дискуссий и поиска оптимальных путей организационно-технического решения разногласий и, главное, поиска консенсуса между интересами истфака и специальных кафедр общественных наук было решено разделить единую кафедру истории КПСС с 9 июля 1987 г. на кафедру истории КПСС естественнонаучных факультетов (с 1991 г. она была переименована в кафедру политической истории естественнонаучных факультетов) и на кафедру истории КПСС гуманитарных факультетов (с 1991 г. - кафедра политической истории гуманитарных факультетов). В ноябре 1987 г. был создан самостоятельный Философский факультет, выделившись из состава истфака, куда и отошла соответствующая специализация.
По мнению декана другого Исторического факультета, Омского государственного университета (ОмГУ), профессора В.И. Матю-щенко, высказанном еще в 1988 г, на этом истфаке «удалось по- ставить курс по истории КПСС на место, соответствующее ему в общем учебном процессе историков университетов. Мы взяли на себя большую ответственность за такое решение вопроса»18. После этого, в 1990 г, кафедра истории КПСС ОмГУ также была переименована в кафедру политической истории.
На кафедре истории КПСС НГУ в 1989/90 учебном году (еще до ее переименования) вся работа строилась на том, что коллективу преподавателей предстояло перейти к курсу «Политическая история» вместо «Истории КПСС». Этот переход должен был для сотрудников кафедры «проходить вдумчиво, постепенно, без поспешности и скачков, но настойчиво, систематически, с тщательным учетом положительного опыта кафедры и современной историко-политической и педагогической мысли»19. Программа базового курса политической истории, разработанная сотрудниками кафедры политической истории НГУ, определяла лишь общее направление, ведущие аспекты исторического процесса в его противоречивом развитии. Программа, стремясь избежать односторонности, должна была открывать лектору простор и инициативу. Как следствие, курс лекций каждого преподавателя должен был приобрести самостоятельный, индивидуальный характер. В планы семинарских занятий базового курса были введены некоторые темы политической истории, получившие определение как «альтернативные». Коллективом кафедры был предпринят новый шаг по подготовке и изданию методических рекомендаций по курсу политической истории. Их своеобразие состояло в том, что они были основаны на документальной базе, предлагали не только соответствующий материал, но и побуждали читателя к самостоятельному изучению освещавшихся вопросов20.
В 1990 г. такого рода разработки в форме брошюр издали доцент А.Г Борзенков («Сопротивление сталинщине») и профессор В.А. Демидов, заведующий кафедрой политической истории («Национальный вопрос в программах политических партий. Образование СССР»), И.А. Молетотов составил и издал документальный сборник «Программы и уставы политических партий России. 1905 - 1906 гг.». В 1991 г. на всех потоках, наряду с базовыми курсами, читались спецкурсы и проводились новые спецсеминары. Тематика спецкурсов представлялась в следующем виде: «История и личность, политические портреты», «Демократия, авторитаризм и тоталитаризм в отечественной истории», «Общественно-политические движения в пореформенной России», «Россия в XVIII - XIX вв.: реформы и контрреформы», «Коммунистическая этика», «Теория и историческая практика», «Внешняя политика СССР».
На рубеже 1980-х - 1990-х гг. шел процесс «размежевания» двух историй - отечественной (истории СССР) и политической истории (прежней истории КПСС). Необходимо было решать вопрос с параллелизмом в дисциплинах, с дублированием материала. Если рассматривать проблему более глубоко, то этот вопрос касался не толь- 46
ко содержания преподавания, но и дальнейшей судьбы и будущего кафедр политической истории (бывших кафедр истории КПСС). Таким образом, историки видели необходимость окончательно закрепить дисциплину по политической истории за специальными историческими кафедрами (по крайней мере, при подготовке историков) и самим организовывать учебно-методический процесс.
На заседаниях совета истфака КемГУ в октябре 1989 г. обсуждались вопросы введения отдельного курса и создания специальной кафедры истории СССР советского общества. Профессор Г.Г. Ха-лиулин считал «противоестественным» разделение на гражданскую историю и историю партии. Он отстаивал неразрывность этих проблем и предлагал размежевание не по предметному, а по хронологическому принципу и преподавание социально-политической истории XX в. вести на кафедре истории СССР советского общества (забрать ее с кафедры политической истории). Это, в свою очередь, давало координацию историко-партийной и государственной истории и снимало дублирование в преподавании21.
Во второй половине 1980-х гг. отмечается резкое падение интереса выпускников к аспирантуре. Он был вызван рядом факторов: низкая стипендия, не налаженный быт аспирантов, неопределенность в будущем (а среди аспирантов почти все были семейные люди), поэтому почти все (как, впрочем, и студенты) были вынуждены подрабатывать. На низком уровне была материальная обеспеченность аспирантов командировками (как правило, совокупный размер командировочных средств составлял 100 руб. за время пребывания в аспирантуре, что было мизерно). Все это, безусловно, сказывалось на темпах их работы над диссертацией.
Участвуя в различных научных мероприятиях в середине 1980-х гг, профессор И.М. Разгон (как опытный научный руководитель аспирантов, один из лидеров в области подготовки исторических кадров высшей квалификации в Сибири) вносил ряд предложений, направленных на совершенствование процесса подготовки аспирантов, опираясь на свой личный опыт подготовки аспирантов в ТГУ, считая существовавшую систему подготовки аспирантов неоправданной.
В частности, он отмечал, что прикрепление с первого года обучения аспиранта к конкретному руководителю разобщало аспирантов кафедры. Руководители и аспиранты по теме диссертации мало общались, так как для большинства аспирантов первый год обучения был связан со сдачей кандидатских экзаменов по философии и иностранному языку. В этих условиях руководители не знали о том, как идут занятия у их подопечных: как правило, научных руководителей приглашали только на экзамены. В этой связи профессор И.М. Разгон полагал, что было бы наиболее целесообразным организовать работу с аспирантами по единому плану. При этом он справедливо отмечал, что написание и защиту диссертации практически невоз- можно организовать за три года обучения в силу организационных трудностей. Он предлагал установить иной срок: не позднее чем через год после окончания аспирантуры.
Обсуждая вопросы, связанные с совершенствованием системы защиты диссертаций (кандидатских и докторских) в середине 1980-х гг, профессор И.М. Разгон также внес ряд предложений по реорганизации устоявшегося порядка, опираясь на свой многолетний личный опыт и опыт проведения защит в ТГУ, поскольку он считал, что существовавшая система защиты диссертаций не отвечала современным интересам науки. Проблема коренилась в том, что сам порядок защиты был установлен еще в 1930-х гг. Тогда же отдельными нормативными документами была установлена и оплата за оппонирование диссертаций: 20 руб. за аспирантскую диссертацию, 25 руб. - за докторскую. В 1970-е - 1980-е гг. участие в оппонировании диссертаций превратилось, по его определению, в «научную благодетельность», поэтому мало кто желал участвовать в этом процессе. Выход находили сами научные руководители. Пользуясь научными, а чаще всего личными связями, они старались найти оппонента для своего аспиранта, «заверив, что в случае надобности помогут оппоненту, выступив оппонентом по диссертации его аспиранта. Необходимо было учитывать и моральное состояние оппонента - положение должника». Для решения этой проблемы профессор И.М. Разгон предлагал либо повысить уровень оплаты за оппонирование и участие в защитах, либо включить работу в этом направлении в общую нагрузку в вузе.
Другая сторона проблемы с защитами виделась профессору И.М. Разгону в том, что ВАК «не доверяет аспиранту, его научному руководителю, официальному оппоненту, специализированному ученому совету», но чаще всего решал судьбу диссертанта и диссертации «черный оппонент», привлекавшийся со стороны и часто по своей научной специализации и знанию проблемы диссертации бывший слабее официальных оппонентов, участников обсуждения диссертации. Таким образом, ВАК, заключал И.М. Разгон, «превратил утверждение диссертаций в верх бюрократизма, догматизма и упоения своим значением и могуществом».
Профессор И.М. Разгон считал, что организация защиты диссертации и вся деятельность ВАКа требовали серьезной критики и усовершенствования. В своей «Записке для ВАКа о совершенствовании работы аспирантуры и докторантуры», написанной в октябре 1985 г, он предлагал обсуждать целесообразность публикаций по теме диссертации (в первую очередь, кандидатской), поскольку эти публикации ничего науке не давали, а только задерживали защиту диссертации. Он считал вполне достаточным ограничиться публикацией одного автореферата диссертации. Защите же докторской диссертации, считал профессор И.М. Разгон, должны были предшествовать публикация монографии по теме диссертации, ряда статей и участие в научных конференциях, симпозиумах. Ученый считал, что необходимо ограничить возраст диссертанта 55 годами, после чего исследователям предлагалось присваивать ученую степень доктора без защиты диссертации, по совокупности его трудов22.
Эти смелые предложения (и большинство из них вполне рациональные и давно уже назревшие) были озвучены профессором И.М. Разгоном в начале «перестройки», когда такого рода инициативы и предложения становились движущей силой многих процессов в высшей школе. Однако они не были восприняты руководством ни на университетском, ни на региональном, ни на министерском уровнях, а потому не получили развития. Возможно, сказалась большая инертность такого многолетнего института, как государственная научная аттестация и присвоение степеней, которую сложно, да и, возможно, не очень хотелось реформировать. А события в стране и в высшей школе начала 1990-х гг. также не способствовали этим преобразованиям. И только в последнее время проявляются некоторые тенденции, которые были только намечены профессором И.М. Разгоном: усиление образовательной составляющей при подготовке аспирантов, изменение сроков пребывания в аспирантуре, придание большей автономии образовательным учреждениям в вопросах организации подготовки аспирантов, реформирование ВАКа и т.п.
Под влиянием «перестройки» в конце 1980-х гг. происходили изменения в тематическом содержательном направлении учебных и производственных практик. Так, в НГПИ была разработана специальная программа и организован новый вид практики - историкокраеведческой. В рамках нее была организована историко-краеведческая экспедиция по Сиблагу (Сибирский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР). Однако студенты не были допущены до изучения архивных материалов фондов Управления МВД по Новосибирской области, на которых лежал гриф секретности, поэтому работали они в тесном контакте с властями на местах, с привлечением школьников. Был составлен подробный маршрут по области с указанием населенных пунктов, где размещались отдельные объекты Сиблага, отдельные лагерные и пересыльные пункты. Задачи, которые ставились организаторами экспедиции, заключались в изучении территорий расположения бывших лагерей и поселений, определения точных мест заключения, где жили бывшие заключенные, которые могли помочь в поисках, фиксация их воспоминаний и т.д.23
* * *
Отечественная историческая наука в целом и система высшего исторического образования во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг. пережили кратковременную эйфорию от повышенной общественно-политической востребованности историков и результатов их деятельности с последующим сокрушительным обвалом всех ее методологических, концептуальных, историографических и ИСТОЧНИКОВЫХ опор.
Это объясняется тем, что «перестройка», проявившаяся в советской высшей школе, главным образом, в ее стремительной деидеологизации, обнажила сами основания данной системы, оказавшиеся практически исключительно идеологическими по своему характеру, что и привело к их дальнейшему размыванию. Это во многом и определило крах попыток щадящего реформирования советской высшей школы (как, впрочем, и советской государственности вообще).
Позднесоветская система вузовского исторического образования, в базовых своих чертах сформированная еще в 1930-е гг. по лекалам крупномасштабных проектов централизованной индустриальной модернизации, продемонстрировала ригидность и в определенном смысле нереформируеммость. При всем при том организационно-структурные и где-то даже идейные ее основания были столь прочны, что сумели пережить не только «перестройку», но и бурную стремнину реформ 1990-х гг, дотянув до очередной фазы временной стабилизации 2000-х гг.
Совсем небольшой по историческим меркам временной промежуток оставил, тем не менее, свой неизгладимый отпечаток на образе и принятой научно-образовательной модели, навсегда изменив как саму историческую науку в высшей школе, так и ее восприятие государственными и общественными кругами. Важнейшие изменения, привнесенные «ветрами перемен», коснулись, прежде всего, методологических и историографических границ отечественной исторической науки, существенно раздвинув первые и фактически открыв вторые, сняв тем самым пресловутый «железный занавес», что способствовало быстрой и относительно безболезненной реинтеграции постсоветского научно-исторического пространства в мировое.
Наиболее ярко и рельефно эти изменения отразились на организационной и содержательной составляющей подготовки историков. Взятые в политике общий курс на гласность, демократизацию и плюрализм, а также отраслевой фокус на реформу высшей школы, принесли определенные изменения в содержание и методы подготовки историков, структуру профессорско-преподавательского состава, студенческий контингент и т.п. В конечном итоге это время открыло новые возможности в деле подготовки историков и заложило магистральные тенденции, которые в последующем выразились в высшей школе 1990-х - 2000-х гг.
Сибирская корпорация историков отличалась многопрофильно-стью исследовательских коллективов, синтетическим характером научных школ, междисциплинарностью проводимых исследований, развитыми внутренними горизонтальными связями и давними неформальными связями с коллегами из Европейской России. Все это определяло активную позицию занятую большей частью местного 50
вузовского сообщества, проявлявшуюся при этом не столько в политической ангажированности, но, главным образом, в новаторстве педагогического поиска, попытках в резко менявшихся условиях максимально открыться всему новому, сохранив в то же время все лучшее, что оставалось в наследство от предыдущей, хотя и «застойной», эпохи.
Список литературы Подготовка историков в период «перестройки»: новая «надстройка» на старом «фундаменте» (на примере высшей школы Сибири)
- Евсеева Е.Н. О догматизме в историографическом исследовании // Вопросы истории КПСС. 1989. № 3. С. 117-119; Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. Москва, 1990
- Cohen S.F. Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917. N.Y.; Oxford, 1986.