Подготовка научных кадров как практическая проблема
Автор: Насибуллин Равиль Талибович
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается сложившаяся практика подготовки научных кадров. Анализируются основные противоречия в этой сфере. Показано, что преодоление этих противоречий может дать новый импульс повышению эффективности функционирования системы подготовки научных кадров в России с учетом вызовов, порожденных становлением экономики и общества знаний.
Научные кадры, система подготовки, противоречия, экспертная оценка, реформы
Короткий адрес: https://sciup.org/148320963
IDR: 148320963 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.18.01.P.60
Текст научной статьи Подготовка научных кадров как практическая проблема
мическим свободам, одновременно полностью поддерживая государственную линию, когда это выгодно господствующим группировкам научных кадров, занятых в определенных государством направлениях поиска научной истины.
Многочисленные попытки революционных преобразований в системе подготовки научных кадров в конечном итоге не привели к ожидаемым результатам именно потому, что они предпринимались с учетом и исходя из интересов только одной линии – линии на укрепление системы управления, и фактически при полном игнорировании второй линии – линии на развитие самоуправления. И хотя сегодня необходимость реформ в этой системе осознается уже многими, но попытки их проведения исключительно в одном направлении – «сверху вниз» порождают эффект ветра в гнилом лесу: верхушки деревьев качаются, что заметно, а внизу – без особых изменений, корневая система вообще ничего не чувствует.
Анализ ситуации
Чтобы представить сказанное более предметно, рассмотрим проблему на уровне кафедры и диссертационного совета, которые как-никак являются центральными звеньями в системе аттестации научных ка- дров. Судя по тому, как система диссертационных советов регулярно подвергается «перестройке», инициируемой «сверху», можно представить, что она не устраивает государство, но и отпускать этот рычаг контроля ему не хочется. В частности, было время, когда, например, Высшая аттестационная комиссия, которая признавалась раньше в качестве высшей инстанции в окончательном решении вопроса о присуждении соискателю ученой степени, называлась «ВАК СССР», теперь она стала Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России. Можно ли увидеть в этих изменениях статуса ВАК сужение поля управления в пользу самоуправления в системе подготовки научных кадров или стремление придать диссертационным советам большее значение, расширив их функции по контролю над качеством защищаемых диссертационных научных работ, – сказать трудно.
При этом отметим, что специалисты и ученые давно и упорно пишут о необходимости «совершенствовать», «реформировать», «оптимизировать» систему подготовки научных кадров [1, 5, 6]. Ими подготавливаются практические пособия по организации деятельности диссертационных советов [2], издаются работы, посвященные методике выполнения диссертаци- онных исследований и процедуре защиты диссертаций [3, 4], принимаются и меры по совершенствованию системы, в частности, вносятся изменения в «Положения…», «Номенклатуры…», «Перечни журналов…», проводится большая полезная работа по созданию и внедрению программы «Антиплагиат» и т.д. и т.п.
Но многое не замечено, сознательно или нет, проигнорировано, а предлагаемые изменения направлены на внесение некоторых коррективов в существующую систему, тогда как ситуация требует принципиальных изменений, фактически создания новой системы подготовки научных кадров, в полной мере соответствующей требованиям времени и формируемой в стране системе общественных отношений. Это возможно только при условии преодоления противоречий, с которыми приходится сталкиваться в процессе практической работы. А полумеры в таких ситуациях хуже полного отсутствия мер.
О чем свидетельствует опыт?
Не претендуя на исключительную глубину анализа и на истину в последней инстанции, обращусь к основному выводу из тех реалий, с которыми мне приходилось сталкиваться в повседневной жизни в течение 27 лет работы заведующим кафедрой социологии в техническом вузе.
Отмечу при этом, что некоторый, пусть и скромный, но опыт у нас есть. На нашей кафедре с 1990 по 2012 год по результатам исследований проходила защита в среднем одной докторской диссертации каждые два года и двух кандидатских диссертаций каждый год. Последние пять лет на каждого преподавателя кафедры приходится в среднем по две статьи, написанных по результатам наших исследований и опубликованных в журналах из перечня рецензируемых изданий ВАК ежегодно. Это кроме других опубликованных статей, монографий и учебных пособий, материалов проведенных международных и всероссийских научных конференций. На базе кафедры 13 лет без единого замечания функционировал совет по защите докторских диссертаций по социологическим наукам, потерянный нами в 2013 году под влиянием странного и оказавшегося неодолимым воззрения, согласно которому развитие социологической науки не отвечает профилю технического вуза, будто бы изъятого из общества…
Вовсе не хочу расхваливать нашу кафедру, хотя мне за нее совсем не стыдно. Считаю нужным подчеркнуть, что вместе со своими коллегами был и остаюсь деятельным обитателем социального организма высшей школы и науки, где и функционирует система подготовки научных кадров. И в результате обладаю обширным опытом, позволяющим осмысливать и оценивать существующее положение дел.
О чем же говорит анализ этого опыта?
Достаточно прозрачно пока одно: система подготовки научных кадров демонстрирует изрядную ригидность. При этом каждому непредвзятому аналитику очевидно, что исходное противоречие, с констатации которого мы начали эту статью, при более глубоком анализе приводит нас не к какому-то относительно простому решению обозначенной проблемы, а наталкивает на несколько групп противоречий, без преодоления которых совершенствование функционирования системы подготовки научных кадров представляется весьма утопичным.
О противоречиях
Первая группа противоречий связана с тем, что в государственных органах осознают необходимость развития в стране науки, совершенствования системы подготовки ученых, но, похоже, хотят добиться этого прежними мерами в принципиально новых ус- ловиях – за счет административных ресурсов, как это делалось при прежней системе власти. Например, всем понятно, что сегодня время – это деньги в самом прямом смысле слова, а для наиболее высококвалифицированных специалистов получается, что время – это научная категория и… возможность заниматься наукой за счет своего личного времени. Была эпоха, когда категория «время» была «государственной собственностью», теперь она, в общем и целом, – личная собственность.
Работа в сфере подготовки научных кадров оплачивается в настоящее время по установленным государством тарифам, которые ниже, чем в сфере подготовки студентов. Подготовка одного кандидата наук в моем университете оплачивается в размере 50 часов в год по 420 руб. за час. Если аспирант учится три года, то 63 тыс. руб. за три года.
Информация к размышлению: один большой начальник мне рассказал такую историю: пришел к нему молодой человек с предложением: «При вашем статусе у вас должна быть ученая степень, иначе вы долго не продержитесь. Давайте договоримся: я вам обеспечу получение ученой степени, это будет недорого – всего 300 тысяч…»
То есть схема есть. Она работает. Действует свой, вполне рационально организованный черный рынок, где кандидатская диссертация стоит, таким образом, гораздо дороже, чем государство оплачивает труд научного руководителя, обучающего будущего научного работника в государственном вузе. Получается, что государственная система подготовки научных кадров сама формирует условия для черного рынка, чуть ли не поощряя процветание производства квазинаучной продукции. Не каждый профессор сегодня способен заниматься с аспирантом за 20 тыс. рублей в год, когда у него есть возмож- ность написать за полгода кандидатскую диссертацию и продать ее в 15 раз дороже. И нервы свои беречь, и здоровье не тратить. А если удастся продать это высокому начальнику, еще и тылы свои можно обеспечить.
Разумеется, сами по себе исследования отдельного аспиранта государственного значения могут и не иметь, хотя они имеют, безусловно, значение как часть исследований, ведущихся научным руководителем. Но это «направление научной работы» выбирается часто самим научным руководителем, редко определяется и еще реже целенаправленно финансируется государством. Поэтому научная работа аспиранта, которая защищается как кандидатская диссертация, в большинстве своем выполняется именно как проект, который надо выполнить, защитить, получить диплом кандидата наук и положить в сундук бабушки. Не получится – тоже не беда. Возможно, именно в этом причина того, что коэффициент полезного действия аспирантуры ниже КПД паровоза. При удачном стечении обстоятельств в течение трех лет аспирант защитит диссертацию, получит ученую степень, и ему будет предложена должность преподавателя вуза или младшего научного сотрудника научно-исследовательского института с такой зарплатой, которую трудно назвать «оплатой труда».
Иными словами, финансовое обеспечение научных исследований и подготовки научных кадров со стороны государства находится в настоящее время на таком уровне, что фактически деятельность большинства уважающих себя людей в этой сфере лишается материального смысла. Смысл был даже при невысокой оплате труда, когда в советское время существовал общественный фонд потребления, который по очереди, но бесплатно обеспечивал квартирой, образованием, услугами здравоохранения и т.д.
Эта система обеспечения ушла, а зарплата осталась на том же уровне, превратив научных работников в нищий слой населения. Апофеозом череды глупостей чиновников от науки можно считать то, что аспирантуру на основании «принципов», провозглашенных в курортном Зальцбурге группой чиновников – адептов Болонского процесса, решили считать формой продолжения обучения в вузе. Ныне если молодой человек после окончания высшего учебного заведения продолжает учиться в аспирантуре и за три года не успевает защититься, то он получает еще один диплом – о послевузовском образовании.
На наш взгляд, это в лучшем случае может быть расценено как попытка демонстрации реформирования при полном, хотя и обременительном бездействии. Но можно принять и за явное вредительство, если задачу создания «экономики знаний», «цифровой экономики» понимать как необходимость как можно быстрее попытаться учебу в аспирантуре превратить в научную работу творчески активных молодых людей в полном смысле слова, вложив в нее все положительное, что есть в очной (заочной) аспирантуре и в соискательстве. Скажем, человек, имеющий способности к научной работе, после окончания вуза не поступает учиться в аспирантуру, а принимается на работу, связанную с выполнением программы исследования, выданного в качестве госзаказа под ответственность его научного руководителя. Под наблюдением научного руководителя претендент доводит свои теоретические знания в данной области науки до необходимой кондиции, выполняет основные подготовительные работы по диссертации в процессе решения задач, относящихся к программе исследований, внедряет в производство свою разработку, затем ему дают возможность защитить диссертацию за относительно короткий период времени.
Поясню свою мысль. Сегодня аспирант учится в аспирантуре в течение нескольких лет, получая ежемесячно стипендию в пределах ниже прожиточного минимума. (Тут еще выдающееся изобретение – позорная дифференциация этой ничтожной стипендии: для аспирантов по гуманитарным наукам она составляет 3558 руб. в месяц и по техническим – 8539 руб.) На что уходят эти три года и на что сегодня хватает стипендии? Понятно, что стипендии никогда ни на что не хватает, и аспирант вынужден зарабатывать на жизнь, зачастую трудясь в области, далекой от сферы своих исследований.
Первые два года, как правило, аспирант собирает материал по теме, готовит и сдает три кандидатских экзамена. Важнейший из них, как известно, это экзамен по специальности. Здесь все более или менее понятно: претендент должен знать о своей науке, о своем направлении в ней все или почти все. Вторым является экзамен по иностранному языку. Разумеется, знание языка необходимо, но почему человек учит язык именно в аспирантуре, если есть возможность принимать туда уже со знанием языка, и только со знанием языка?

Попробуй защитись…
Далее следует экзамен по истории и философии науки – это особая история. Отвлечемся на секунду и вдумаемся: выпускник вуза для поступления в аспирантуру, т.е. для того, чтобы получить возможность профессионально заниматься «своей» наукой, должен сдавать экзамен по истории и философии науки.
Но, во-первых, если он закончил учебу в вузе до этого нововедения, то получается, что он сам, самостоятельно должен выучить соответствующий корпус знаний и прийти сдать экзамен; ну, а если уже учил, то он должен этот курс пройти еще раз, повторно, т.е. за годы пребывания в аспирантуре еще раз повторить практически тот же вузовский курс философии.
Во-вторых, историю науки я еще понимаю. Научный руководитель просто обязан обеспечить определенный уровень знаний аспиранта, в том числе и по истории той науки, в которой ему предстоит работать. Это он, научный руководитель, и должен определить. Но причем тут «философия», да еще «философия науки»? Может, потому что мы привыкли все время оглядываться на американцев, где «остепененных» принято называть «доктор филосо- фии», если они даже не имеют никакого отношения к философии в классическом смысле.
Уверен, что гораздо полезнее было бы заниматься историей и теорией научного познания, специализируясь и в этом плане в конкретной области исследований. Но тут еще проблема более фундаментальная: известно, что совсем недавно у нас это был экзамен по марксистско-ленинской философии. Раньше, в советское время, предназначение этого экзамена было понятно: контролировалось мировоззрение будущих научных работников, их лояльность к КПСС, к власти, к конкретным политическим идеям. Поскольку к науке все это имеет отношение весьма отдаленное, то сегодня этот экзамен часто служит очередной преградой на пути идущего в науку, инструментом селекции уже по иным критериям – по местническим, клановым, родственным, национальным и всяким другим.
Разумеется, человек, идущий в науку, должен знать методологию, теории в области познания мира, историю развития науки. Но философия выполняет функцию формирования мировоззрения. Мне лично не совсем понятна задача формирования мировоззрения всех научных работников нашей страны на основе философии, так и оставшейся у нас марксистско-ленинской с тремя законами диалектики, которая твердо стоит на фундаменте классической немецкой философии с принципиальным лозунгом, что «жизнь – это воля к власти» (Ф. Ницше).
Ну, если уж эта задача формирования такого мировоззрения стоит все еще так остро, почему ее не решить в магистратуре? И если есть экзамен по философии, то почему его нет по теологии?
Много здесь проблем, но я хочу обратить внимание на возможность «спрессовать» время, которое тратится сегодня на подготовку кандидатской диссертации. Почему бы вместо трехлетней аспирантуры человеку, уже проработавшему в науч- но-исследовательской организации или на производстве, подготовленному в общетеоретическом плане, собравшему необходимую информацию по своей теме, создавшему условия для внедрения своих разработок в производство, не дать, например, год для завершения работы над диссертацией? И предоставить этот год с сохранением его зарплаты и назначением солидного бонуса, если он справится с задачей в назначенный срок.
Тогда отпадет и необходимость отправлять диссертацию пылиться на полки государственной библиотеки, и можно будет продолжать жить с чистой совестью и с чувством исполненного долга. И в бюджетных деньгах большой потери не будет, и результативность системы подготовки научных кадров, уверен, повысится, и, главное, наука приблизится к практическим нуждам хозяйства страны. Слышу возражения коллег, мол, о каком внедрении результатов речь, если диссертация по фундаментальной науке; и сейчас, мол, предоставляем справку о внедрении…
Отвечаю: я здесь говорю не о диссертациях по теоретико-методологическим и историческим проблемам той или иной науки, которых гораздо меньше в общей численности защищаемых диссертаций. И говорю не о «справке о внедре-
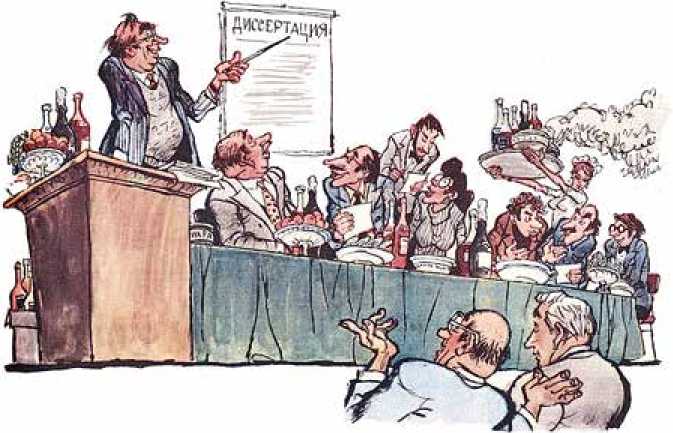
— Принято решение — банкеты после защиты диссертации не устраивать.
нии», а о реальном внедрении полученных результатов исследований в реальное производство, а не о создании сложных компьютерных моделей с «внедрением» в виртуальную реальность.
Вторая группа противоречий связана с процедурой так называемой «публичной защиты» диссертационного исследования, которая предусмотрена «Положением…», рассчитанным в большей степени на идеальную ситуацию, когда все ученые без исключения готовы работать за идею. И когда они не преследуют корыстных мотивов, полностью освобождены от всевозможных человеческих слабостей и только мечтают поработать в составе диссертационного совета, потратив на анализ и на объективную оценку чужих диссертаций кучу личного времени.
Еще более уязвим бедный профессор перед возможностью положить на алтарь научной истины в его представлении все, что угодно. И находить научное объяснение какому угодно поступку. По этой причине (и по многим другим причинам) защиты проходят с большими отклонениями от предписанных норм. В реальной жизни, например, очень часто в лучшем случае несколько из членов ученого совета подписывают явочный лист и уходят. (А ведь иногда обнаруживается, что «явочный
Бедный профессор слишком уязвим, «чтобы позволить себе быть добросовестным и честным. Извиваться, вилять, приспособляться, отрекаться от своих убеждений, учить не тому, писать не то, что думаешь, пресмыкаться, льстить… принимать в соображение министров, сильных мира, сотоварищей, студентов, книгопродавцев, рецензентов: словом, на все обратить внимание раньше, чем на истину и на чужие заслуги, – вот его обычай и метода» - как справедливо заметил еще А. Шопенгауэр [7].
лист» существует , если даже никакой защиты не было.) Обвинять находящегося на грани нищеты профессора за то, что в это время, возможно, он вынужден зарабатывать себе на жизнь чтением лекций в другом вузе, будет тоже нечестно. Никаких законных оснований, обязывающих членов совета постоянно участвовать в его заседаниях, нет. Разве только пристыдить… Но в Москве, по моим наблюдениям, некоторые коллеги теряют уже последние остатки этого свойства стыдиться. Сокращение числа диссертационных советов под самыми разными предлогами уже создало новый источник дохода для столичных коллег: хочешь защититься, заплати и оформись в аспирантуру. Лучше, если у тебя уже готовая диссертация, подготовленная под присмотром провинциального научного руководителя.
Наконец, третья группа противоречий связана с сохранением удивительной системы «иерархии умов» при экспертизе выполненной диссертационной работы. Хотя все обладатели ученых степеней в одной государственной системе проходят одинаковую процедуру подготовки и публичной защиты научно-исследовательской работы, которая называется диссертацией, хотя все они получают одинакового образца государственный диплом кандидата или доктора наук, в системе подготовки научных кадров и экспертизы научных работ они расставляются в сложную иерархическую структуру. Причем следует заметить, что это не только служебная и должностная иерархия. Во всяком случае, в рассматриваемом аспекте.
Основная масса докторов наук составляет «нижнее звено». В составе кафедр вузов, лабораторий, секторов, центров и отделов академических институтов они ведут соответствующие исследования и обеспечивают научное руководство работой соискателей ученых степеней. «Нижнее звено» в данном случае взято в кавычки, поскольку на самом деле именно их интеллектом и самоотверженным трудом осуществляются основные научные исследования. В сущности, это основное звено, силами которого создается сегодня наука в России. Но в обозначенной иерархии они занимают самую нижнюю позицию.
А иерархия такова, что над этими докторами наук стоят «более умные» доктора наук, которые являются заведующими (кафедрой, сектором, отделом). В конечном счете они определяют, позволить ли «нижестоящему» доктору руководить аспирантом или нет, если даже и считается, что для этого нужно решение ученого совета, решение кафедры. Хотя «сертификат» у них одинаковый – данный государством такой же диплом доктора наук, полученный путем прохождения одной и той же процедуры выполнения соответствующей исследовательской работы, ее публичной защиты и утверждения ВАК.
Если все хорошо сложится, аспирант под руководством своего научного руководителя выполнит диссертационное исследование на должном уровне, если «более умный» доктор наук, находящийся на следующем этаже иерархии, подпишет соответствующий документ, положительно оценивающий эту работу, то научный руководитель поведет своего подопечного к «еще более умным» докторам наук, находящимся в составе диссертационного совета, среди которых особое место занимают председатель совета, его заместитель, ученый секретарь и назначаемые советом (часто ими же) «чрезвычайно умные» доктора наук – эксперты совета, которые практически на любом этапе могут затормозить защиту, сводя на нет многолетнюю работу научного руководителя – такого же, как и они, доктора наук. Они дают заключение, соответствует работа профилю диссертационного совета или нет, отражены ли в публикациях автора результаты исследований, и – что особенно важно – определяют, на достаточном ли теоретическом уровне выполнена представленная к защите диссертация. Разумеется, о «достаточности» уровня у каждого из них свои представления.
Следующий этаж этой иерархической системы, если работа пройдет через диссертационный совет, находится уже в столице нашей Родины. Здесь диссертацию оценит группа «сверхумных» докторов наук, которые имеют такие же дипломы, как и все остальные, но по каким-то соображениям назначены экспертами ВАК. Надо думать, по высшим соображениям полезности отечественной науке, поскольку конкретных и четких критериев отбора таких экспертов в природе не существует. Поэтому остается считать, что они подобраны именно потому, что «более умные». Они определяют, насколько представленные диссертации являются диссертациями на самом деле.
Диссертации, еще раз заметим, выполнены под руководством таких же докторов, как и они, только по разным причинам находящихся на нижних этажах этой иерархии и проживающих за пределами столицы; они уже оценены советом, членами которого являются такие же доктора. Впрочем, членов экспертного совета тоже можно понять. В столице уже над ними

Совместное заседание научного совета РАН и экспертного совета ВАК
находится еще один этаж наблюдателей и контролеров – группа «экстраумных» докторов наук, которые выносят окончательное решение. Причем, на специальном заседании. Коллективный разум, так сказать.
Но ведь «коллективный разум» уже работал. Причем несколько раз: коллективное обсуждение работы проходило на кафедре, где выполнялась работа; коллективное обсуждение состоялось на заседании диссертационного совета, где по «Положению…» в обсуждении диссертации должны участвовать специалисты соответствующих квалификаций. А на заседании Президиума ВАК, где принимается окончательное решение по присуждению искомой ученой степени, может не оказаться ни одного специалиста в той области, в которой защищена диссертация, что способно превратить проблему оценки научной ценности выполненной работы в полный абсурд.
Как быть?
Таким образом, над доктором наук, который сегодня своим действительно самоотверженным трудом, за скромную зарплату ведет научные исследования, попутно обеспечивая подготовку научных кадров, находится, по меньшей мере, пять этажей контролеров и цензоров, имеющих такой же диплом доктора наук. В силу того, что при существующей системе экспертизы, когда количество советов и защищаемых в них диссертаций многократно превышает число экспертов, они, если даже являются признанными и заслуженными специалистами, не способны одинаково профессионально оценить защищенных на заседании соответствующего совета и представленных к утверждению результатов исследований. Поэтому искусственно создаются условия, когда большинство экспертов рассматривает диссертации не по существу, а формально. Проблема состоит в том, что чем выше в этой иерархии позиция экспертизы, тем дальше от тематики диссертации находится эксперт по своей профессиональной подготовке.
При надлежащей организации ближе всех к проблематике защищаемой диссертации стоят, конечно, эксперты – члены совета. Но чтобы деятельность совета была организована надлежащим образом, она должна быть признана именно работой, а не, простите за прямоту, особым жанром художественной самодеятельности, как она сегодня выглядит.
С одной стороны, научный потенциал у страны есть. И в его качестве нет сомнений. Есть и сложная, внутренне противоречивая, но функционирующая система подготовки научных кадров. С другой стороны, в оправданности и эффек- тивности установившейся в прошлом веке системы, существующей сегодня, уверенности остается все меньше.
На мой взгляд, было бы полезно активнее продвигаться в начатом направлении расширения экспертизы по горизонтали, в увеличении числа вузов с признанными научными школами, способными готовить научные кадры соответствующего уровня. И не только готовить, но и проводить их аттестацию. Иначе говоря, присваивать ученые степени и звания. В конечном счете это право должны обрести все полноценные университеты. В конечном счете само академическое сообщество рассудит, ученая степень какого университета является весомой, а какого – едва держится на плаву.
Необходимо исходить из того, что здесь мы имеем дело со сложным клубком противоречий, преодоление которых требует ясного понимания того, что:
– многие проблемы здесь не требуют особых ресурсов для их решения, кроме умственных, аналитических усилий;
– решение некоторых задач здесь, разумеется, потребует значительных временных, организационных усилий и финансовых затрат,
Высшая аттестационная комиссия должна не столько охотиться за нарушителями порядка присвоения ученых степеней, сколько заботиться о приросте наших научных сил, об их концентрации в тех областях, которые важны для страны и всего современного мира. Со стыдом вспоминаю, что аппарат ВАК первоначально функционировал в структуре Рособрнадзора. И как хорошо, что эта ошибка была исправлена…
которые быстро окупятся при разумном подходе к делу;
– есть некоторые проблемы, решение которых вряд ли возможно в сегодняшних условиях.
Даже исходя из здравого смысла очевидна необходимость разработки соответствующего основательно продуманного дерева целей, где задачи должны располагаться во времени и в пространстве с учетом фундаментальных интересов матушки России.
Очевидна также излишняя расточительность использования накопленного в президиуме ВАК совокупного интеллекта ученых мирового уровня в качестве, если угодно, записных рецензентов диссертационных работ. Думается, что эти научные силы, объединяющие, так сказать, «небожителей» нашей науки, должны быть направлены на решение стратегических задач развития и использования кадрового потенциала нашей науки.
Можно и нужно больше заниматься нашими молодыми учеными, пора уже избавить их не только от угрозы крайней нужды, но и от многолетнего прозябания. Конечно, у аспирантов должны быть совсем другие стипендии, чем сегодня, а старт молодого ученого не должен походить на прыжок в омут с головой. На дворе уже цифровая революция, встает на ноги общество и экономика знаний, а мы превратили молодых ученых в пасынков, лишенных заботы родителей.
Россия, научными достижениями которой мы гордимся, за 1990-е годы потеряла около половины своего научного потенциала. Нашу страну покинули самые перспективные научные кадры. А подготовка научной смены так и не вошла в надежное русло, ведется по старинке. Давайте вместе думать, как изменить это положение. Думать и переходить к решительным действиям.
Список литературы Подготовка научных кадров как практическая проблема
- Аллахвердян А. Г., Юревич А. В. Развитие российской аспирантуры и ее особенности в социогуманитарных науках//Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: междунар. ежегодник. Вып. XXVIX. СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2013. С. 217.
- Аристер Н. И., Резник С. Д. Управление диссертационным советом: практическое пособие/под общ. ред. проф. Ф. И. Шамхалова. М.: ИНФРА-М, 2010.
- Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: практическое пособие/под ред. Н. И. Загузова. М.: Гардарики, 2004.
- Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. М.: Ось-89, 2006.
- Месяц Г. А., Неволин В. Н., Выскуб В. Г. О недостатках в работе диссертационных советов//Бюллетень ВАК. 2003. № 1.
- Ситаров В. Прямая обязанность научных руководителей//Вестник высшей школы. 2007. № 4.
- Шопенгауэр А. Сборник произведений/пер. с нем. Минск: ООО «Попурри», 1998. С. 152.


