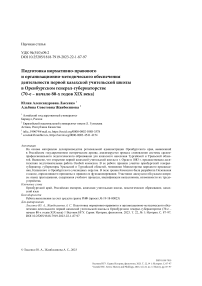Подготовка нормативно-правового и организационно-методического обеспечения деятельности первой Казахской учительской школы в Оренбургском генерал-губернаторстве (70-е - начало 80-х годов XIX века)
Автор: Лысенко Ю.А., Жанбосинова А.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
На основе материалов делопроизводства региональной администрации Оренбургского края, выявленной в Российском государственном историческом архиве, анализируется процесс становления системы среднепрофессионального педагогического образования для казахского населения Тургайской и Уральской областей. Выявлено, что открытию первой казахской учительской школы в г. Орске в 1883 г. предшествовала десятилетняя подготовительная работа Особой комиссии. В ее работе приняли участие оренбургский генерал-губернатор, губернаторы Уральской и Тургайской областей, чиновники Министерства народного просвещения, Казанского и Оренбургского училищных округов. В поле зрения Комиссии была разработка Положения о школе, определившего принципы и правила ее функционирования. Участники дискуссии обсуждали вопросы языка преподавания, содержания учебного процесса, квалификации выпускников, возможности их трудоустройства.
Оренбургский край, российская империя, казахская учительская школа, педагогическое образование, казахский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147238797
IDR: 147238797 | УДК: 94(510).09:2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-1-87-97
Текст научной статьи Подготовка нормативно-правового и организационно-методического обеспечения деятельности первой Казахской учительской школы в Оренбургском генерал-губернаторстве (70-е - начало 80-х годов XIX века)
Lysenko Yu. A., Zhanbosinova A. S. The Preparation of Regulatory and Organizational-Methodological Support for the Activities of the First Kazakh Teachers’ School in the Orenburg Governorate (1870s – Early 1880s). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2023, vol. 22, no. 1: History, pp. 87–97. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2023-221-87-97
Формирование системы начального школьного образования для казахского населения Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств во второй половине XIX в. рассматривалось как одно из приоритетных направлений политики Российской империи в данном этнорегионе. Российская система образования, внедряемая в степи, была призвана ограничить влияние мусульманской школы, модернизировать традиционное казахское общество, сформировать у молодого казахского поколения приверженность российской государственности [Лысенко и др., 2021; Любичанковский, 2018; Стурова, 2018, c. 98]. На протяжении 60– 70-х гг. XIX в. численность школ для казахских детей была незначительной, они функционировали в областных и некоторых уездных центрах, а также в Оренбурге и Омске. Волостные и аульные казахские школы в условиях кочевого образа жизни населения степи появились гораздо позже – в 90-е гг. XIX в.
Медленные темпы школьного строительства в Степном крае объяснялись рядом объективных обстоятельств, главными их которых стали тесно связанные между собой кадровая проблема и проблема отсутствия письменного казахского языка. Они осложнялись тем, что принятая в инородческих школах Российской империи методика Н. И. Ильминского предусматривала преподавание в них на родном языке носителями языка [Вахрамеева, 1997; Исхакова, 2001; Павлова, 2000]. Постепенно в стране открывались среднепрофессиональные учреждения, готовившие педагогические кадры для отдельных народов: Казанская крещенотатарская школа, Симбирская чувашская учительская школа, Уфимская, Черемисская и Бирская инородческие учительские школы [Ефимов, 2000]. Главное внимание в данных учебных заведениях уделялось подготовке к преподаванию на родном языке.
В казахской степи в этот период была распространена татарская письменность на основе арабской вязи. Учителей из русской этнической среды, владеющих казахским языком, фактически не было. Представители татарского этноса в основном практиковали в казахской степи как учителя мектебов – традиционных начальных мусульманских школ. Из опасения дальнейшего «отатаривания», под которым понималась исламизация казахского населения, российские власти не рекомендовали привлечение татар в государственную / правительственную школу. Поэтому важным аспектом формирования системы российского школьного образования в Степном крае стала подготовка профессиональных учительских кадров из казахской этнической среды.
В историографии проблема становления и развития среднепрофессионального педагогического образования для казахского населения представлена фрагментарно. Как правило, ученые рассматривают проблему в контексте истории развития системы российского школьного образования в Степном крае. Отмечается, что «до открытия учительских семинарий в начальных училищах и русско-туземных школах работали священнослужители, выпускники Неплюевского кадетского корпуса, школы при Оренбургской пограничной комиссии, а также гимназий и прогимназий, не имеющие педагогического образования» [Рыгалова, 2020]. Исследователи констатируют острую нехватку учителей в Степном крае, связанную с плохими материально-техническими условиями работы, низкой заработной платой, отсутствием региональных профессиональных учреждений педагогического образования. Отправной точкой формирования среднепрофессиональной педагогической подготовки для казахского населения в историографии принято считать 1883 г., когда была открыта первая учительская школа для казахов в г. Орске Оренбургской губернии. Исследователи проанализировали ее историю, выявили содержание процесса обучения, кадровый состав, общую численность выпускников, их роль в социально-экономическом и культурном развитии Степного края [Адельбаева, 2010]. В то же время значительный научный интерес представляет дискуссия центральных и региональных органов власти, связанная с подготовительным периодом, предшествующим открытию школы. В ходе нее отразились тенденции правительственного курса в отношении традиционного казахского общества, которые в итоге определили принципы функционирования данного среднепрофессионального учреждения.
Статья подготовлена на основе материалов делопроизводства Министерства народного просвещения, Оренбургского генерал-губернатора, Казанского и Оренбургского училищных округов, губернаторов Уральской и Тургайской областей. Среди них: отчеты о работе Особого комитета, созданного при оренбургском генерал-губернаторе для подготовки Правил о казахской учительской школе, межведомственная переписка, протоколы заседаний и мнения отдельных чиновников по запрашиваемым вопросам. Основной массив источников отложился в РГИА и впервые вводится в научный оборот. В работе применялся историкогенетический метод, позволивший выявить позиции чиновников различных ведомств на проблему открытия учительской школы для казахского населения, отразившиеся в итоге на основных принципах ее функционирования. Историко-системный метод позволил рассматривать дискуссии центральных и региональных органов власти в контексте общих тенденций развития Российской империи в этот период и ее политики в отношении традиционного казахского общества.
Как указывалось выше, первая учительская школа для подготовки учителей начальных казахских школ была открыта в Орске в 1883 г. Этому событию предшествовала более чем десятилетняя подготовительная работа, которая сопровождалась дискуссией центральных и региональных органов власти Российской империи. В дискуссии нашли отражение различные аспекты и нюансы, которые позволяют реконструировать подходы Министерства народного просвещения, военных губернаторов Уральской и Тургайской областей, училищных наблюдателей Оренбургского и Казанского учебных округов по вопросу развития системы среднепрофессионального педагогического образования в казахской степи.
О проблеме кадров для казахских школ региональные власти заговорили в начале 70-х гг. XIX в. В 1871 г. к генерал-губернатору Оренбургского края Н. А. Крыжановскому обратился попечитель Казанского училищного округа с просьбой обратить внимание на данный аспект образовательной политики в регионе 1. Несколько месяцев спустя, в 1872 г., генерал-губернатор инициировал создание специальной Комиссии под председательством директора народных училищ Оренбургской губернии. Ей поручалось разработать принципы организации учительской школы для казахов, содержание профессиональной подготовки в ней, перспективы трудоустройства выпускников и т. д. К обсуждению были привлечены губернаторы Уральской и Тургайской областей, авторитетный педагог Казанской учительской семинарии, по методике которого велось обучение в инородческих школах Российской империи, Н. И. Ильминский 2.
Необходимость открытия учительской школы для казахов поддерживали фактически все участники дискуссии. Кадровая проблема, по их мнению, препятствовала развитию сети начальных русско-казахских школ в Оренбургском крае. Необходимость их существенного количественного прироста связывалась с проблемой усиления татарского влияния в казахской степи, а вместе с ним и исламизацией казахского общества. Государственная школа должна была выступить конкурентом традиционной мусульманской школе, способствовать снижению «религиозно-фанатического влияния магометанства», создать исламу барьеры для «распространения своих симпатий, воззрений и религиозных верований» 3. Наиболее ярым исламофобом в Комиссии являлся генерал-губернатор Оренбургского края Н. А. Крыжановский, требовавший в ходе обмена мнениями «положить конец пагубному магометанскому влиянию в здешнем крае… дать правительству возможность достигнуть столь желаемого обрусения края и тесного слияния с Россией всего инородческого населения» 4.
Численный состав учащихся учительских школ Комиссия предложила определить из принципа «один учитель на одну волость». «Исходя из того, что в Уральской и Тургайской областях начитывалась 31 волость и 36 старшинств – во Внутренней орде 5, общее количество учеников учительской школы должно было составить 98 казахских мальчиков». Планировалось, что необходимое количество учителей будет подготовлено в течение нескольких лет – ежегодно планировалось осуществлять набор не менее 25 учащихся [Лысенко, 2022, с. 11]. Следует отметить также, что для ускорения процесса подготовки кадров, генерал-губернатор Уральской области предложил открыть две педагогические школы для казахского населения – в Оренбурге и Уральске. Финансовое содержание учительских школ рекомендовалось возложить на государство, так как «никаких местных источников на покрытие расходов вовсе не имеется». Учащиеся поступали на полное государственное обеспечение. Им планировалось предоставить ученическую форму, учебники, бесплатно посещение уроков. В смете расходов на содержание школы также находились статьи: учебники и учебные пособия, постельные принадлежности, продовольствие, отопление, освещение. Необходимым признавался и наём прислуги, кухарки, прачки, врача. Всего расходы на содержание одного учащегося должны были составить 150 руб. в год 6.
Прогнозируя проблемы адаптации слушателей учительской школы, связанные с незнанием ими русского языка, Комиссией было предложено организовать подготовительный курс. Для решения проблемы языкового барьера Комиссия рекомендовала также принимать на должность преподавателей учительской школы специалистов, владеющих как русским, так и казахским языком. Однако для многих ее членов было очевидно, что это будет сложно реализуемая задача 7.
Отдельной темой обсуждения членов Особой комиссии стал вопрос о штатах для учительских инородческих школ. Предлагалось, чтобы преподавателями учительских школ были выпускники высших учебных заведений, а воспитателями и учителями подготовительного отделения – только окончившие курсы инородческих учительских школ и «притом из инородцев». Воспитанники, окончившие курс в учительских школах, должны были, по мнению Особой комиссии, пользоваться привилегиями, установленными общими правилами, действовавшими в Российской империи, – освобождаться от несения всех натуральных повинностей 8.
Отдельную дискуссии чиновников вызвал вопрос о языке преподавания в казахской учительской школе. Некоторая часть Комиссии считала целесообразным ввести в программу курс татарской грамоты и преподавать на татарском языке. Сторонники этой идеи, члены Комиссии – статский советник Бекчурин и войсковой старшина Джантирюн, считали, что введение татарской грамоты будет способствовать «приобретению доверия казахов, с тем чтобы они охотнее отдавали в учительскую школу своих детей». Отсутствие данного курса в программе, а вместе с ним и письменного казахского языка на основе арабской вязи, введение вместо них курса русской письменности может, считали они, «оттолкнуть население», «не встретить сочувствия», «возбудить недоверие к самим заведениям», дать повод рассматривать их как попытку «отнять у них всякую возможность в служении религии своей» 9. В пользу своего мнения статский советник Бекчурин и войсковой старшина Джантирюн приводили еще одни важный, на их взгляд, аргумент. Если выпускники учительских школ не будут знать татарской грамоты, они не будут пользоваться уважением и доверием среди казахского народа. Незнание татарской грамоты будет оцениваться традиционным казахским обществом как «верх невежества», что сформирует пренебрежительное отношений к выпускникам учительской школы. В итоге, как считали представители казахского народа, могло произойти полное игнорирование российских учительских школ казахским населением. Знание татарского языка, напротив, позволило бы им вступить в конкурентную борьбу с учите-лями-мударрисами – традиционной мусульманской школы 10.
Мнение статского советника Бекчурина и войскового старшины Джантирюна не в полной мере, но поддерживали военные губернаторы Уральской и Тургайской областей. В своих заключениях по этому вопросу они исходили из того, что в казахской степи татарская грамотность «была значительной», поэтому считали вышеприведенные аргументы «заслуживающими внимания». Тургайский губернатор полагал, что введение в программу курса казахского языка на основе татарского алфавита может стать важным фактором привлечения казахских детей в учительскую школу. Курс казахского языка на основе кириллицы он предлагал внедрять «с некоторой постепенностью», так как это требовало определенного времени для создания алфавита, учебников и литературы и т. д.
Большая часть Комиссии придерживалась обратной точки зрения и считала, что в программе обучения не должно быть курса татарской грамоты. Обучение в учительской школе должно осуществляться на русском или родном казахском языке, алфавит которого предлагалось составить на основе кириллицы. Наиболее четко данная позиция была сформулирована в записке инспектора Казанского учебного округа Г. Залежского, который рассматривал ситуацию «с педагогической и политической точки зрения». С педагогической точки зрения он считал одновременное обучение татарской и русской грамоте слишком сложным для учащихся, поскольку русский и татарский алфавиты сильно отличаются по структуре и написанию. Напротив, «преподавание на родном языке, по учебным книгам, составленным на том же наречии… на основе русского алфавита», будет иметь успех. «Ученики, посредством наглядного обучения, достаточно быстро ознакомятся с русским разговорным языком, переход к чтению и письму по-русски совершиться легко» 11.
В политической плоскости Г. Залежский рассматривал введение татарской грамматики в казахской учительской школе как противоречащее общему курсу государства в области интеграции национальных окраин в общеимперское пространство. Главный его аргумент – «язык – это политическое оружие, которому покоряются народы без крови». Поэтому преподавание татарской грамоты в учительской школе будет способствовать отатариванию степи. Одновременно с отатариванием будет происходить исламизация. Таким образом, он делал вывод о том, что учительская школа полностью себя дискредитирует с точки зрения решения государственных задач. В своей записке на эту тему он подчеркивал, что государству нужно последовательно стремиться к тому, чтобы «толкование корана казахи стали осуществлять на казахском языке, в книгах с русским алфавитом», а купечество «отдавать своих детей в русскую государственную школу» 12. На данном этапе, считал Г. Залежский, татарский язык в степи знают только казахские муллы и степная аристократия, «он не знаком основной массе кочевников, поэтому и искусственно его распространять нет необходимости».
Аргумент своих оппонентов о том, что незнание татарского языка выпускниками учительской школы будет восприниматься казахским населением как неполное образование, также вызвал критику Г. Залежского. По его мнению, учительская школа способна выпускать высококвалифицированных специалистов, «которые, как в умственном, так и в нравственном смыслах будут превосходить татарских и казахским мулл. Учитель своим авторитетом и влиянием потеснит их», что приведет к падению именно их авторитета в Степном крае 13.
Особый интерес по вопросу организации казахской учительской школы представляет заключение Н. И. Ильминского, в котором значительное внимание уделялось гражданско-воспитательным целям образования казахов и механизмам их достижения. Так, главной целью развития образования казахского населения должно было стать «развитие в нем общечеловеческих понятий и русских симпатий». Казахская учительская школа, по мнению педагога, должна «соответствовать народному вкусу казахов, народной любознательности, народным понятиям о добром, истинном, полезном». Иными словами, Н. И. Ильминский предлагал в процессе обучения учитывать ментальные, мировоззренческие и этнопсихологические особенности казахского этноса 14.Также педагог придавал огромное значение личности учителя, который будет постоянно находиться при учащихся и прививать им гражданские навыки. Однако в целом его рассуждения о том, чем должна стать школа для казахских детей, носили идеалистический характер. Например, в своем заключении по этому поводу он писал: «Школа должна быть так поставлена, чтобы дети полюбили ее, чтобы они чувствовали себя в ней как дома, уютно, тепло – тогда разовьются в них начала и благородные чувства. Эти черты я привел только для объяснения, что я разумею под духом и нравственностью направления школы. Такое направление обуславливается и воспитывается не ученостью, не педагогиче- скими приемами, а нравственными качествами, ближайшего, непосредственного воспитателя, его личностью» 15. Порядки в школе должны быть как можно менее формальные, «напоминать более семейные отношения, семейную простоту и единодушие». Преподавателем в казахской учительской школе, считал Н. И. Ильминский, нужен казах, «даже не очень образованный и ученый, но здравомыслящий, даровитый, симпатичный, искренне сочувствующий русскому образованию, вполне сознающий пользу и надобность этого образования, а равно умственного и нравственного развития для киргизского народа, и, в том смысле, патриот» 16.
Заключение Н. И. Ильминского вызвало определенную критику со стороны региональных чиновников. Так, военный губернатор Уральской области в мае 1871 г. написал оренбургскому генерал-губернатору Крыжановскому, что Ильминский создал «только идеал», достигнуть которого вряд ли удастся 17.
В 1872 г. Особая комиссии завершила свою работу разработкой Правил о казахской учительской школе, которые подверглись жесткой критике со стороны региональной администрации. Военный губернатора Уральской области в своем заключении на имя Н. А. Крыжа-новского отмечал, что после работы Комиссии для него остался неясным ряд вопросов. Среди них: сколько лет должно продолжаться собственно педагогическое воспитание?; по какой программе должны работать выпускники учительских школ?; сколько лет обязаны обязательно прослужить за полученное образование?; на каких условиях приниматься на службу и какими правилами регламентируется их деятельность?; какой будет у них должностной оклад?; источники финансирования учительских школ и их сотрудников?
При этом военный губернатор подчеркивал, что бюджет Уральской области не имеет достаточных резервов и ресурсов для финансирования учительских школ. Поэтому выход он видел в сокращении числа как самих школ, так и контингента учащихся в них. Завершая свое письмо Н. А. Крыжановскому, он предложил подготовить более проработанное Положение об учительских школах для казахов Уральской и Тургайской областей, в которых более тщательно и детально были проработаны все аспекты вопроса 18.
Военный губернатор Тургайской области в своем заключении подчеркивал, что для достижения представленной цели учительской школы – «проведения цивилизационного влияния и русских симпатий» – одного финансового участия государства в этом процессе будет недостаточно. Особое внимание, считал он, необходимо обращать на научную и воспитательную подготовку будущих народных учителей. Для привлечения детей к обучению в казахской учительской школе их родители должны понимать, что выпускник школы сможет получить материальные и служебные преференции 19.
Попечитель Казанского училищного округа Шестаков при разработке нового проекта Положения о казахской учительской школе предложил уделить большее внимание «религиозному вопросу». По его мнению, у казахов отсутствовал религиозный исламский фанатизм, поэтому рекомендовал «учителям избегать всякой бесполезной борьбы и всякого наружного сопротивления существующим у казахов, вовсе не вредных для русского дела, религиозных понятий». Он также предложил ввести преподавание основ Корана в казахской учительской школе, как это было во всех мусульманских учительских школах империи. Такой курс Шестаков считал «безвредным», «поскольку учитель-казах имел в магометанстве знания только об элементарных событиях, и не сможет привести к вредному влиянию на учеников» 20.
Новый проект казахской учительской школы был представлен оренбургским генерал-губернатором Н. А. Крыжановским в 1873 г. Школа представляла собой трехклассное образо- вательное учебное заведение закрытого типа с годичным обучением в каждом классе. Также по проекту предлагалось подготовительное отделение с годовым обучением для учащихся, не владеющих русским языком. Школа подчиняется Министерству народного просвещения и территориально Казанскому учебному округу. Руководство школой осуществлял директор, избираемый из лиц, «известных по своему образованию и педагогической опытности и знакомый с казахским языком» 21. В управлении учебным процессом ему помогал Педагогический совет.
Учебный курс казахской учительской школы составляли следующие предметы: «русский язык, арифметика с кратким курсом геометрии и черчения, география с краткими сюжетами о важных исторических событиях изучаемой страны, особенно России, объяснение местных произведений и явлений природы, основания педагогики и дидактики, чистописание и рисование, магометанское учение, гимнастика, некоторые ремесла – переплетное дело, токарное производство». В 1-м классе подготовительной школы обучение осуществляется на казахском языке по учебникам, составленным на основе кириллицы. Необходимые арабские молитвы в этом планировалось изучать «со слов учителя». Во 2-м и 3-м классах планировалось преподавание чтения и письма арабских текстов, молитвенника и Корана. Преподавание во 2-м, 3-м классах подготовительной школы и во всех трех классах учительской школы происходит на русском языке, кроме мусульманской веры, которая преподается на казахском языке.
Квалификация окончивших полный курс учительской школы – учитель начально-казахского училища. Выпускники должны были отработать шесть лет в начальных казахских школах Министерства народного просвещения. Если они по каким-то причинам отказались работать по назначению Министерства, они обязывались внести в казну сумму, которая была на него затрачена за четыре года обучения, в размере 360 руб. Работающие в должности учителей начально-казахского училища освобождались от всех натуральных повинностей и пользовались привилегиями, предоставленными им новым Положением 22.
После утверждения нового Положения о казахской учительской школе встал вопрос о месте ее открытия. Первоначально предлагалось учебные заведения создать в Уральской и Тургайской областях. Позднее, после проведения финансовых расчетов, члены Комиссии сошлись во мнении о рациональности открытия только одной школы – в Тургайской области. Имелись и противники этого решения. Так, Н. И. Ильминский подчеркивал, что Уральская область территориально тяготела к Хивинскому ханству, с которым у Российской империи были сложные отношения и которое рассматривалось как дестабилизирующий фактор в регионе. Поэтому он считал отказ от создания школы в этой области стратегически неверным решением. В 1874 г. была отвергнута идея об открытии школы в Оренбурге. Главный аргумент сводился к тому, что в городе проживает большое количество татар, что будет способствовать отатариванию казахских учащихся. Поэтому местом локации школы был назван г. Уральск 23.
В 1875 г. Министерство народного просвещения выделило автономный Оренбургский учебный округ, это давало возможности для более продуктивного развиваться сети школ в западном регионе Степного края. Год спустя Оренбург посетил министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, по итогам которого была создана комиссия под председательством самого министра. В контексте решения ее задач, связанных с активизацией процесса открытия инородческих школ в Оренбургском крае, региональные власти вновь заговорили о необходимости открытия казахской учительской школы. Комиссией было предложено основать школу в г. Троицке, «близком к казахским степям и менее доступном татарскому влиянию» [Адельбаева, 2010]. Следует также отметить, что в эти годы велась активная рабо- та по созданию казахского алфавита на основе русской графики. И только 10 июня 1882 г. было принято решение об открытии казахской учительской школы в г. Орске.
Таким образом, подготовка педагогических кадров из казахского населения для начальной школы рассматривалась правительственными кругами Российской империи как важное направление политики интеграции региона в общеимперское культурно-образовательное пространство. Процесс создания первого профессионального педагогического учреждения в казахской степи был инициирован властями в начале 70-х гг. XIX в. На протяжении более чем 10 лет проводилась организационно-методическая работа, формировалась нормативно-правовая база функционирования казахской учительской школы, определялись источники ее финансирования, была предпринята первая попытка создания казахского алфавита на основе русской графики. В работе специально созданной для этих целей Комиссии приняли участие оренбургский генерал-губернатор, губернаторы Уральской и Тургайской областей, чиновники Министерства народного просвещения, Казанского и Оренбургского училищных округов, а также представили казахского населения. В процессе дискуссии были продемонстрированы различные точки зрения чиновников региональной администрации по целому спектру вопросов. Наиболее дискуссионным стал вопрос о языке преподавания в учительской школе и целесообразности введения курса арабской письменности и изучения Корана. Определенная группа чиновников выступала проводником правительственного курса в степи, направленного на ограничение влияния татар на казахское население и распространения ислама в степи. Поэтому они были категорически против введения данных курсов и считали, что языком обучения может выступить только казахский на основе русской графики. Вторая группа участников дискуссии считала, что для более успешной адаптации казахских детей к образовательному процессу и популяризации школы среди населения эти курсы необходимы. В итоге позиция второй группы стала определяющей, и принятое Положение о казахской учительской школе получилось достаточно либеральным по своему содержанию.
Список литературы Подготовка нормативно-правового и организационно-методического обеспечения деятельности первой Казахской учительской школы в Оренбургском генерал-губернаторстве (70-е - начало 80-х годов XIX века)
- Адельбаева Н. А. Исторический опыт становления и развития школьного образования в Казахстане в XIX - начале XX вв: Автореф. дис. … канд. ист. наук / Н. А. Адельбаева. - Уральск, 2010. - 24 с.
- Вахрамеева Е. Д. Просветительская деятельность "Братства святителя Гурия" в Марийском крае / Е. Д. Вахрамеева // Марийский археографический вестник. - 1997. - № 7. - С. 45-49.
- Ефимов Л. А. Системы просвещения нерусских народов и чувашские школы Поволжья и Приуралья в последней трети XIX - начале XX вв. / Л. А. Ефимов. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. пед. ун-та, 2000. - 259 с.
- Исхакова Р. Р. Педагогическое образование в Казанской губернии в середине XIX - начале ХХ вв. / Р. Р. Исхакова. - Казань: Новое знание, 2001. - 280 с.
- Лысенко Ю. А. Региональные органы власти в имперском исламском дискурсе второй половины XIX в. (на примере генерал-губернатора Оренбургского края Н. А. Крыжановского) / Ю. А. Лысенко // Религиоведение. - 2022. - № 1. - С. 5-14.
- Лысенко Ю. А. К вопросу о развитии русско-казахской аульной школы в областях Степного края (середина XIX - начало ХХ вв.) / Ю. А. Лысенко, А. С. Жанбосинова, Ж. О. Омурова // Вопросы истории. - 2021. - № 10-2. - С. 138-147.
- Любичанковский С. В. Политика аккультурации средствами просвещения исламских подданных Российской империи: исторический опыт Оренбургского края (середина XIX - начало XX вв.) / С. В. Любичанковский. - Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2018. - 264 с.
- Павлова А. Н. Основные принципы системы Н. И. Ильминского по просвещению нерусских народов Востока России в последней трети XIX века / А. Н. Павлова // Вестник Чуваш. ун-та. - 2000. - № 1-2. - С. 29-35.
- Рыгалова М. В. Подготовка учительских кадров на территории Степного края и Туркестанского генерал-губернаторства в конце XIX - начале ХХ вв. / М. В. Рыгалова // Культура и время перемен. - 2020. - № 2 (29). URL: http://timekguki.esrae.ru/pdf/2020/2(29)/553.pdf (дата обращения 05. 09. 2022).
- Стурова М. В. Русско-казахские школы в системе государственного управления образовательным пространством Степного генерал-губернаторства начала XX в. / М. В. Стурова // Народы и религии Евразии. - 2018. - № 3 (16). - С. 88-98.