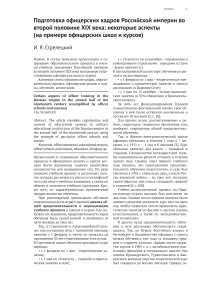Подготовка офицерских кадров Российской империи во второй половине ХIХ века: некоторые аспекты (на примере офицерских школ и курсов)
Автор: Стрелецкий Игорь Яковлевич
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (14), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье показаны организация и содержание образовательного процесса в военно-учебных заведениях Российской империи во второй половине XIX века на примере существовавших офицерских школ и курсов.
Офицерские кадры, образовательный процесс, офицерские школы и курсы, обучение, воспитание
Короткий адрес: https://sciup.org/14219612
IDR: 14219612
Текст научной статьи Подготовка офицерских кадров Российской империи во второй половине ХIХ века: некоторые аспекты (на примере офицерских школ и курсов)
Организация и содержание образовательного процесса в офицерских школах и курсах всецело были подчинены задачам подготовки специалистов для вооруженных сил. По ряду позиций учебный процесс в различных школах и курсах различался в связи со спецификой того или иного учебного заведения, а также по объему и сложности учебного материала. Кроме того, он характеризовался практической направленностью обучения.
При рассмотрении организации обучения определенную роль играет краткий анализ общей продолжительности и периодизации учебного процесса в школах и курсах. Как показало исследование, продолжительность курса обучения была самой разной и колебалась от пяти месяцев до трех лет.
Так, в Стрелковой и Артиллерийской школах она составляла семь с половиной месяцев, начиная с 1 февраля, и почти не менялась на протяжении 35 лет существования этих вузов. В Стрелковой школе обучение проходило в три периода:
-
• с 1 февраля по 1 мая – теоретические занятия;
-
• с 1 мая по 10 августа – стрельба и практические занятия в поле;
-
• с 10 августа по 6 сентября – упражнения в командовании отдельными отрядами из трех «родов оружия» [1].
В Артиллерийской школе курс обучения разделялся на два периода:
-
• с 1 февраля по 1 мая – теоретическое преподавание и практические занятия в пункте дислокации (в Царском Селе);
-
• с 1 мая по 15 октября – только практические занятия (в Усть-Ижорском и Красносельском лагерях).
За пять лет функционирования Главной гимнастическо-фехтовальной школы срок обучения в ней также оставался неизменным и составлял 10 месяцев [2, с. 10].
Для прочих вузов, рассматриваемых в работе, характерны тенденции увеличения или, наоборот, сокращения общей продолжительности обучения.
Так, в Военно-электротехнической школе офицеры обучались в течение 1 года и 7 месяцев, а с 1911 г. – 1 год и 8 месяцев [3]. Курс обучения включал два класса – младший и старший. Специалистов интендантской службы первоначально решили готовить в течение одного года. Однако опыт первого учебного года показал, что одногодичная продолжительность обучения недостаточна, и курс был увеличен в 1901 г. сначала до двух, а после Русско-японской войны – до трех лет, составив, таким образом, три класса: младший, средний и старший [4, с.108].
Учебно-воспитательный процесс на Педагогических курсах вначале был рассчитан на два года. Однако после первого выпуска было принято решение увеличить курс еще на один год, чтобы слушатели могли продолжить практические занятия по физике и другим наукам естествознания, а также по экспериментальной психологии.
В других вузах продолжительность обучения в силу различных обстоятельств сокращалась. Так, на Курсах Восточных языков в Петербурге и Владивостоке офицеры с самого начала обучались три года (в младшем среднем и старшем классах). Однако после закрытия курсов в 1909 г. и с возобновлением подготовки офицеров в специальных школах при штабах Приамурского, Туркестанского и Кавказского военных округов теоретический курс был сокращен до восьми месяцев. Правда, за- тем выпускники командировались на два года для дальнейшего совершенствования в страну, язык которой изучали [5, с. 94].
Особенно резко были сокращены сроки обучения в тех офицерских школах, которые действовали во время Первой мировой войны, поскольку слушателей готовили по ускоренной программе. Если раньше общая продолжительность обучения в Воздухоплавательной школе, а также в школах авиации, включая теоретические курсы, составляла около 9 месяцев, то, к примеру, в 1916 г. выпуски в авиашколах состоялись на 3 месяца раньше установленного срока [6]. Если в Учебной автомобильной роте офицеры обучались в течение 8 месяцев, то с началом войны обучение также проходило по ускоренному курсу, несмотря на то, что рота стала Офицерской школой. Курс обучения в Электротехнической школе во время войны был сокращен до трех месяцев.
Офицерская кавалерийская школа явилась, на взгляд исследователя, тем учебным заведением, в котором особенно тесно сочетались обе тенденции – сокращения и увеличения продолжительности обучения. Причем, эти процессы были обусловлены отнюдь не потребностями военного времени.
До 1896 г. учеба в Кавалерийской школе как для офицеров, так и для нижних чинов начиналась с 1 сентября и продолжалась в течение одного года. Беспрецедентным, с точки зрения диссертанта, является тот факт, что, согласно Положению о школе, слушатели, показавшие в течение года слабые результаты в учебе, могли остаться на второй год «для дальнейшего усовершенствования». Такие меры нередко осуществлялись на практике. Например, к 1 сентября 1889 г. из 18 прибывших на второй год остались 11 человек, а вновь прибывших оказалось 17 человек [7].
Однако в связи с изменением основных задач, поставленных перед школой, курс обучения в ней также претерпел значительные изменения. Начиная с 1896 г., слушатели обоих вновь созданных отделов – офицерского и казачьего – стали учиться почти в два раза дольше – один год и десять с половиной месяцев, приступая к занятиям с 1 октября. Нижние чины – наездники – вместо одного года стали обучаться два года. В учебной кузнице срок обучения остался прежним – один год, но занятия начинались с 1 января [8].
Разграничивая сроки начала обучения слушателей разных категорий, руководство школы стремилось избавиться от массового наплыва кандидатов в одно и то же время. Это, в свою очередь, позволило более планомерно решать проблему размещения офицеров и нижних чинов, другие организационные и хозяйственно-бытовые вопросы.
По итогам первого «пробного» выпуска было решено с 1898 г. курс обучения в офицерском отделе увеличить до двух лет, а в казачьем отделе – наоборот, сократить до десяти с половиной месяцев. Это решение было вызвано тем, что по результатам проверок казачьи офицеры продемонстрировали более высокий уровень кавалерийской подготовки, чем армейские командиры. Таким образом, казачий отдел, по мнению командования, не требовал затраты лишних средств, времени и усилий. Срок обучения наездников был сокращен на один месяц. Был уменьшен и курс подготовки кузнецов для кавалерии – с одного года до десяти с половиной месяцев (с 15 декабря по 1 ноября). Однако прежнее правило было сохранено: тем, кто показывал слабые результаты, разрешалось «доучиваться» до 1 апреля следующего года [9].
Таким образом, учебный процесс в офицерских школ и курсах был организован с учетом конкретных условий. Продолжительность обучения периодически изменялась, поскольку зависела с одной стороны – от объема знаний и умений, которыми должны были овладеть слушатели, с другой – от возможностей финансового и материального обеспечения. Найти оптимальное сочетание этих часто противоположных факторов – вот одна из главных задач, которую решали органы военного управления. Не последнюю роль играл и личностный фактор, как это видно на примере Офицерской кавалерийской школы. Кардинальные изменения вносила и крупномасштабная война, во время которой одни вузы закрывались, а в прочих сроки обучения сокращались до минимума.
Уровень профессиональной подготовки выпускников офицерских школ и курсов напрямую зависел от содержания образовательного процесса . При существовании в целом общей системы это содержание имело свои особенности в каждом из учебных заведений.
Так, в Стрелковой школе основной учебной дисциплиной являлась тактика. Теоретический курс включал главным образом «современные условия боевых действий пехоты, а также организацию германской и австро-венгерской армий». В процессе обучения обращалось внимание на сходства и различия иностранных уставов «строевой и полевой службы» с уставами русской армии.
Затем слушатели переходили к первому этапу практических занятий. Он, как правило, состоял в решении каждым офицером тактических задач в классах на стендах и в самостоятельной разработке четырех письменных задач [10]. Отсюда можно заключить, что руководство школы, ее преподавательский состав уделяли серьезное внимание развитию само- стоятельного творческого мышления будущих батальонных командиров.
Второй этап практической подготовки проходил непосредственно в полевых условиях. Офицеры решали тактические задачи, заключавшиеся в командовании ротами, батальонами, а также отрядами численностью до 8 рот. Таких задач, как правило, было две. Уделялось внимание отработке и других вопросов – например, при действиях на марше, по выбору места бивака с указанием мер охранения и т. п.
Завершающим этапом курса являлись тактические учения, которые «для большей наглядности и поучительности» проводились «на две стороны». Учения организовывались на базе роты Стрелковой школы и одного из прикомандированных подразделений (позже – частей). Например, по данным 1891 г., учения проводились при участии одного из батальонов 145-го Новочеркасского полка, а также подразделений артиллерии и кавалерии, которые раньше, в первые годы функционирования школы, вынуждены были обозначать флажками.
Вторым по значимости предметом считалась огневая подготовка. Теоретические занятия состояли в изучении баллистических свойств ручного огнестрельного оружия, его устройства и применения. Кроме стрелкового оружия, офицеры изучали (в сжатом виде) устройство полевых и осадных орудий, знакомились с новейшими образцами артиллерийских приборов, например, полевых дальномеров. В дальнейшем программа курса артиллерии в Стрелковой школе была значительно расширена и выделена в самостоятельный предмет обучения.
Практические занятия включали решение огневых задач на местности, а также сборку– разборку стрелкового оружия, его эксплуатацию (стрельбу) и ремонт. Основное оружие, которое изучали офицеры, это 4,2-линейная винтовка Бердана, новейшая на то время 3-ли-нейная винтовка Мосина (образца 1891 г.), револьвер Смит-Вессон 3-го образца, а также германское и австрийское пехотное оружие [11].
Кроме двух вышеперечисленных основных предметов, значительное место в учебной программе занимали фортификация, топография и военная история. На практических занятиях по фортификации слушатели занимались вопросами укрытия позиций своих войск, разбивки окопов (как правило, в ходе тактических учений), совершенствовали свои навыки по использованию маскировочных свойств местности. Офицеры также должны были уметь бегло читать карты и планы, производить глазомерную съемку и рекогносцировку, свободно ориентироваться на местности. В числе практических задач по топографии, выполняемых в летний период, были три рекогносцировочные работы, связанные с решением тактических задач. В курсе военной истории основное внимание уделялось детальному разбору сражений последней русско-турецкой войны 1877-1878 гг.[12].
Курс обучения в Кавалерийской школе был несколько более обширным. Анализируя учебную программу, принятую в Кавалерийской школе с 1882 г., автор пришел к заключению, что почти вся теоретическая подготовка была сконцентрирована в отделе эскадронных и сотенных командиров – первом и главном учебном подразделении школы. В других отделах почти все занятия имели практический характер. Это и является, по мнению автора, одной из особенностей обучения в этой школе.
Теоретическая подготовка офицеров первого отдела включала: правила верховой езды, тактику конницы, историю конницы, сведения о ручном оружии, сведения по телеграфному делу и по разрешению сообщений, иппологию (наука о лошадях), правила ковки (в основном – теория, сами выделывали подковы и ковали лошадей только желающие), уставы. Все теоретические занятия проводились в зимний период обучения – с 1 ноября по 1 мая.
В этот же период проводились и практические занятия – езда на лошадях, решение тактических задач на картах и планах, стрельба из ручного оружия, ознакомление со способами и приемами лечения лошадей, бой на саблях, штыках и рубка, топографическое черчение.
В летний период обучения к вышеперечисленным практическим занятиям добавлялись и другие. Например, занятиям по глазомерной съемке и рекогносцировочным работам в школе уделялось особое внимание. Они проводились как верхом, так и пешим порядком. В ходе этих занятий офицеры совершенствовали необходимые навыки: верно «схватывать» характер местности, выделять на ней важнейшие объекты, ориентиры и т. п. Проводились также занятия по кадровому конному учению, окопные и подрывные работы [13].
Как следует из пропорций в распределении учебных занятий, руководство школы старалось извлечь из летнего периода обучения максимальную пользу именно для практической подготовки своих офицеров.
В другом офицерском отделе – езды и выездки лошадей – теоретическая подготовка занимала ограниченное место. Слушатели изучали иппологию, правила ковки лошадей, а также основы их воспитания. Остальные занятия имели в основном практическую направленность. Так, в зимний период обучения офицеры на практике изучали: езду и выездку лошадей, седловку, скаковое седло, гимнасти- ку и вольтижировку, а также способы и приемы лечения лошадей.
Названия и смысл этих занятий в целом понятны и не требуют отдельных пояснений. Другое дело – практическая подготовка слушателей в летний период обучения. Такая, например, специальная дисциплина, как втягивание лошадей в работу проводилась постепенно, с целью выработки лошадьми «ровного большого шага, свободного полевого галопа и быстрого, но не суетливого карьера». В течение июля проводились три дальние поездки продолжительностью в один день. Целью таких занятий было ознакомление офицеров «с порядком производства быстрых и продолжительных движений при условии сохранения возможно больших сил лошади» [14]. Важное место в практической подготовке слушателей занимала парфорсная охота. Выбор местности для каждой охоты проводился с таким расчетом, чтобы расстояние от лагеря, участок быстрого движения по следу, а также количество и размеры препятствий постепенно увеличивались.
Фактически безостановочно (за исключением трех дней для дальних поездок) проходила выездка «ремонтных» лошадей. Серьезное внимание, которое уделялось в школе таким занятиям, по мнению автора, свидетельствует не только о практичном подходе руководства школы к обучению офицеров, но и о бережном и заботливом отношении к лошадям. Благодаря занятиям по выездке «ремонта» многие лошади после ранений, травм или болезней могли снова вернуться в строй, что было особенно важно в условиях ведения боевых действий.
Кроме того, в период обучения офицеры выполняли по 8 упражнений в плавании верхом различными способами.
Менее успешно проходили занятия по скаковому делу. Дело в том, что с момента создания школа не располагала необходимой для этого материальной базой (ипподромом). Поэтому занятия проводились в основном теоретически. Только лучшие удостаивались возможности попрактиковаться в скаковом деле на скорость [15].
Нижние чины – наездники – занимались по схожей программе. Старшекурсники, кроме того, вместе с офицерами принимали участие в дальних поездках, конных охотах и выездке «ремонта». Остальные практиковались в ординарческой службе: готовили лошадей для «начальствующих лиц», ухаживали за ними и т.п.
Ежедневно с семи часов утра шли занятия в учебной кузнице. Три раза в неделю в кузнице, кроме того, проходили практические занятия с офицерами и нижними чинами по теории ковки. Они проводились под руководством преподавателя, которому помогали до 12 старших кадровых кузнечных мастеров. Офицеры наблюдали за выделкой подков и кузнечных инструментов, за правильной ковкой лошадей. Желающие сами принимали практическое участие в этом процессе [16].
Таким образом, из первоначальной программы обучения в Офицерской кавалерийской школе видно, что ее руководство уделяло серьезное внимание глубокой и разносторонней подготовке офицеров и нижних чинов. В то же время подготовка офицеров отдела езды и выездки и нижних чинов – наездников – проходила почти по одной программе. Это в значительной степени распыляло силы преподавателей и не способствовало единой направленности в подготовке офицеров для кавалерийских частей в целом. В дальнейшем, как будет показано в работе, этот недостаток был устранен.
В Артиллерийской школе занятия были организованы следующим образом. Теоретическое преподавание включало:
-
а) по теории стрельбы: изучение баллистических свойств полевых и горных пушек и гаубиц; изучение свойств снарядов; правила стрельбы; уставы и инструкции по артиллерийскому маневрированию;
-
б) по тактике артиллерии: основные свойства артиллерии и ее боевое предназначение; организация полевой артиллерии; боевое применение артиллерии;
-
в) по общей тактике главное внимание уделялось применению артиллерии в бою во взаимодействии с пехотой и кавалерией, что подкреплялось примерами из военной истории [17].
Практические занятия составляли:
-
а) по стрельбе и тактике артиллерии: решение задач по таблицам стрельбы; материальная часть и эксплуатация; упражнения на картах и планах; упражнения в маневрировании с запряженными орудиями; боевая стрельба с маневрированием;
-
б) по общей тактике: вначале офицеры занимались решением тактических задач на планах, а затем решали их в поле.
По окончании обучения проводились практические испытания по решению тактических задач в поле и стрельба по различным целям [18].
Проводились также практические занятия по топографии и иппологии [19].
К главным предметам, преподаваемым в Военно-электротехнической школе, относились: электротехника, а также минное, подрывное и телеграфное дело. Проведение занятий по ним, как правило, возлагалось на офицеров постоянного состава школы. К вспомогательным дисциплинам относились: физика, химия, прикладная механика и строительное искусство. Для проведения этих занятий могли приглашаться также преподаватели гражданских высших учебных заведений.
В ходе исследования автор установил, что учебный процесс в Военно-электротехнической школе проходил по следующим основным направлениям: теоретическая подготовка, практические занятия, научные исследования и практические опыты (испытания различных механизмов, приборов, материалов, в т.ч. и взрывчатых), выполнение работ по электрификации отдельных зданий и районов Петербурга, военно-телеграфное сообщение (с 1896 г.)
Более детального рассмотрения заслуживают практические занятия, которые, в свою очередь, подразделялись на несколько видов. Первым из них были занятия в кабинетах, лабораториях, мастерских и на электростанции и школы. Они проводились в зимний период обучения. Результатом этих занятий являлось составление слушателями проектов по различным отраслям электротехники, минного, взрывного или телеграфного дела. Так, уже с 1895 г. в рамках предмета «электроосвещение» офицеры составляли проекты по освещению казенных зданий, казарм, госпиталей, станций, железных дорог и других крупных объектов. По подрывному делу – готовили работы по подрыву железнодорожных и крепостных сооружений, изучали свойства различных взрывчатых веществ и составов – таких, например, как бездымный порох и мелинит.
В специальных лабораториях проводились работы по физике и по химии. В частности, большое внимание уделялось разделам оптики (для дальнейшей разработки оптической сигнализации в войсках) и акустики (с целью развития телефонного дела). Работы по химии включали, в числе прочих, приготовление различных химических соединений – таких, как нитроглицерин, пироксилин, пикриновая кислота и других, применявшихся в подрывном деле. Занимаясь на электроизмерительной станции, офицеры выполняли практические работы по снятию характеристик с машин переменного и постоянного тока, изучали возможности различных технических приборов, а также проводов и кабелей, заказанных Главным инженерным управлением для снабжения войск [20].
Приведенные примеры наглядно демонстрируют, насколько объемной и многоплановой была практическая подготовка офицеров в зимний период обучения. Вместе с ними занимались и нижние чины, но по отдельной, узкой специальности. Однако основная часть занятий проходила все же в летний период – с середины июня до середины (конца) августа. Летние практические занятия проводились в двух местах – в Усть-Ижорском саперном лагере и в крепости Кронштадт.
Анализируя отчетные документы об этих занятиях, автор убедился, что именно их результаты служили итоговым показателем всей предыдущей подготовки офицеров и нижних чинов. Главный начальник инженеров генерал-лейтенант А. П. Кобелев, в частности, требовал, «чтобы все, что читается на лекциях и могло бы иметь практическое применение в инженерных войсках, находилось на практике и чтобы все работы по специальным предметам были произведены каждым из офицеров собственноручно в присутствии и под руководством руководителя занятия» [21].
Практические занятия в летних лагерях отличались большой сложностью и трудоемкостью, требовали предельной концентрации сил и внимания, строжайшего соблюдения правил, инструкций и мер безопасности, служили серьезным испытанием полученных знаний и навыков [22]. Эти факторы иногда усугублялись тем, что школа ощущала повышенное к себе внимание со стороны как военного, так и высшего государственного руководства. Так, всего через год после создания школы, 24 августа 1895 г., офицеры переменного состава в присутствии самого императора уже «производили работы по взрыванию подводных зарядов на р. Неве» [23]. В дальнейшем взрывные работы – как на воде, так и на суше – стали неотъемлемой частью учебной программы школы и играли решающую роль в усвоении слушателями практических навыков по минному и подрывному делу.
Не менее серьезное внимание уделялось занятиям по телеграфному и телефонному делу. Слушатели занимались постройкой и эксплуатацией воздушных телеграфных линий протяженностью до двух верст, практиковались в постановке и снятии шестовых и кабельных линий. Со временем в практику были включены упражнения по умышленной порче, а затем восстановлению телеграфных линий. Проводились различные работы с полевыми военно-телеграфными, телефонными и оптическими станциями [24].
Следующим разделом практической подготовки слушателей были учебно-ознакомительные поездки на заводы и электростанции. В течение ряда лет офицеры совершали поездки на электрический и кабельный заводы Сименса в Петербурге, на станции Первого акционерного общества электрического освещения Петербурга, на казенный пироксилиновый завод и другие предприятия. С некоторыми из них, например, с заводами Сименса, было налажено тесное сотрудничество по вопросам расширения учебно-материальной базы школы [25].
Таким образом, практическая подготовка офицеров в Военно-электротехнической школе была насыщенной и разносторонней. Однако руководство школы и такой уровень считало недостаточным. Поэтому оно приняло решение, начиная с первых чисел октября и по март (т. е. весь зимний период), после классных занятий до 22 часов ежедневно назначать на работу на учебной электростанции трех офицеров. Там под руководством и наблюдением служащих станции офицеры выполняли обязанности кочегаров, машинистов и мотористов, получая, таким образом, вместе с обучавшимися нижними чинами практику и младших специалистов [26].
Таким образом, организация и содержание учебного процесса в офицерских школах и на курсах диктовались в первую очередь необходимостью готовить для войск специалистов, владеющих не только теоретическими знаниями в избранной специальности, но и способных практически использовать эти знания, уверенно владеть в бою вооружением и техникой, а также обучать подчиненных.
Список литературы Подготовка офицерских кадров Российской империи во второй половине ХIХ века: некоторые аспекты (на примере офицерских школ и курсов)
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 56400, л. 160.
- Малинко В. Справочная книжка для офицера.
- РГВИА, ф.1, оп. 1, д. 74707, л.56.
- Свод военных постановлений.. Кн. 15.
- РГВИА, ф. 369, оп. 2, д. 1736, л.395.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 48494, л. 141.
- РГВИА, ф.1, оп. 1, д. 57883, л. 48.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 49658, л. 159.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 49658, л. 160.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 49658, л. 160.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 48494, л. 141.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 48494. л. 142
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 48494, л. 143.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 76469, л.86.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 48507, л. 12.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 76469, л. 87.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 54572, л. 47
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 64012, л. 76
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 54572, л. 47.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 70261, л. 267.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 65350, л. 52.
- РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 64012, л. 76.